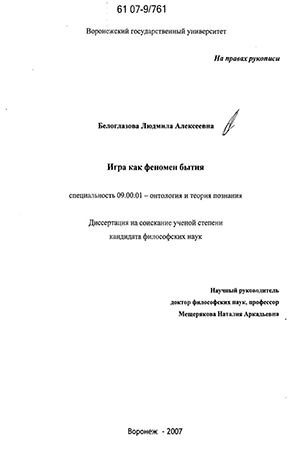Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Бытие и игра: онтологическое корни игры
1.1. Игра как испробование возможностей вопрошающего о себе бытия 11
1.2. Игра в проблемном пространстве свободы 35
Глава 2. «Человек играющий» в контексте европейской культуры
2.1. Игра как феномен культуры 49
2.2. Бытие - к - игре как фундаментальная интенция постмодернистского дискурса 66
Глава 3. Игра вместо бытия: проблема редукции
3.1. Эстетство как форма игрового забвения бытия 82
3.2. «Игровой апокалипсис» как путь к антропологической катастрофе 101
Заключение 114
Библиография 117
- Игра как испробование возможностей вопрошающего о себе бытия
- Игра как феномен культуры
- Эстетство как форма игрового забвения бытия
- «Игровой апокалипсис» как путь к антропологической катастрофе
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Проблематика, связанная с категорией игры, прочно вошла в философский дискурс во многом благодаря постмодернизму, ставшему почти что генеральным направлением современной мысли. «Онтологический вопрос», являющийся на протяжении всей истории развития европейской философии одним из важнейших, в контексте указанного современного направления осмысливается исключительно сквозь призму категории игры.
Однако не с постмодернизма проблема игры начинается и уж тем более не от него следует ожидать её позитивных решений. Есть и другие направления поиска, адекватные онтологическим прозрениям XX - начала XXI вв. Это прежде всего идея о принципиальной незавершённости мира, чреватого множеством возможностей, испробование которых и составляет вечный поиск человека.
Другой существенно важной особенностью современного онтологического дискурса, позволяющего приоткрыть завесу над тайной игры в её неразрывной связи с самой жизнью (... «что наша жизнь -игра!»), является обострённый интерес к таким феноменам бытия, как случайность, свобода, творчество.
Постмодернизм также осуществляет пересмотр классической онтологии, но этот пересмотр с его отказом от всякой субстанциальной глубины имеет своим итогом разрушение диалектики бытия и игры, превращение бытия в игру, а игры в бытие. Платой за подобный онтологический произвол, давно перешагнувший теоретические рамки философии, стала разрушительная мощь игромании, с которой не замедлила столкнуться европейская культура, ориентированная на установки постмодернизма. Популярная формула homo ludens фиксирует игру как существенную характеристику человеческого бытия, не проясняя, однако, какова структура человеческого бытия, впускающая в своё пространство игру. Тем самым вопрос, что превращает человека из играющего в игромана, остаётся без ответа.
Поэтому онтологический анализ игры, вопрос о её соотношении с бытием, видится в настоящий момент чрезвычайно актуальным. Актуальным как в теоретическом, так и в практическом смысле. Более того, это тот редкий случай, когда связь философской теории и непосредственной жизненной практики очевидна
Степень разработанности проблемы. Интерес к игровой
проблематике всегда прослеживался в истории философии, хотя и существовал скорее в качестве некоего теоретического осадка в размышлениях об истоках бытия и специфике человеческой реальности.
Так, отдельные смутные догадки об игре в её тесной связи с вечно становящимся миром, присутствуют у Гераклита, уподоблявшего эон «играющему дитя», то есть игра здесь рассматривается как своеобразная модель вселенной. На ранних этапах формирования европейской метафизики ещё сохраняется представление о множественности возможных путей развития становящегося мира, которое уже с трудом вписывается в рамки рационалистической логики в её классическом варианте. Мысль о том, что мир управляется разумной волей, формирует представление об игре как сценической роли, предписанной свыше. Наиболее отчётливо эта позиция представлена у Платона. У Аристотеля уже явно присутствует иная (преобладавшая вплоть до Нового времени) тенденция рассмотрения игры в её прикладных возможностях досуга и воспитания.
Отдельные догадки об игре присутствуют в работах Паскаля. Дальнейшее философско-теоретическое осмысление игровой деятельности связано с развитием классической немецкой философии, прежде всего с именем И. Канта. В его работах на первый план выдвигается эстетический аспект игры, в контексте которого впервые появляется постановка проблемы «искусство и игра».
Немецкие романтики Ф. Шиллер и Ф. Шлегель рассматривали игру как способ развития интеллектуальной деятельности, как одну из форм нравственности, непосредственно связанную с искусством, где в «свободном общении» человек реализует свою индивидуальность.
Однако в проблемном поле рационалистической философии в её
классических формах невозможна постановка вопроса об онтологической
самоценности игры и её соотношении с бытием, так как адекватная самому
рационализму предметность располагается в сфере замкнутой
самотождественной субстанциальности, которая исключает проблемы
наличия альтернативного мира ( что есть основное условие игры). Только
на пути переосмысления традиционного рационализма игровая
проблематика обретает соответствующее ей теоретическое пространство,
предполагающее спонтанность существования, свободу, непредзаданность,
случайность. Существенный шаг в изменении классических
представлений о природе случайного и возможного был впервые осуществлён в рамках математической теории вероятностей, предпосылки которой связаны с подсчётом вероятности в азартных играх (середина XVII века). Постепенно случайность и неопределённость из «недостатков нашего разума» (Спиноза) превращаются в ключевые аспекты, стоящие у истоков бытия, и входят в поле науки как самостоятельные объекты исследования. Не имея возможности подробно рассматривать обозначенные теории, необходимо особо подчеркнуть, что во многом благодаря математическим концепциям, обосновывающим случайность,
появляется возможность теоретических размышлений об игре как автономном феномене без превращения последней в служебную функцию.
Своеобразным итогом европейской мысли в отношении феномена игры, его сущности и функций, явилось фундаментальное исследование И. Хейзинга «Homo ludens», где вся человеческая культура в ретроспективе рассматривается сквозь игровую призму. Игре как феномену культуры посвящены работы М. М. Бахтина. Акцент на эстетическую сущность игры явно прослеживается у Х.-Г. Гадамера, во многом опиравшегося на разработки Хейзинга. Интересные игровые концепции были предложены Р. Кайуа и Э. Берном, Г. Бейтсоном.
Особое место в рассмотрении интересующей нас проблематики принадлежит Э. Финку, впервые осуществившему анализ игры как одного из феноменов человеческого существования в контексте философской антропологии. Феноменологическая онтология в лице Ж.-П. Сартра вводит в сферу своих интересов игру как необходимую составляющую своей концептуальности. Во второй половине XX в. игровые концепции обретают особенную популярность в философии во многом благодаря деятельности Йельских постструктуралистов, среди которых, пожалуй, наиболее авторитетным является Ж. Деррида. На современном этапе развития философской мысли проблема игры наиболее явно присутствует как фундаментальная интенция постмодернистского дискурса в работах Р. Барта, Ю. Кристевой, Ж. Делёза, Ж. Бодрийяра.
Проблема игры составляет содержание размышлений отечественных психологов, среди которых особую важность представляют работы Д. Б. Эльконина, Л. С. Выготсткого, А. Н. Леонтьева, Д.Н. Кавтарадзе.
Существенный вклад в разработку указанной проблемы внесли Б. В. Марков, П. С. Гуревич, Л. Т. Ретюнских, М. Т. Рюмина, В. М. Розин, Н. Б. Маньковская, М. Ф. Овсянников, В. О. Пигулевский, М.Н. Липовецкий, Ю. М. Лотман, И. В. Кузин, В. А. Кравченко, И. П. Ильин, М. Р. Жбанков, К. Б. Сигов, Л. Н. Столович, А. А. Тахо-Годи, В. И. Устиненко, А. К. Якимович, А. Б. Демидов, А. В. Вислова, И. Е. Берлянд, Т. А. Апинян и др.
Вместе с тем, несмотря на достаточно интенсивную разработку проблемы игры классической мыслью и современной философией, ещё не получил достаточного осмысления вопрос о соотношении бытия и игры. Это в значительной степени обусловлено тем, что онтологический анализ игры становится возможным лишь с момента становления неклассического философствования, которое открывает новые горизонты для исследования обозначенной проблемы не только в отдельных её эмпирических проявлениях, но как фундаментальной особенности бытия. Думается, что именно в области «фундаментальной онтологии», а также «феноменологической онтологии», становление которых непосредственно связано с феноменологией Э. Гуссерля, возможен выход к концептам бытия и игры в их сопряжённости. Соответствующий анализ обнаруживает
не только глубинный, позитивный смысл игры, но и негативные возможности, скрытые в игре, а, следовательно, и опасность абсолютизации игрового принципа в постмодернистской культуре.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является анализ игры как феномена бытия, обнаружение её онтологических корней с последующим выходом в пространство современной культуры, ориентированной на игровые установки постмодернизма. Задачи исследования:
концептуализация проблемы игры в пространстве философской онтологии;
анализ игры в проблемном пространстве свободы;
выявление соотношения бытия и игры в пространстве человеческой бытийности (проблемы, противоречия); анализ возможных путей редукции бытия к игре в контексте постмодернистской онтологии. Объект исследования: Бытие и игра.
Предмет исследования: Проблемно-онтологическое пространство игры (решения, противоречия, перспективы). Методы исследования:
феноменологический метод, обнаруживающий структуры самораскрывающегося бытия в имманентных ему формах явленности, которые собственно и есть феномены;
историко-философский метод, выявляющий основные подходы к игре в контексте становления игровых форм европейской культуры;
логико-проблемный метод, связанный с обнаружением основных проблемных узлов и выявлением онтологических противоречий игры. Научная новизна работы:
осуществлён целостный анализ игры как онтологического феномена;
выявлен онтологический статус игры, что позволяет преодолеть ограниченность и противоречивость любого дискурса, не доходящего до экспликации предельных онтологических оснований исследуемого феномена;
обнаружена связь онтологии, задаваемой постмодернизмом и выдаваемой им в качестве преодоления «тотализирующего дискурса», с социокультурной ситуацией «игрового апокалипсиса». На защиту выносятся следующие положения:
Обоснование игры следует искать в существенных определениях
бытия как принципиально незавершённого, включающего в себя
случайность, ветвящуюся множеством субстанциально
непредопределённых возможностей. В игре происходит обратимое, а следовательно лишённое трагического риска испытание возможностей, через разыгрывание которых человек вводит их в пространство
собственной бытийности, а значит и собственного жизненно важного выбора;
игра рассматривается как глубинный момент человеческой реальности, где её открытость всегда подразумевает возможность другой жизни, что позволяет заглянуть «за край», чтобы узнать меру свободы, конституирующей приемлемый для человека мир и самого человека (бытие-в-мире);
игра как один из путей реализации свободы прерывает действительность посредством творческого выхода за пределы наличной данности. При этом игра обретает реальность в бытийном пространстве и имеет для играющего не символический, знаковый, а жизненный, бытийный характер.
входя в пространство игры, человек пытается овладеть случаем и утвердиться в собственном бытии как неслучайном. Удача для игрока выступает онтологическим оправданием его существования. Азартная игра - это в первую очередь желание оправдания собственного бытия перед лицом случая, победа над случаем.
бытие как незавершенная открытость и игра как способ вхождения в неё, сопряжённые в пространстве человеческой бытийности, рождают способы, которыми человек присваивает бесконечный простор бытия. Тем не менее, игра, сопринадлежная в своих истоках исходным структурам человеческого бытия, всегда содержит возможность отрыва от своей бытийной основы. Отсюда помимо позитивных смыслов игры, возможны и её разрушительные аспекты, связанные с редукцией бытия к игре. Именно здесь следует искать истоки игромании;
онтология современности, испытывающая на себе непосредственное влияние постмодернистского подхода, имманентной себе тенденцией имеет подмену бытия игрой; в культуре, реализующей постмодернистские принципы, происходит смысловой сдвиг в сторону понимания мира как в своей сущностной основе представляющего собой чистую видимость, простую совокупность изображений, вследствие чего активно эксплуатируется способность игры имитировать реальность.
Практическое значение диссертации:
результаты исследования, представленные в работе, могут способствовать более глубокому пониманию сложной и противоречивой проблемы игры на уровне фундаментального философского и общенаучного дискурса; создают перспективу дальнейшей разработки указанного вопроса в контексте пересечения психологических, культурологических, философско-антропологических и иных научных сфер, посвященных попыткам разрешения проблемы игромании;
материалы диссертации могут быть использованы в преподавательской деятельность при чтении общих курсов по
философской онтологии, истории философии, культурологии, а также специализированных курсов, посвященных различным аспектам как философской, так и психологической антропологии.
Апробация работы: Положения и выводы диссертации нашли отражение в 5 публикациях автора. Материалы работы докладывались на ежегодных заседаниях научной сессии факультета, пленарном заседании, а также IV Российском философском конгрессе «Философия и будущее цивилизации» (г. Москва, 2005).
Структура и объём работы: Диссертация изложена на 137
страницах машинописного текста, состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы, включающего 222 источника (из них 214 отечественных и 8 иностранных).
Игра как испробование возможностей вопрошающего о себе бытия
С тех пор как голландский историк, культуролог И. Хейзинга счёл необходимым восполнить пробел в череде образов, создаваемых на пути осмысления человеком самого себя, в пространстве европейской мысли появился и прочно закрепился термин - Homo ludens, «человек играющий». Это новое слово в постижении человека оказалось вполне закономерным продолжением европейской философской традиции поиска исчерпывающего определения человеческой сущности как таковой. Собственная логика развития классической философии, расположенной в сфере субстанциализма, неумолимо и однозначно требовала встроенности человека в определённые «сущностные» границы. Homo ludens встал в общий ряд наравне с homo sapiens, homo simbolicus, и homo faber. Необходимость нового определения назрела, поскольку, по мнению самого Хейзинга, до сих пор не удавалось отчётливо обнаружить демаркационную линию между тем, что есть собственно человеческое в человеке и тем, что он унаследовал как существо природное.1
«Человек играющий» явился тем закономерным результатом, который в определённом смысле увенчал собой теоретические усилия прошлого не только в отношении «антропологического вопроса», но и вопрошания о самом бытии. Это новое определение, обнаруженное изначально в историко-культурологическом пространстве практически сразу перешагнуло обозначенные теоретические границы и не просто прочно вошло в философский обиход, но и стало своего рода знамением времени. Постмодернизм, уже давно переросший рамки просто одного из литературно-эстетических течений и превратившийся в генеральную линию современного философствования, с восторгом принял в своё лоно невиданный доселе образ homo ludens. И более того, провозгласил, по сути, это откровение вершиной и глубиной понимания не только человека, но и мира вообще (мир как «видимость», совокупность изображений, текст).1
Тем более удивительно, что этот «властитель дум», игровая направленность которого не вызывает сомнений ни у адептов, ни у критиков постмодернизма, так мало в сущности способен прояснить, что-либо в отношении самого феномена игры, взятого в его имманентной самости.
Пересмотр классической логики, ориентация на рекомбинацию следов прошлого, игра остатками смыслов, в конечном итоге, произвол в онтологии - вот лишь некоторые элементы из идейного багажа постмодернизма. Поверхностность восприятия, «постмодернистская чувствительность», основанная на восприятии хаоса как единственной онтологической данности не могли не способствовать переживанию реальности в духе «страстного наваждения игры» (слова Ж. Бодрийяра). «Отсутствие трансцендентального означає-мого раздвигает поле и возможности игры значений до бесконечности» , -пишет Ж. Деррида, одна из важнейших фигур в постмодернизме. Новая реальность, или как её обозначает Бодрийяр, гиперреальность (смысловой акцент здесь подчёркивает не саму реальность, а образы образов) истолковывается в терминах уже не структуры и различий, а в терминах игры, возведённой в абсолют.
При этом, несмотря на замену понятий бытие и истина понятиями игры, истолкования и знака (начало чему, по мнению Деррида, было положено ещё в критике метафизики Ницше), тайна самой игры все равно остаётся непроницаемой, впрочем, постмодернизм к этому и не стремится.
В силу самой специфики постмодернистского дискурса вопрос о бытийных основах игры, её онтологическом статусе, о соотношении бытия и игры принципиально не может быть поставлен в контексте соответствующим образом ориентированной философии. Более того, требование онтологического анализа игры здесь способно вызвать лишь скептическое недоумение, мягкий (или, напротив, весьма агрессивный) упрёк в приверженности к консерватизму. И действительно, осмысление бытийной проблематики человека теряет всякий смысл в ситуации, когда «...мыслить можно лишь в пустом пространстве, где уже нет человека», а стремление «исходить из человека в поиске истины» объявляется нелепым и несуразным.1 В свете сказанного вспоминаются слова М. Хайдеггера, словно предчувствовавшего ситуацию «антропологического сна» (Фуко), о необходимости пересмотреть соответствующую онтологию - «проредить и просветлить те просторы, в пределах которых бытие вновь могло бы принять человека...в некую изначальную сопряжённость с ним».2
Формула homo ludens с момента своего появления обросла множеством интерпретаций, но её содержание, по сути, является неизменным и фиксирует игру в качестве существенной характеристики человеческого существа. И всё же остаётся непонятным, каким должен быть способ самого человеческого «быть», чтобы впустить игру. Или, иначе, что делает человека игроком. А на сегодняшний день было бы своего рода теоретической близорукостью обойти вниманием вопрос о том, что превращает человека из играющего в игромана.
Сегодняшняя философия, вводящая концепт игры в теоретическое пространство мысли, намеренно провозглашает свою чистую условность, отсутствие всякого значения для «мира», «индивида», «общественного благополучия».3 Отсюда становится возможным впечатление пустоты, надуманности и несерьёзности избираемых ею тем. Казалось бы - вот торжество теоретического анархизма П. Фейерабенда и провозглашённого им принципа «anything goes».4 Обнаруживаемые в современном философском дискурсе проблемы, если «освободить их от блестящей «упаковки», производят впечатление «компилятивных» и «банальных»1. При попытке выйти к основаниям новейшего постмодернистского типа философствования трудно отделаться от всё более явного ощущения «безумного новаторства» , призванного только в качестве ловкого трюка разгонять «скуку постиндустриальной цивилизации».3
Тем не менее, интерес к проблеме игры вряд ли можно списать на недостаток действительно серьёзных и глубоких вопросов, или же на то, что само философствование уже изжило себя в наши дни. Против этого свидетельствует тот факт, которого самого по себе уже достаточно, чтобы стать содержанием мысли философа. Речь идёт о факте, очевидность которого никто не возьмётся отрицать - об игромании. Эта ситуация, стремительно вторгшаяся в жизнь человека и общества, не понаслышке знакома психологам, приравнивающим её к тяжёлой болезни. И неудивительно, что именно психология, по сути, впервые обнаружила этот феномен во всей его разрушительной мощи, ибо на сегодняшний день фигура профессионального психолога есть та первая инстанция, прибегая к которой человек лелеет надежду сгладить всякий душевный разлад.
Однако психология (как, впрочем, и любая другая наука) нуждается в том обосновании, которое делает её выводы, рекомендации, советы и т. д. не произвольным мнением психолога или его чисто эмпирическим прозрением, а суждением, вытекающим из онтологических глубин человеческой субъективности. И это последнее есть «святое» дело философии и только философии.
Исследование феномена игры в контексте психологии имеет достаточно долгую историю, в ходе которой сложился обширный спектр исследовательских позиций, как в отечественной, так и в зарубежной литературе.
Практически целым столетием ранее появления самой формулы homo ludens в познавательную орбиту психологии была вовлечена игровая проблематика (прежде всего применительно к периоду детства, ибо здесь игра представлена наиболее очевидным образом). Были созданы первые общие теории игры К. Грооса и Ф. Бойтендайка, послужившие теоретической базой дальнейших разработок проблемы игры как самостоятельной области исследования, в том числе в работах отечественных психологов Д. Б. Эльконина, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и др. В достаточно короткий промежуток времени интерес к феномену игры перерос рамки собственно психологии. Появилось обширное поле исследований, направивших фокус своего внимания на проблему игры. Безусловно, в значительной степени этот интерес был спровоцирован именно появлением концепции «человека играющего» Хейзинга.
На сегодняшний день тематическая направленность большинства современных разработок обозначенной проблемы располагается в сфере социологии, культурологии, литературоведения и целого спектра как естественных, так и гуманитарных наук. Охватить всё многообразие ракурсов видения данного вопроса представляется весьма затруднительным, поскольку сама теоретическая область игры простирается в рамках весьма отдалённых друг от друга сфер - от математики и экономики до эстетики и лингвистики. Тем более очевидным становится дефицит собственно философских исследований феномена игры. Ситуация «игрового апокалипсиса» обнаружила, что слишком многое в культуре совершилось вне философии и без неё. Оказалось, что полностью сциентизированным «наукам о человеке», на которые было возложено столько надежд, начиная с эпохи Просвещения, совершенно нечего предложить человеку, столкнувшемуся не только с тем позитивным значением, которое игра имеет в его жизни, но и содержащимися в ней негативными возможностями, когда, казалось бы, безобидное увлечение игрой перерастает в болезненно-непреодолимую тягу.
Игра как феномен культуры
Развёртывание темы диссертационного исследования требует обращения к более широкому контексту, связанному с анализом «человека играющего» в логике европейского культурного процесса вообще. С учётом всего сказанного в первой главе уточнение этой задачи видится как раскрытие исторической перспективы становления европейской философской мысли, одним из существенных измерений которой является закрепление стремления человека к поиску различных путей укоренённости в бытии. Нельзя конечно не признать, что сама постановка вопроса о соотношении бытия и игры в чистом виде в пространстве европейской метафизики представляется проблематичной ввиду специфики самого традиционного дискурса, обращенного прежде всего к себетождественной однозначности бытия и избегающего самой постановки вопроса о наличии иной возможной реальности. Тем не менее, этот факт не исключает наличия в онтологической проблематике, пусть и не в концептуально оформленном виде, но в качестве некой скрытой нетематизированной тенденции, вопроса о сложности анализируемой нами онтологии.
Поиск подлинности (или иначе - смысла) человеческой бытийности является важнейшим моментом европейской метафизики и мироощущения взращённого ею человека на протяжении всей её более чем двухтысячелет-ней борьбы за духовно-смысловое единство с миром и собственную онтологическую значимость. Фундаментальные смыслы, обнаруженные на этих путях героями мыслящего разума, призваны были исключить капризы слепого своеволия неосвоенного, неосвещённого человеческим духом универсума. И уже в этом моменте складывания традиционной рациональности проявляется противоречие, приведшее к развенчанию античного космоса. Противоречие между изначальным стремлением человеческой природы к полноте и укоренённости в мире и теми способами и путями, на которых эта укоренённость обнаруживается.
Экзистенциальная глубина человека, его субъективность во всей её полноте не может быть целиком удовлетворительным образом сведена к рациональной логике, выносящей за скобки многие существенные моменты человеческого бытия. А именно, на периферии рационально обжитого космоса оказывается человеческая целостность в том её аспекте, где происходит смыкание и совпадение личностных жизненных смыслов и бытия. Космос идеальных сущностей, фиксируемых разумом, гармония целостного универсума спасали человека (по крайней мере, человека как полновластного обитателя космоса идей) от удела быть жертвой внешних обстоятельств, ибо всё отрывающееся многообразие текуче-изменчивого сущего складывалось в универсальный строгий миропорядок. Но этот миропорядок был обращен к человеку, взятому лишь в его способности к рационально-логической деятельности.
Экзистенциальное человеческое переживание негарантированности собственного бытия выливается в потребность превратить многообразную живую реальность в логический конструкт, претендующий охватить весь мировой порядок. Интересно в этой связи высказывание В. А. Подороги, сравнивающего человека с фантастическим животным, «...которое в большей степени, чем любое другое животное, тщится оправдать условие существования: человеку должно время от времени казаться, что он знает, почему он существует, его порода не в состоянии присутствовать без периодического доверия к жизни ...». Но в античности это доверие к жизни обреталось только в том плане, в котором человек мыслился как существо, обращенное к источнику космических смыслов не всей своей целостностью, а лишь разумной её стороной. Смысл человеческого бытия сводился к необходимости мирового порядка, который выглядит как полная безучастность в отношении собственной судьбы. Отсюда основной концепт античной метафизики - всеобъемлющая мировая необходимость, выраженная в категориях закона, логоса, ар-хэ.
Но на уровне индивидуального переживания, отошедшего на задний план как не вписывающегося в теоретические построения, звучит мотив человеческой судьбы как предопределённости свыше, неизбежности, приговорённое. То есть, необходимость, обнаруженная усилием рациональной мысли, при её перемещении на уровень непосредственно человеческих жизненных смыслов теряет свою «успокоительную» окраску и обретает оттенок слепой случайности. В этом контексте феномен игры осмысливается как наиболее достойный и даже единственно возможный способ пребывания человека в мире, далёком от совершенства идеального космоса. Ибо именно принятие жизни как игры приближает человека к общей целостности бытия, поскольку, как пишет А. Тахо-Годи, «бытие надчеловеческое, космическое, вечное понимаются не иначе как игра, беспечная и неразумная, увлекательная и замысловатая».1 Как раз такое представление об игре как естественном состоянии универсума обнаруживается у Гераклита, сравнивающего вечность с игрой ребёнка, «не имеющего представления о том, что такое хаос, зло и смерть».2
Представление Платона о человеке как игрушке богов означает, что достоинство человеческой жизни в том, чтобы жить, играя в «прекраснейшие игры», ибо люди большей частью куклы, и «лишь немного причастны истине». Человек как придуманная игрушка богов - вот наилучшее его назначение. В земной жизни подражание божественной игре есть способ сохранения добродетели. Как отмечает А. Лосев, для Платона игра есть «неизменное исполнение только одних законов, неизменное и вечно повторное их воспроизведение».3
В жизненном мироощущении древнего грека мировой космический закон, обращенный лицом к человеку, обретал грозные очертания судьбы как предопределённости свыше; человек способен лишь обнаружить и зафиксировать свою причастность к безличной суровой необходимости и только внешним образом признать и принять в качестве собственной ноши. Отсюда рождается представление античного человека о судьбе как разыгрываемой театральной роли, о жизни как игре, озвученное и рационалистом Платоном и мистиком Плотином. Вне этого сознательного исполнения роли жизнь предстаёт лишь как бессмысленная череда человеческих увёрток. Разве не этот момент противоречивости античного мировоззрения фиксирует Ф. Ницше, говоря о трагическом духе древних греков вопреки расхожему представлению о беззаботной греческой весёлости. В соответствии с его мыслью, обострённое стремление человека-гражданина идеального космоса к красоте, увеселениям и празднествам проистекает «из недостатка, лишения, из меланхолии, из чувства боли...». В «дионисической исступлённости» бытие снова обретает многомерность и изгнанная из сферы умопостигаемых сущностей стихийность снова возвращается бытию. Но приоритет в системе жизненных смыслов античного человека принадлежит вовсе не той игре, в которой происходит потеря, ускользание от себя, растворение в первоначальной непосредственно-природной стихии. Игра должна вестись играющим в полном осознании собственной роли, посредством которой он становится причастным к мировому порядку. «Жизнь человека управляется божеством, которое само играет без ясно выраженной цели».2
Таким образом, оказывается, что на заре формирования европейской метафизики в ней ещё присутствовало смутное представление о множественности возможных путей развития беспрестанно становящегося мира, которое уже с трудом вписывалось в рамки рационалистической логики. Осознание игры как признака вовлечённости человека в неизвестный ему общий поток становления постепенно вытесняется мыслью о том, что всё управляется разумной волей.
При этом необходимо помнить, что игровая реальность, в которой призван пребывать человек, не есть притворная реальность, «игровой камуфляж» действительности или «заменитель пустующей реальности»1. Здесь игровой и жизненный план совпадают. Не случайно, что Платон отказывает искусству в праве живописать трагедию человеческой жизни, считая, что «трагедия жизни выше трагедии вымысла». Любовь к Року, воспетая как идеал стоической жизни, спасает от рабства слепой судьбы, но отдаёт во власть судьбы «логичной», где сам логос выступает как объективный порядок бытия. Перед лицом этого порядка остаётся только играть или не быть вовсе. Единственной альтернативой, обнаруженной в пространстве античного космоса и способной сохранить достоинство человека, является самоубийство. Поэтому «...вся человеческая жизнь представляется уже не просто беспринципной игрой, но игрой сценической, управляемой мудрым хорегом, умело распределяющим роли, жёстко следящим за их исполнением и не допускающим для актёра никаких вольностей вне текста».3
Таким образом, античный дух, взятый в формах своей всеобщности, реализует себя в направлении превращения бытия в мысленный логический конструкт, где духовно-смысловое единство могло быть открыто только человеку как носителю идеи. В этом пространстве правят «полное чувство меры, самоограничение, свобода от диких порывов, мудрый покой бога», то есть осмысление человека исключительно в терминах порядка и разума.
А. Камю в попытке объяснить странную склонность человека к театрам и зрелищам, приходит к выводу, что ум перестаёт безучастно восхищаться игрой и вступает в неё, когда с надеждами покончено. Эта мысль нашего современника удивительно созвучна той, что высказал римский стоик Эпиктет. Взращённый, по выражению Б. Рассела, утомлённым веком и взывавший скорее к терпению, чем к надежде, этот мудрец видит высшее достоинство жизни лишь в одном. Для него человек - актёр в пьесе, где уже распределены все роли. Остаётся только долг - сыграть с честью, какова бы ни была роль, сыграть, несмотря на то, что даже плохое исполнение ничего не изменит в космическом целом. И действительно, что ещё остаётся, как не подыграть навязанной чуждой силе, совладать с которой человек не в силах. Как свидетельствует Паллад Александриец: «Наша жизнь - сцена...и забава...Или учись играть..., отложив заботу, или неси страдания».1
Эстетство как форма игрового забвения бытия
Всякий раз, когда предпринимаются попытки описать сегодняшнюю действительность, ни один критик не может оставить вне поля своего зрения странно-уникальный феномен, в зародышевой форме обозначившийся уже на рубеже XIX- XX вв. Этот феномен выражался в обострённой эстетической чувствительности, манифестировавшей приоритет эстетики перед этикой, в чём виделся ярчайший проблеск свободы, нашедшей, наконец-то, путь из тупиков рационализма к дионисийской стихии жизнеутверждающего буйства.
Мысль Ницше о том, что мир может быть истолкован и оправдан только как эстетический феномен, и появившееся немногим позднее определение человека как homo ludens, послужили благодатной интеллектуальной почвой, способной породить безудержные спекуляции на поле эстетизма. И это событие не замедлило явить себя в качестве одной из самых узнаваемых черт настоящего времени. Теперь «...творцу кажется уже недостаточно быть просто художником, но надо быть ещё человеком-артистом». И само искусство рассматривается в качестве Art Ludens - искусства играющего. Но вряд ли это вызвало бы столь настойчивый интерес со стороны исследователей самого широкого профиля, если бы эта эстетико-игровая проблематика сосредотачивалась исключительно в теоретической плоскости искусствоведения.
Не касаясь в настоящий момент вопроса о соотношении искусства и игры как таковых (что само по себе способно составить тему отдельного исследования), мы попытаемся сосредоточить внимание на проблеме, фиксирующей экспансию эстетски-игрового принципа на все уровни бытия. Вот как этот момент обнаруживается Бодрийяром в работе, название которой («Прозрачность зла») говорит само за себя: «Наше общество достигло всеобщей эстетизации, все стали потенциальными творцами; всё ничтожество мира оказалось преображено эстетикой».
Феномен эстетизма как стремление к прекрасному издавна привлекал к себе внимание не только художников, людей искусства, но и всех, кто, так или иначе, обращался к смысложизненным вопросам. Достаточно лишь вспомнить величественные фигуры эпохи Возрождения. Непреодолимая тяга к красоте людей, даже не очень развитого (с точки зрения общепринятых норм) эстетического вкуса, не оставляла в покое мыслящие умы. Ибо действительно поражает, что любая, даже самая неприглядная вещь, явление или действие, облечённая в оболочку внешней красивости, да ещё сдобренная словесными изысками, способна предстать в самом привлекательном, манящем образе. Храм красоты, дарующей наслаждение, никогда не останется без своих служителей, а соблазн отождествления красоты и истины необычайно могуществен и притягателен. Но при этом нельзя оставить без внимания тот момент, что погружение в область мастерства, искусства, жажда эстетства -та пограничная область, от которой так легко сделать шаг к тому, что Хай-деггер называл забвением бытия.
Эстетизм как объект философской рефлексии впервые обнаруживается у Кьеркегора. Но необходимо во избежание путаницы, пояснить, что кьерке-горовский «поход против эстетизма» (П. Гайденко) устремлён не на эстетизм как стремление к красоте вообще, а как на перемещение жизненных смыслов на поверхность чувственного наслаждения. Эта жизненная позиция и обозначена как эстетство. Неслучайно фундаментальная работа Кьеркегора «Или-Или» известна и под названием «Наслаждение и долг».
Наиболее остро эта проблема переживалась и высказывалась теми, кто, казалось бы, безоговорочно должен был ратовать за торжество эстетических принципов в отношении к действительности. Так, примечателен в этом смысле протест против искусства, (точнее против «баумгартеновской троицы» красоты - добра - истины), высказанный Л. Толстым в труде «Что такое искусство?». Так, он пишет: «С красотою же истина не имеет даже ничего общего и большею частью противоположна ей, потому что истина, большею частью разоблачая обман, разрушает иллюзию, главное условие красоты». И далее: «Чем больше мы отдаёмся красоте, тем больше мы удаляемся от добра».1 И, наконец, едва ли не самая важная его мысль: когда человек теряет нравственный смысл, он делается особенно чувствителен к эстетическому.2
И действительно, постмодернизм сделал невозможной всякую этику, в которой он с лёгкостью усматривает отголоски «метарассказов» как тотали-зирующих дискурсов. Децентрированный мир и соответствующий ему «обитатель» нуждаются не в этике, которая немыслима без отсылки к императиву и должнствованию, а именно в эстетике, средствами которой легко создаётся красочная иллюзия полноценного содержания. Примечательно, что искусство, говоря словами М. Цветаевой, есть «тот гений, в пользу которого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона», «обольститель нашей совести»3. Процитируем слова Бодрийяра: «Эстетика - это игра знаков, это искусственность, искусственность - это обольщение. Всякая этика должна разрешиться в эстетику. Для кьеркегоровского обольстителя, как и для Шиллера, Гёльдерлина, даже Маркузе, переход к эстетике означает высочайшее движение, которому только может отдаться род человеческий». Но далее он продолжает, что характер эстетики «...не божественный, не трансцендентный, но ироничный и скорее дьявольский...».4
Уже давно подмечено, что великие творцы не «эстетствовали». Напомним, что Ренессанс - эпоха, явившая миру неоспоримые образцы завораживающей своим великолепием красоты, в то же время открыла и беспримерные злодейства, чудовищную безнравственность. Неслучайно А. Ф. Лосев однозначно характеризует эстетику этой эпохи как звериную и при этом не лишённую, по его словам необычайной красочности и выразительности.5
Людям, способным к высочайшим творческим взлетам, когда сам дух говорит в них, ведомы также и глубочайшие бездны падения. Искусство, безусловно, есть царство и торжество красоты, но эта красота и погоня за ней всегда чревата подменой жизни её символами, а бытия - игрой. Противоречивость искусства и нравственности, красоты и добра всегда наиболее остро ощущалась именно теми, кто, казалось бы, безоговорочно должен поклоняться красоте, т. е. гениями искусства.
Многие из них прошли стадию романтического служения эффектным формам и образам. Но, как бы очнувшись от сладостного дурмана красоты, освободившись от её чар, прозрели, что на руинах былой, жизненной реальности воздвигнуты её призрачные подобия. «Дневник обольстителя» в работе Кьеркегора «Или-Или» пронизан духом утончённой чувственности, изысканного наслаждения, но сразу вслед за этим он излагает позицию, уже лишённую всякого эстетства. Цветаева, размышляя, что важнее в поэте — человек или художник (интересно уже само это противопоставление) - с горечью признает, как легко принять силу за правду, а чару за истину. Ещё Платон, размышляя о причинах нравственного упадка, считал, что поэт не должен быть публичным, чтобы не воцарилось беззаконие и бесстыдство слишком далеко зашедшей свободы. То есть уже у Платона мы обнаруживаем мысль, которую Хейзинга, размышляя над феноменом эстетства как симптомом кризиса современной культуры, сформулировал следующим образом: «Искусство не знает долженствования. Его не сдерживает никакая дисциплина духа. Творческим импульсом ему служит воля».1 А воля как ничем не сдерживаемый своевольный порыв всегда содержит в себе разрушительные возможности. Поэтому для европейской философии, начиная с античности, свойственно глубинное стремление ограничить пространство чистой воли в рамках рационального.
Почему античный идеал калокагатии — единства прекрасного и доброго — так органично вписывавшийся в религию красоты древних греков, в нашу христианскую эпоху обнаруживает глубокие противоречия? Для грека религия красоты - не отстранённая от подлинной жизни созерцательность, это и есть сама жизнь. Эстетизм античного человека не уводил его от бытия, не перемещал на поверхность чувственности, поскольку само бытие несло на себе печать этой чувственности. Античное бытие, осмысленное как идея, воплощало в себе нерасчленённое единство логического принципа, этического и эстетического моментов.
Бердяев сказал как-то, что эстетство, признающее лишь эстетические ценности и подменяющее ими все другие и есть та самая почва, на которой рождаются демоны.1 Но первый шаг был сделан Кьеркегором. «Демоническое может рассматриваться как эстетически-метафизическое», - говорит он. Связь демонизма и эстетизма впервые становится предметом философского осмысления именно у Кьеркегора.2
Мысль о том, что красота этически нейтральна, не нова и была известна задолго до Кьеркегора. Но извечное искушение отождествить красоту, истину и добро вряд ли будет когда-нибудь изжито. Красота в себе самой не имеет никакого механизма защиты от обмана, более того, именно красота чаще всего прочего в мире оказывается обманной. «Красота может переходить в свою противоположность, как и всякое начало, оторванное от источ-ника света», - говорил Бердяев. Иными словами, красота — это та зыбкая сфера, то призрачное начало, которое одинаково возможно как в добре, так и во зле, причём трагедия заключается в том, что красота зла может оказаться куда более привлекательной и завораживающей.
«Игровой апокалипсис» как путь к антропологической катастрофе
Выражение «антропологическая катастрофа» (Ф. Гиренок), пожалуй, можно было бы счесть слишком патетичным, пафосным, если бы оно не свидетельствовало бы так живо о том, что в ситуации деструкции и деконструкции как генеральных онтологических стратегиях под вопросом оказывается человеческое бытие, чьи смысловые основы размываются посредством универсализации постмодернистских принципов. Деконструированный субъект и есть наглядное воплощение антропологической катастрофы. Человек, превращенный в онтологически пустой симулякр, с легкостью становится источником и объектом бессмысленных, но от этого не менее разрушительных, игровых манипуляций.
Как следует из предшествующих рассуждений, в философском дискурсе XX века игра стала самостоятельным и вполне «респектабельным» предметом научного исследования. К этому теоретическому пространству в настоящий момент присоединяются психоаналитики, социологи, социальные психологи, лингвисты, культурологи и т. д. Подобный интерес к игровой проблематике однозначно свидетельствует о достаточно высоком уровне теоретических возможностей решения вопросов, возникающих в указанном концептуальном поле. Однако трудно не заметить, что большая часть этих усилий направлена скорее на разработку и извлечение прагматически-прикладных потенций, скрытых в игре. Отсюда особое внимание к тесной связи игры с идеей симуляции, моделирования, к интерактивным технологиям, технологиям виртуальной реальности, игровым ситуациям в обучении и т.д.
Вместе с тем совершенно очевиден недостаток наработок в области разрешения весьма специфической, но при этом, как показывает уже обыденная жизненная практика, чрезвычайно острой проблемы имманентных самой игре патологически-разрушительных возможностей. Несмотря на то, что феномен болезненной тяги человека к игре обнаруживается впервые вовсе не в контексте современной культуры, тем не менее со всей прозрачностью и недвусмысленностью эта ситуация обнаружила себя именно в пространстве существования современного человека. Массовый характер игро-мании во многом обусловлен сложившимися в самой реальности условиями, являющимися прямым следствием постмодернистской ориентированности нашей цивилизации. Постмодернизм превращается в инструмент, посредством которого культура узаконивает любые проявления дезорганизации и хаоса, которые, казалось, противоречат самим её основам. То, что долгое время считалось враждебным и разрушительным сведено в одну плоскость высшими достижениями европейской и мировой культуры.
Один из современных исследователей культуры Л. М. Баткин, рассматривая культурные трансформации Ренессанса, заметил: «Культура даже в ходе своих революций втайне консервативна. Когда она жаждет забывать, ей это плохо удаётся».1 Казалось бы, этот вполне справедливый консерватизм присущ и современной духовной ситуации. Более того, здесь постоянно звучит призыв к пристальному вниманию к наследию прошлого, к «реанимации» уже отживших смыслов прошлых эпох. Но, вовлекаясь в игру поверхности, вся эта действительная сложность современного мира оказывается проникнута ребячеством и упрощенством.
Постмодерн, сводящий бытийную глубину человека исключительно к плоскости «homo ludens» и делающий ценности любых культурных эпох достоянием лишь игровой ситуации и, соответственно, играющего ума, обнажил и довел до предела проблему, когда противоположность жизни и игры стирается.
Проникая глубже простой поверхности общекультурных реалий, близлежащих эмпирических обстоятельств, становится очевидным, что игрома-ния есть побочный продукт онтологии, требующей «минимум реальности» и «максимум симуляции». Постмодернистский человек не воспринимает ничего помимо непосредственной ситуации. Но дело даже не в том, что это человек, не способный к критическому мышлению, понятый в духе человека-массы Ортега-и-Гассета. Онтология постмодерна, конституируемая принципом интертекстуальности, низвергая трансцендентность во всех её видах, решает, что реальность есть не больше и не меньше, чем комбинация языков, формирующаяся по ходу языковых игр. Это реальность, в рамках которой остаётся только обыгрывать и заигрывать с условностями, ни одна из которых не становится подлинно значимой.
«Судьба» формулы Homo ludens в современной философии необычна - из одного из многих теоретических конструктов в ряду прочих таковых она превратилась в едва ли не новое евангелие современной культуры, санкционирующей право всеобщей игры, право встать под любые знамена и готовность разменивать свою и чужую жизнь в порыве «либерального иронизма».
«Человек играющий» как определённая бытийная позиция претерпела весьма последовательное претворение в жизнь, реализуясь в теле современной культуры. Традиционный для европейской культуры образ человека как homo sapiens, абсолютизирующий его как воплощение безличного разума, послужил основой складывания особого смыслового мира, в качестве одного из своих возможностей имеющего апологетику своеволия. И если «издержки» такого рода абсолютизации не замедлили себя обнаружить в виде, например, экологического кризиса, то относительно новое понимание человека как homo ludens (вернее, его абсолютизация) содержит в себе опасность антропологической катастрофы.
Если рассматривать последствия триумфального вхождения homo ludens в смыслообразующий фундамент культуры, то они вполне очевидны. Размывание всякой смысловой однозначности отношений между действительностью и вымыслом вкупе с игровым отношением к обоим этим полюсам, вместо реализации свободного выбора или спонтанного творческого порыва, результатом своим имеет игровую тотальность, когда бытие подменяется игрой. Тем более, что игра обладает всеми средствами для осуществления подобной подмены, поскольку то удвоение реальности, которое есть её сущностное свойство, всегда содержит возможность деонтологизации жизненной действительности. Если в масштабах всего массива европейской культуры осознание спектра негативных последствий «игрового апокалипсиса» ослабляется красотой мира зрелищ, поставляющего иллюзию полноты жизни, то на уровне индивидуального переживания губительная мощь такого замещения представлена наиболее рельефно.
Игромания, гэмблинг, лудомания - термины, встречающиеся в исследовательской литературе, фиксируют феномен болезненного влечения к игре, посредством которой происходит замещение, имитация реальных жизненных потребностей и результатов. Здесь, в ситуации игромании обнаруживается принципиальная недостаточность, одномерность «рафинированного», восторженно-наивного представления об игре как «озарённой милостью небожителей и улыбками муз» (слова Финка).
В попытке предварить анализ феномена, именуемого игроманией, необходимо тематизировать его содержательную основу. Этой основой является замена жизненных смыслов игровыми, забвение различия между бытием и игрой, та достаточно парадоксальная форма редукции, когда игра становится бытием.
Опасность «игры в жизнь» очень явственно ощущается людьми актёрской профессии, для которых всегда реально присутствует страх утратить дистанцию между самим собой и сыгранным персонажем. Может быть поэтому, каждый великий актёр стремится быть узнанным под маской изображаемого им лица, в отличие от маски создаваемой детьми и для детей. Размышляя о сущности актёра, А. Камю сказал: «Своим повседневным лицедейством он показывает, насколько видимость может создавать бытие».1 И тут же возникает вопрос, как возможно серьёзно относиться к игре, если только бытие требует серьёзности? Иными словами, в феномене игромании проблема соотношения игры и бытия обретает свои новые грани и новые сложности.
Основная масса существующих на данный момент исследований тема-тизирует рассматриваемую проблему как феномен психологии или даже физиологии, переводя её в медицинообразный дискурс, теряющий собственно онтологическую составляющую, в которой наука зачастую усматривает угрозу потери позитивного содержания и скатывания в область бесплодной «метафизики». Этот момент вполне объясним и является скорее закономерным следствием или платой за право осуществлять «позитивный» поиск в предметно-объективируемых формах, поддающихся именно рациональному анализу.
Однако проблема игромании, не может ограничиться в поиске путей своего разрешения только областью естественнонаучного дискурса, тем более, что бессилие медицины в разрешении этой проблемы становится всё более очевидным. Её позитивные возможности охватывают только один аспект, касающийся «материального субстрата заболевания», чем, конечно же, не исчерпывается вся сложность рассматриваемого феномена. Думается, что в этой проблеме неразрывным образом переплетены узловые моменты, составляющие пространство человеческой субъективности. Поэтому идеи «вакцинировать» общество от «вируса игромании» носят скорее утопический характер. По словам доктора медицинских наук, профессора иеромонаха Анатолия (Берестова), сложность игромании связана те только и не столько с формированием определённых условных рефлексов и «тяжёлой психологической доминанты», сколько с тем, что сам азарт есть выражение духовности.1
Психолог Изяслав Адливанкин озвучивает вывод, к которому пришли в Душепопечительском центре святого праведного Иоанна Кронштадского, деятельность которого уже не первый год связана с попыткой лечения игровой зависимости. Он признаёт, что выход из такого рода зависимости не просматривается с точки зрения психологии или психиатрии.2 Это не просто отдельно взятая теоретическая позиция, скорее речь идёт о некой тенденции, выражающей смутное понимание того, что решение всякой глубокой человеческой проблемы не может ограничиться плоскостью частнонаучных изысканий.