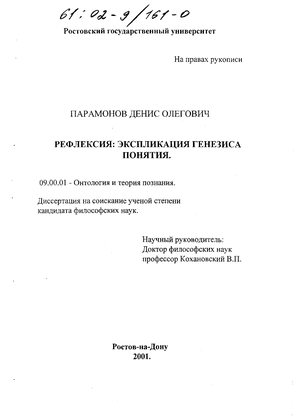Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Методологические проблемы понимания рефлексии. 16
1.1. Постановка проблемы рефлексии . 16
1.2. Теоретические основы исследования
рефлексии. Предположения. 24
1. 3. Конструирование объекта исследования 45
Г лава 2. Зарождение проблемы рефлексии mв древнегреческой философии. , 48
2. 1. Первое упоминание о рефлексии и определение ее места в древнегреческой философии 48
2. 2. Бытие рефлексии.
Между Плотином и Аристотелем. 54
2.3. Учение о душе и
функциональное место рефлексии. 66
2. 4. Стоическая онтология. 75
Глава 3. Анализ проблемы рефлексии в Средневековой философии. 84
3.1. Античное наследие в философии Средневековья. 84
3. 2. Рефлексивные практики Средневековья. 90
3. 3. Видения как форма репрезентации рефлексии. Данте. 107
3. 4. Онтология света. 115
3. 5. Резюме третьей главы 121
Глава 4. Разработка проблемы рефлексии в mфилософии Нового времени, „ 143
4. 1. Специфика экспликации рефлексии в философии Нового времени. 143
4. 2. Определения рефлексии. Локк и Лейбниц. 148
4. 3.Различные значения рефлексии mв философии Канта. „ 168
4. 4. Гегель. Чтение нескольких страниц о рефлексии. 187
Глава 5. Рефлексия, Генезис понятия и современные интерпретации. 208
5. 1. Новые значения рефлексии в философии К. Маркса. 208
5. 2. Системный подход и формализация рефлексии. 211
5. 3. Феноменология и психоанализ: генетическое сходство
форм экспликации рефлексии. 217
Заключение. 221
Литература.
- Постановка проблемы рефлексии
- Первое упоминание о рефлексии и определение ее места в древнегреческой философии
- Античное наследие в философии Средневековья.
- Специфика экспликации рефлексии в философии Нового времени.
- Новые значения рефлексии в философии К. Маркса.
Введение к работе
Актуальность темы исследования.
Актуальность темы рефлексии в философии объясняется следующими обстоятельствами:
Широким употреблением понятия рефлексии в самых различных сферах гуманитарных разработок, от философии до теории дизайна и политических технологий.
Освоением российской философской наукой новых форм философствования.
Проблематизацией представлений и понятий отечественной философии новыми, постклассическими формами философствования.
Широким распространением различных гуманитарных практик, в том числе психологических (психотерапия, психоанализ и т.д.).
Необходимостью формирования общего методологического поля, сферы, позволяющей обсуждать междисциплинарные проблемы, в том числе и проблемы рефлексии, соотносить философские, научно-теоретические и практические представления о ней.
Формированием традиций употребления и понимания рефлексии разными философскими школами и направлениями, что порой приводит к "упрощению" данного понятия в целом.
Потребностью исследования вопросов самосознания, рефлексии и интеллектуальной свободы, стоящих сегодня перед российским обществом.
Степень разработанности проблемы.
Понятие рефлексии имеет ключевое значение для целого ряда школ и направлений в отечественной и зарубежной философии. В связи с этим, наметились традиции обсуждения этого понятия с позиций
отдельных философских парадигм и дисциплин. Одновременно произошло широкое распространение этого понятия в обществе, что сильно контрастирует с детальным изучением отдельных аспектов рефлексии представителями разных философских школ.
Среди дореволюционных мыслителей следует указать B.C. Соловьева, О. П. Флоренского, Л.М. Лопатина, Г.Г. Шпета. В их трудах заложена традиция критического отношения к западноевропейской философской мысли. В работах В. Соловьева сформулированы представления о "теоретической философии", предвосхищавшие феноменологию Гуссерля. В работах П. Флоренского содержатся глубокие размышления о структуре человеческого восприятия, о понятии "точки зрения", об иконизме и обратной перспективе. Л.М. Лопатин и Г.Г. Шпет тонко и обстоятельно рассмотрели философские системы мыслителей Нового Времени, указав на противоречивость осознания процессов восприятия и самосознания категориальным мышлением.
Проблема рефлексии основательно разработана в трудах
советских и современных российских философов Г.П.
Щедровицкого, П.Г. Щедровицкого, В.М. Розина, О.И.
Генисаретского, В.Я. Дубровского, М.К. Петрова, М.К.
Мамардашвили, Э.В. Ильенкова. Так Щедровицкий Г.П., кроме
собственно теоретических разработок о рефлексии, как о "смене
позиции", реализовал практику рефлексии в так называемых
организационно-деятельностных играх. Кроме того, его
методология характеризуется категориальным аппаратом,
пригодным для обсуждения междисциплинарных проблем и проблем человеческих способностей, "высших психических
функций". Щедровицкий П.Г. посвятил рефлексии целый трактат, обозначив собственно вопрос репрезентации рефлексии: ''Рефлексивная инстанция не имеет имманентных форм своей фиксации".
В работах В.М. Розина раскрыт культурно-исторический и психологический аспекты рефлексии, сделаны попытки рассмотрения рефлексии в древнегреческой и средневековой философии. О.И. Генисаретский в своих работах рассматривает функционирование рефлексии в разного рода практиках: проектировании, программировании, автопоэзисе. М.К. Мамардашвили в связи с анализом сознания в работах К. Маркса сделал вновь актуальными темы "включенного наблюдения", имплицитного присутствия наблюдателя-исследователя в исследуемом материале. Освещая "объективность" иллюзий, тайн и общественных фетишей, он четко обрисовал экзистенциальный смысл последних. В дальнейших его работах рефлексия является ключевым понятием в рамках так называемого "неклассического идеала рациональности". Кроме того, большое значение имеет опыт М.К. Мамардашвили по рассмотрению философских аспектов современной литературы.
Э.В. Ильенков и по сей день остался непревзойденным знатоком гегелевской философии, его исследования наглядно и доказательно утвердили "объективность рефлексии" как вне головы положенную данность.
Междисциплинарный аспект рефлексии, проблемы взаимоотношения философии и психологии широко освещены в работах В.П. Зинченко, В.А. Лефевра, В.А. Розова, Ю.А. Шрейдера. В.П. Зинченко внес неоценимый вклад в анализ
философских аспектов рефлексии, в рассмотрение человеческих способностей в их системной взаимосвязи. В.А. Лефевр известен своими многолетними исследованиями в области формализации рефлексии. В связи с рассмотрением этических проблем рефлексии на своих формальных моделях, он разработал особую историко-философскую концепцию, включающую вопросы формализации, этики и самосознания. В.А. Розов известен своей изящной теорией "социальных эстафет", широким и интересным взглядом на социальные условия функционирования категорий и схем мышления, на социальные детерминанты самосознания. Ю.А. Шрейдер, работая в основном в культурологическом и этическом направлении, обогатил философские представления новыми формами обсуждения междисциплинарных проблем.
Особое значение понятие и процедура рефлексии имеет в системно-деятельностном подходе. Становление, сущность этого подхода и разработка системообразующего аспекта рефлексии нашли отражение в работах В.А. Лекторского, В.Н. Садовского, И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина, Б.Г. Юдина, И.С. Ладенко. Особое значение для исследования феномена рефлексии имеет феноменология, и возникшая на ее основе феноменологическая психология. Феноменологическую традицию исследования рефлексии, ее темпоральных и конститутивных характеристик представляют работы В.И. Молчанова, В.В. Калиниченко и Н.В. Мотрошиловой. Благодаря работам В.И. Молчанова поставлена проблема внерефлективных источников рефлексии, вскрыты сложности ее рассмотрения в философии И. Канта, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера. В.В. Калиниченко известен своими исследованиями феноменологической редукции ("эпохэ"), рефлексивных
механизмов интерсубъективности, а также формированием основ российской феноменологии на базе трудов Г. Шпета. Н.В. Мотрошилова своими исследованиями ввела феноменологические рефлексии в широкий историко-философский контекст. Постструктуралистские исследования рефлексии, связанные с поиском ее нерепрезентативных оснований представлены в работах В.А. Подороги, М. Рыклина, СБ. Долгопольского, С. Зимовца, Е. Ознобкиной. Для В. Подороги характерен глубокий содержательный анализ проблем телесности, языка, "ландшафта" как актуальных вопросов современной философской мысли. Кроме того, он своими комментариями сделал доступным для российского читателя современные направления зарубежной философии. М. Рыклин рассмотрел механизмы взаимодействия языка, сознания, рефлексии, придав актуальности трансценденции как основы философских и литературных опытов. СБ. Долгопольский очертили тот необходимый "поворот" от спекулятивных к постклассическим формам философствования, а также расширил перспективы практик "чтения" классических философских трудов, практик "деконструкции".
Кроме того, большую культурологическую ценность в исследовании человеческих способностей имеют работы Р. Якобсона, С. Эйзенштейна, Б.И. Ярхо, А.К. Жолковского, Ю.Н. Щеглова, Б.А. Успенского, Б. Гройса.
Среди современных зарубежных философов и психологов феномен рефлексии имеет наибольшую актуальность и значимость в трудах К. Маркса, Ж. Делеза, М. Фуко, Э. Гуссерля, К. ГТрибрама, Ф. Перлза.
Цели н задачи исследования. Цель исследования - выявление истоков значений рефлексии в современной философии, обоснование ее историчности и важнейшего значения этого понятия для истории философии и культуры.
Реализация цели исследования потребовала решения следующих задач:
Выявить общие методологические установки современных исследований рефлексии и обозначить их проблематичность.
Определить "категориальный интерьер" рефлексии, или те мыслительные контексты, в которых происходило возникновение и изменение значения этого понятия.
Проанализировать многозначность и сложность смысловой нагрузки рефлексии, ее этимологии и историко-культурной "прописки".
Исследовать интериоризацию рефлексии современной мыслью и эксплицировать изменения значений рефлексии в связи с практическим применением этого понятия.
Разработать общее понятийно-категориальное поле, в котором все многосмысленные значения рефлексии были бы понятны исследующему сознанию.
Методы исследования:
Метод исследования и изложения материала являются синтетическим и определяется спецификой сложного предмета познания. Он задан поставленными задачами и строился по преимуществу с использованием диалектически взаимосвязанных методов и принципов: единства исторического и логического,
конкретного историзма, системного и структурного анализа, восхождения от абстрактного к конкретному.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
Представлен генезис понятия рефлексии и прослежена этимология термина "рефлексия" в истории философии.
Определены место и значение рефлексии, ее специфические черты в каждом периоде истории философской мысли.
Представлена методология исследования генезиса и развития рефлексии.
Обозначена преемственность и одновременно противоречивость использования понятия рефлексии и выявленных его значений в ряде современных школ и направлений в философии.
Основные тезисы, выносимые на защиту.
В философском знании рефлексия на протяжении своего становления функционировала как термин и как понятие. Специфика генезиса рефлексии заключается в том, что ее этимологические значения актуализировались при рассмотрении в разных философских системах. Происходило также и "обратное влияние" - этимология обогащалась специфически философскими значениями.
Для каждого периода в истории философии характерны специфические определения рефлексии и форм ее экспликации. Так, в древнегреческой философии рефлексия, рассматриваясь в рамках категорий Бытия, Сущности и Ума (Единого) имела два принципиально разных значения. Если у Аристотеля - это Ум, мыслящий самого себя, то для Плотина - это "умная часть души".
В связи с этим, начиная еще с древнегреческой философии, обозначилась двойственность, "альтернативность" ее определений. Многовариантность трактовок рефлексии характерна для средневековой философии. Это, в первую очередь, связано со светом и его значениями, характерными для рассматриваемого периода. Латинское слово "рефлексия" обогатилось "световыми" значениями, а практика аллегорической экзегетики ввела новое этимологическое значение ("отраженный луч света") в систему онтологических представлений философов Средневековья. Кроме того, в этот период обозначился практический смысл рефлексии: это и упомянутая практика толкования Священных текстов, а также религиозные видения и иконопись. В дальнейшем такие коннотации рефлексии, как "угол зрения", "точка зрения", "угол падения светового луча" обрели собственную траекторию в истории философской мысли. 3. Для философии Нового времени характерны определения рефлексии, данные прежде всего Декартом, Локком и Лейбницем. Стало возможным вести речь о специфическом философском содержании данного понятия безотносительно к этимологии этого термина. Рефлексия стала функционировать в системе философских понятий и категорий, причем сам категориальный интерьер менялся. Стоит отметить, прежде всего, категориальную пару причины и следствия. Но более детальное рассмотрение философских систем Нового времени дает основания утверждать тезис о "несводимости" употребляемых смысловых обертонов рефлексии к определениям, данным внутри причинно-следственного категориального интерьера. Так, даже самое известное Локковское определение этого понятия, расширяется и
даже опровергается им самим в дальнейших философских исследованиях.
Иммануил Кант усложнил понятие рефлексии, описал ее функционирование в целой системе категорий: форма и материя, тождество и различие, внутреннее и внешнее, определяемое и определение. При этом актуализировались исторически предшествующие смыслы рефлексии, и в трудах кенигсбергского мыслителя данное им самим ее определение претерпевает существенные изменения. Связь рефлексии с символическими формами мышления в "Критике способности суждения" генетически оправдана, но противоречит ее собственным определениям, данными Кантом в "Критике чистого разума".
Связывая воедино важнейшие значения в гносеологии и онтологии, рефлексия сама ускользает от экспликаций. В различных философских системах она трактуется по-разному. В связи с этим справедлива постановка вопроса о генезисе понятия рефлексии в истории философии. Движение мышления вглубь значений и в историю философских учений приобретает вид системы у Гегеля. Эта обращенность познания на самого себя и одновременное "присвоение" истории объявляется объективным движением самого разума в его направленности на экспликацию оснований самого мышления. Гегель такое движение разума объявляет рефлексивным, претендуя на самое полное и продуктивное ее понимание. Действительно, категориальный интерьер рефлексии Гегеля не поддается пересчету. Несмотря на то, что его система формирует общие принципы становления понятия на основе единства исторического и логического, тем не менее, он сам
пользуется в своей философской работе только некоторым спектром значений понятия рефлексии. 6. Генетическая экспликация понятия рефлексии позволяет отыскать основания ее трактовки в новейших философских системах. Современная философия (марксизм, феноменология, системный подход и постструктуралистские исследования), стараясь выйти из метафизической трактовки рефлексии в рамках причинно-следственного категориального интерьера, опирается как на психологические представления о процессах самосознания, так и на значения рефлексии, выработанные теми или иными частнонаучными подходами. Привлечение дополнительных значений рефлексии, взятых из теории живописи, психотерапии, теории организаций и идеологии привело к тому, что рефлексия утратила собственную терминологическую и понятийную идентичность, самотождественность.
Тем не менее, интенция выбранных направлений современной философии направлена на выработку общих, синтетических представлений о рефлексии. Так, системный подход представлен двумя основными точками зрения на понятие рефлексии. Первая характерна для В. Лефевра, который считает возможным осуществить ее формализацию, применяя различные системы описаний. Эта направленность на логизацию и формализацию рефлексии характерна для философии Нового времени - Лефевр пытается "преодолеть метафизику" опираясь на ее категориальный интерьер.
Содержательно-генетическая логика и системная методология Г.П. и П.Г. Щедровицких характеризуют вторую точку зрения на понятие рефлексии и форм ее экспликации в рамках системного
подхода. Отталкиваясь от марксизма, СМД-методолгия приходит к
пространственно-схематическому пониманию рефлексии. Этот
иконический аспект трактовки характерен для средневековой
философии и предполагает необходимую проработку
онтологических вопросов рефлексии. Именно онтологические
проблемы стали актуальны для последователей Г.П. Щедровицкого.
Феноменология, работая с «диаграммами временности сознания»,
также опирается на синтез кантовскои и средневековой трактовок
рефлексии. Маркс, рассматриваемый нами в ряду современных
философов, дал толчок исследованию рефлексивных объектов,
начало которого положено в древнегреческой философии.
Теоретическая и практическая значимость работы.
намечены новые перспективные направления в междисциплинарных исследованиях и осмыслении феномена рефлексии;
основные положения диссертации могут быть использованы в преподавании курсов философии, психологии, культурологии.
Апробация результатов исследования.
Диссертация обсуждалась на кафедре философии и методологии науки факультета философии и культурологии РГУ, отдельные ее выводы были доложены на научных семинарах и конференциях. Тезисы исследования отражены в двух публикациях автора.
Структура работы.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, включающих 19 параграфов, заключения, списка литературы, включающего 154 источника.
Здесь ясно, сколь специфична наша ситуация, ситуация необеспеченных тел индустриальной культуры. В силу этого мы оказываемся по отношению к когитальным актам приблизительно в таком же положении, какое классическая философия занимала в отношении алогического и первобытного; мы как бы постоянно ощущаем на себе рокот их отдаленного присутствия и непроизвольно, на уровне культурных рефлексов, лихорадочно пытаемся избежать прямого столкновения с рефлексивностью...
Рефлексия с точки зрения необеспеченной, т.е. экстатической культуры есть ужасающая сила, пришедшая извне, есть, собственно говоря, воплощенный ужас...
М. Рыклин. Тела террора.
Постановка проблемы рефлексии
Проблема рефлексии в философии имеет две стороны. Это прежде nвсего становление рефлексии как понятия в истории мысли. С другой стороны - это овладение рефлексией как особого рода интеллектуальной способностью. Если в первом случае исследование носит археологический характер, где мы собираем по крупицам, следам в культуре весь спектр значений, закрепленный за понятием рефлексии, то во втором - уже имея перед собой сконструированное понятие - анализируем рефлексию в тех мыслительных пространствах, в которых нет прямых указаний на ее присутствие. Эта часть работы носит герменевтический характер, т.е. мы закрепляем за автором то или иное понимание рефлексии, хотя сам автор понятия этого мог и не использовать. (Подобная техника может с точки зрения канонов герменевтики показаться - справедливо - несколько волюнтаристской. Замечательно, что обсуждая эту технику в несколько другом контексте, известный философ Ж.Делез называет ее "вторичные отношения рефлексии, "...между недискурсивными формациями общественных институтов и дискурсивными формациями высказываний - существует большой соблазн установить то ли своего рода вертикальный параллелизм, подобный параллелизму между двумя выражениями, каждое из которых символизирует другое, (первичные отношения выражения), то ли причинно-следственную связь по горизонтали, в соответствии с которой события и институты определяли бы людей как предполагаемых авторов высказываний (вторичные отношения рефлексии) ". История понятия порой провоцирует нас искать за словами, нам понятными, тот же смысл, который мы вкладываем в них. К сожалению, мы не всегда останавливаемся перед вопросом: что нам нужно - исследование имени или анализ смысла. Специфика нашей работы как раз и состоит в том, что мы пытаемся это сделать в одном тексте. Велик соблазн исследовать траекторию термина "рефлексия" в истории мысли. В предисловии к сборнику, посвященному только проблемам рефлексии характерны следующие строки: "Пожалуй еще более разителен тот факт, что термин "рефлексия" перешел узконаучные границы и все более часто начинает встречаться на страницах популярных изданий и периодической печати. Выше было отмечено, что примерно сто лет назад слово "рефлексия" было столь же непонятным, как и слова "абстрактный" и "конкретный". "Непонятность двух последних нам сейчас кажется странной, без них вроде бы и обойтись нельзя в самом обыденном разговоре. Можно предположить, что подобное произойдет и со словом "рефлексия", причем случится это довольно скоро"1. Авторы далее ссылаются на В.Г. Белинского, с которым связано использование термина "рефлексия" в отечественной литературе. Так, благодаря Белинскому и его анализу романа "Герой нашего времени" русские философы избавили себя от задачи поиска русскоязычного понятия, адекватного "рефлексии". (Отметим, что следуя логике авторов, штудии Белинского неожиданно предстают сугубо узконаучными, чьи рамки рефлексии покинула совсем недавно).
Первое упоминание о рефлексии
Первое упоминание термина "рефлексия" в философских произведениях мы можем найти в Эннеадах Плотина. Что касается этимологически сходных терминов, то, например, у Аристотеля понятие отражения в "Физике" - это anaklasis1 . Естественно, что метафора света и тьмы в рассмотрении человеческого мышления часто встречается у Платона, но концентрированное выражение находит в стройной системе неоплатоников. Относительно Плотиновского перевода рефлексии, то встречается оно нам в переводе П. Адо одной из Эннеад Плотина: (Отрывок 1) "Часто я пробуждаюсь от своего тела к себе самому; я становлюсь недосягаем для внешнего мира, я внутри себя; я вижу красоту, исполненную величия; тогда я верю: я прежде всего принадлежу к высшему миру; жизнь, которой я живу в эти моменты - лучшая жизнь; я сливаюсь с Божественным, живу в нем; достигнув этого высшего света, я останавливаюсь; я возвышаюсь над любой другой духовной реальностью, но после этого отдохновения в Божественном, опускаюсь от интуиции до рассуждения и рефлексии, я спрашиваю себя: как я мог раньше и вновь пасть так низко, как могла моя душа оказаться внутри тела, если, даже находясь в этом теле, она такова, как мне предстала"2. Конечно, вполне . резонно предположить, что вкравшийся в этот отрывок искомый термин является версией переводчика, т.е. П. Адо. «Рефлексия» вкралась и еще в один отрывок Плотина: (Отрывок 2) "Иногда умственная работа мудреца может сдерживаться внешними обстоятельствами: например, речи требуют раздумий и рефлексии.."1
Рассуждения о рефлексии, упоминаемые Плотином в первом отрывке, по-гречески будут то aia9rTiKOV (рассудочное мышление) или 6tavoT]TiKov (дискурсивное мышление), по переводу Г.В. Малеванского2 , которые суть производные от ашЗг[ТТїріоу - орган чувства, чувство, в Новом Завете - смысл, ум; и от SiavoTjTixot; - рассудочный, мыслительный; 6iavoia -размышление, мыслительная способность, разум, дух; образ мыслей, мысль, намерение; смысл, наделять значением, исповедывать - ovo\iaC,m .
В пользу той версии, что под рефлексию подпадают именно вышеперечисленные понятия, свидетельствует еще один отрывок из Плотина уже в переводе Г. Малеванского. Рассуждая о мудрости египетских мудрецов и о преимуществах иероглифического письма, Плотин говорит (Отрывок 3): « Но каждый такой эмблематический образ потом раскрывался в целом ряде других эмблем и разных символических знаков, имевших целью обозначить все частные моменты его смысла и значения, и тут даже рефлексия, направленная на причины, почему в образе все расположено так, а не иначе, приводит к невольному 4,4, 13, 3, Цит. по П. Адо. указ.соч,- с.80. 1 Плотин. Избранные трактаты. T.I, М„ 1994. Вейсман. Греческо-русский словарь. М., 1992. удивлению глубине замысла и красоте его выполнения»1 . А вот полный вариант этого отрывка у Лосева: «Мне известно, что и египетские мудрецы, опираясь на такое точное ли узрение или на (бессознательный) инстинкт, если хотят обнаружить свою мудрость о том или другом предмете, пользуются не буквенными знаками, выражающими слова и предложениями, обозначающими звуки и произносимые суждения, но рисуют целые изображения и, запечатлевши для каждого предмета одно специальное изображение, давали объяснение его в святилищах так, что каждое такое изображение было узрением или мудростью, и именно - в своей существенной цельности, не в качестве дискурсивного мышления или убеждения. Затем от этого цельного (умного зрения) воспроизводилось, при помощи других знаков, уже частичное изображение, которое его истолковывало и дискурсивно выражало причины, по которым оно было (именно) так создано, а не иначе, так что удивляться нужно было такой красоте созданного. Кто видел эти изображения, говорил, что удивляется египетской мудрости, как она, не зная истинных причин сущности, благодаря которым вещи созданы именно так, могла изобразить вещи, созданные именно по законам сущности»2. В этом случае дискурсивное мышление - это то \оу\Ср\іг\о\.
Античное наследие в философии Средневековья
Мы рассмотрели, что рефлексия появляется в такой онтологии, фундамент которой составляет субстантивированное Мышление, Ум или Единое. В этом случае деятельность человеческого интеллекта имеет как собственное значение, так и значение-для-Другого. В первом случае интеллект обеспечивает достойное самоопределение в одушевленном и имманнентном человеку мире - в мире предметностей как продукте синтезирования ощущений, деятельности души и ума. Во втором случае тотальная осмысленность бытия как условие всякого познания формирует другую установку - причастность и растворение интеллекта в Едином или Мышлении. Языковая деятельность в обоих случаях -это формы поиска и "пригонки" бытия под себя или же себя под осмысленное бытие. Визуальные идеальности (египетские письмена или числа) - повод для поиска все тех же причин - в душе, уме или Едином. В тех же онтодогиях, где всеобщая тотализация бытия не предполагает его осмысленности, полной референтности с интеллектом, то трансцендентное обеспечивает лишь фрагменты осмысленной реальности за счет сперматической языковой души.
В дальнейшем тотализация бытия стала выступать необходимым условием рефлексивности; факты фрагментарности осмысленности стали лишь искушать философскую рефлексию, alma mater которой манил к поиску разумной инстанции. Прописка рефлексии в интеллекту ал изирован ной древнегреческой философии стала гарантом того, что поиск всеобщих разумных начал бытия как раз и есть проявление этой самой рефлексии. Другими словами, тотальное мышление, находя свои корни в философии Древней Греции, склонно удостоверять в рефлексии родимые пятна этого типа мышления и наоборот, рефлексия как необходимое условие тотализации бытия мышлением не может не появиться у самих истоков этого мышления. В этом смысле философы автоматически приписывают грекам рефлексивность, часто не задумываясь над тем, что оснований таких приписок не так уж и много.
Переходя к проблеме рефлексии в средневековой философии, мы хотели бы пояснить, почему проблема рефлексии стала проблемой. Напомним, что мы не предлагаем какое-либо изначально сконструированное понятие рефлексии, но руководствуемся: а) смыслами, выделенными нами в древнегреческой философии и воспринятыми философами средневековья; б) семантически сходными с рефлексией терминами и дисперсиями их значений - коннотациями; в) соответствующей котировкой проблем, которые закрепляют определенную архитектонику понятия рефлексии в терминах рассматриваемого периода; в) актуальностью сегодняшних философских проблем, ценностно и личностно окрашивающих результаты исследования. Так в чем же сама проблема рефлексии в средневековой философии?
Мы полагаем, что вследствие христианизации европейской философской мысли, трансцендирование интеллекта не могло уже осуществляться "подключением его к субстантивированному Мышлению". Сама субстанция, к внеличностной сущности которой подключается античный философ, уже нуждается в своем обосновании посредством акта веры. В подобных рамках мыслительные конструкции греков соотносились и верифицировались с личным опытом средневекового мыслителя. Разумеется, что средневековый личностный опыт имеет мало чего общего с надтреснутой личностью древних греков, постоянно находившихся в состоянии борьбы=мира между своей душой, умом и ощущением, между мифом и логосом, между намеками на общую разумность бытия и трагедией своего говорения о такой разумности, между мыслимой реальностью и реальностью конкретного поступка. Мало схожих черт и с так называемой "личностью Римского права", когда между поступком и границей наказания телесности (лишения жизни) встает цепочка текстов, удостоверяющих изначальную личностную цельность. Канонизация "Исповеди" Августина свидетельствует о реальной проблеме сделать безличные античные категории достоянием философствующего христианина.
Мы не станем углубляться в историю рецепции средневековьем древнегреческой философии. Несмотря на тысячелетние дебаты о месте языческой философии в мировоззрении христианина, рисунок взаимо- и противодействия до сих пор остается размытым... Тем не менее, ряд решений, принятых высшими авторитетами христианского мира говорит о том, что результатом подобных дебатов стало ортогональное разведение (различение) онтологии и органона (логики). Так канонизация Петром Испанским (Ввек) Аристотеля, решение о проекта Фомы Аквинского заключается в попытке вернуть философии привычную целостность и протащить онтологическую и логическую спаянность греческого мировоззрения сквозь игольное ушко монотеизма и воскрешения богочеловека. Фома доказывал не наличие Верховной сущности -это сделали задолго до него и также с опорой на Аристотеля, - но существование Бога.
Специфика экспликации рефлексии
Как мы уже отметили, связка свет-движение-пространство -разотождествление и сборка субъекта начала распадаться еще в Средние века. Сначала распалось движение, открепилось от своей онтологической и световой сущности и зафиксировалось в пространственных схемах Орема. Онтология, исходящая от «первотолчка» должна проходить испытание на прочность, на (не)соответсвие метафизического и физического движения. Затем произошла переконфигурация пространства, сопряженная с открытием прямой перспективы и точки зрения. Параллельно с этим поднялись логические проблемы: импликация стала символизировать причинность, философы Нового времени стали nинтенсивно разрабатывать закон противоречия, путая иногда его с законом достаточного основания - это тоже одна из сквозных тем данного периода. Теперь настала очередь разотождествления субъекта. Декартовское cogito ergo sum по-прежнему является несколько мистической формулой сборки субъекта. Мы не станем вдаваться в тонкости такого самополагания мышления и существования, этому моменту посвящены тонкие и страстные страницы «Картезианских медитаций» Э. Гуссерля и М. Мамардашвили.1 Нам же важно отметить один момент: после Декарта Бог стал гарантом самотождественности субъекта, Бог и сознание отныне выступают в своем взаимогарантированном тождестве. Последними двумя попытками «примирения» креационизма Средневековья и гарантированного депозита у Бога самотождественного субъекта были философские системы Спинозы и Лейбница. Последний обосновал бесконечность миров, которая приоткрывается субъекту в момент «разрыва в познании». Субъект как бы соучаствует в создании этих бесконечных миров. У первого, несмотря на любовь к Богу как стимул для души и для разума, принимая во внимание актуализацию Субстанции через актуализацию модусов, а также тот факт, что спинозовский Бог является как основанием бытия, так и основанием познания, тем не менее, душа в итоге должна господствовать над разрывавшими ее, тело и разум аффектами. Пафос «Этики» Спинозы затрагивает каждого философски образованного человека, но некоторые спорные моменты в его системе могут ставить под сомнение построенную
Новые значения рефлексии в философии К. Маркса
Несмотря на то, что философию К. Маркса принято рассматривать в Мы имеем ввиду тот самый «иррациональный момент» осознания восприятия, который получил свое воплощение в исследованиях «товарного фетишизма». «Чувственно сверхчувственные вещи», исследуемые Марксом, открыли новый пласт в символизации продуктов рефлексивной деятельности сознания. Другими словами, если в средневековый мыслитель просто игнорировал рациональную причинность, предполагая подключение души (сознания) к трансцендентному в особым образом организованных пространствах, но Марксов тезис более трагичен: даже проделывая рационализацию собственных восприятий, даже удостоверяясь в системе причин и обусловленностей восприятия (положение о «первичности бытия» вульгарного марксизма), мы все равно вынуждены вести речь об особой экзистенциальной символике объектов собственного восприятия. Советский исследователь М. Мамардашвили отчетливо выделил этот момент марксовых фигур самосознания, но при этом он ведет речь о «системности» подобного рода исследований. Мамардашвили все-таки надеется, что подобный трагизм можно «снять» системным подходом, его надежда выражена языком внесистемных положений: «... по отношению к сознанию речь может идти лишь о «причинении», индуцируемом в отдельном звене более широкой системой, игрой отношений в ней, о системной, а не какой-либо иной причинности»1. Игра отношений является не просто причинностью, а «системной» причинностью -Мамардашвили прекрасно понимает, что речь идет о сложном конфигураторе этих процессов «прорывания сознания сквозь причинность». В дальнейшем он предпочтет эту системность подвести под рубрику «превращенных форм», «необходимых иррациональных выражений», что несколько скрасит выявленный им же трагизм марксисткой теории (само)сознания.
Следующим значением рефлексии в философии К. Маркса мы обязаны неожиданному тандему Альтюссер-Делез. По мнению последнего, Маркс в своем «Капитале» заставляет нас выйти за пределы «чувственно-сверхчувственной сущности»: «... фетишизм, по Марксу, - «нелепость», иллюзия общественного сознания, если понимать под этим не субъективную иллюзию, возникающую в сознании, но объективную иллюзию, иллюзию трансцендентальную, порожденную условиями общественного сознания в ходе актуализации»1 . По мнению Делеза, наиболее адекватной трактовкой Маркса является философия Альтюссера, которая предполагает процесс актуализации трансцендентальных способностей не в режиме «критики чистого разума» или выяснения трансцендентальных «условий возможности», но в рамках реального опыта. В этом смысле, реальность общественных условий предстает в виде «энигм» Николая Кузанского, в связи с чем Делез не устает повторять, что истинно экзистенциальный смысл марксизма состоит не в гегелевской категории «отчуждение», но в замещении реальных задач, стоящих перед индивидом, «ложными» задачами. Причем, не факт, что ложные задачи не соответствуют самой человеческой природе - в этом смысле никакая рационализация источников нашего познания («трансцендентальная рефлексия») не может дать однозначный ответ на то, как разделить интенсивности, атакующие наше сознание, на «ложные» и «истинные» вызовы онтологических задач. «Общественные задачи, проявляющиеся в надстройке в форме так называемого «абстрактного» труда, решаются в процессе актуализации или дифференциации (разделение конкретного труда). Но пока тень задачи покрывает совокупность различных случаев, составляющих решение, они дают фальсифицированную картину самой задачи. Нельзя сказать, что фальсификация следует; она сопровождает, дублирует актуализацию. В момент решения задача всегда отражается в ложной задаче, и таким образом mрешение обычно извращается неотделимой от него ложностью» . Делез предпочитает говорить о «ницшеантсве» Маркса, философия которого неизбежно нас подводит к «воле к власти» и «истинам жизни», способным преодолеть симулякры реальности.
И, наконец, самая известная нам трактовка рефлексии заключается в рецепции Маркса классической советской философией. Понятие «исходная абстракция» является рефлексивным объектом, а наследие Маркса предстает в сугубо рационалистическом ключе. Рефлексия функционирует внутри «метода восхождения от абстрактного к конкретному» и предполагает категории причинности, связи и отношения, в связи с чем Маркс справедливо считается основоположником системного подхода.