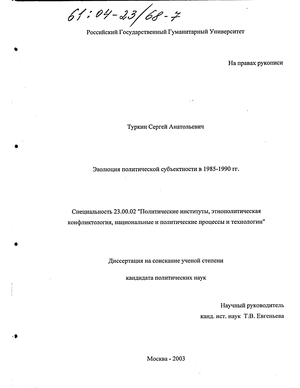Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Понятие «субъектности» и ее роль в период кризиса 31
1. Публичное действие в условиях социального и политического кризиса 31
2. Проблемы происхождения политической субъектности 45
Глава II. Основания организационной и пространственно-временной эволюции политической субъектности 70
1. Эволюция формы организации деятельности в процессе обретения субъектности 70
2. Эволюция восприятия пространства и времени в период развития кризиса 96
Глава III. Содержание процессов обретения и эволюции политической субъектности в период перестройки 131
1. Вспоминание истории - формирование модели кризиса и субъектной истории 131
2. Эволюция политической субъектности шахтеров в 1989-1990 гг 144
Заключение 170
Список источников и литературы 177
- Публичное действие в условиях социального и политического кризиса
- Эволюция формы организации деятельности в процессе обретения субъектности
- Вспоминание истории - формирование модели кризиса и субъектной истории
Введение к работе
Актуальность темы. В последние годы все большую значимость для современного общества получает проблематика поведения общества в ситуации кризиса. Мы полагаем - и ниже постараемся это обосновать - что постоянно воспринимаемая угроза кризиса чрезвычайно важна для современного общественного сознания. Нарушение «нормального» режима функционирования разного рода систем (социальных, политических и иных), которое вследствие сложности данных систем может быть продуктом значительного ряда факторов и их сочетаний, воспринимается как «постоянно могущее произойти». Для «современного» человека данная опасность является тем более существенной, что все современное сознание формировалось как раз на принципах абсолютного доверия системе.1
Для современной жизни характерно восприятие скорости развития общества как постоянно возрастающей. Возрастание скорости жизни и постоянное увеличение количества событий влечет за собой умножение возможных причин развертывания и углубления кризиса. Вместе с тем, можно говорить о том, что ощущение ускорения жизни на уровне общества в целом в значительной степени объективно является обманчивым. Несмотря на то, что наиболее развитые общества кажутся постоянно ускоряющими свое развитие, в реальности его темпы либо остаются прежними, либо замедляются.2 Таким образом, условия для развития кризиса существуют во многом на уровне личностного восприятия.
Признание того, что наиболее развитые общества современности - равно как и мега-сообщество, которое возникло в результате глобализации - постоянно повергаются разного рода рискам и признают наличие этих рисков одним из базовых факторов, которые определяют эти общества, в целом характерно для современных западных социальных наук, равно как и для западного общества в целом.3 Мы можем
1 См., напр.: Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge:
Polity Press, 1991. P. 127-130.
2 См., напр.: Иноземцев В.Л. Переосмысливая грядущее. Перспективы и противоречия
общественного развития в ответах ведущих американских социологов // Свободная мысль. 1998. № 8.
С. 8.
3 См., напр.: Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М., 2000; O'Riordian J. The cognitive
and political dimension of risk analysis//Journal of environmental psychology. 1983. # 3. S. 345-354;
Thompson M., Wildavsky A. A Proposal to create a cultural theory of risk II The risk analysis controversy.
N.Y., 1983; Prades J. Global environmental change and contemporary society// International sociology. L:
Sage, 1999. Vol. 14, # 1. P. 7-34.
зафиксировать наличие широкого круга текстов и социальных инициатив, связанных с оценкой и определением путей преодоления тех или иных кризисных факторов, угрожающих развитию общества.4 Наконец, довольно распространенным является исследование названных текстов и инициатив в выявление того, каким образом они влияют на современное общество.5
Значительная часть названных исследований объективно предполагает в качестве своего продолжения формулирование общей модели развития кризисных настроений и определение базовых параметров, по которым они изменяют структуру общества. Вместе с тем, сами эти работы касаются частных проявлений кризисности в отдельных сферах общественной жизни (в частности, в сфере экологии или информационных технологий), либо же - в случаях, когда они затрагивают жизнь общества в целом - в значительной степени посвящены общему анализу характера угроз и тому, какие общественные проявления могут помочь в их преодолении.
Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что в научном сообществе существует концептуальное понимание того, что проблематика активной рефлексии по поводу угроз жизни общества и существующее в связи с этим восприятие современности как «кризисной эпохи» весьма значительно изменяет социальную и политическую жизнь. Данные представления зафиксированы как в научных исследованиях, так и в общественном мнении. Вместе с тем, адекватного методологического аппарата для того, чтобы анализировать пути развития кризиса и управлять этим развитием в настоящее время не существует. Мы считаем, что в рамках актуальных исследований тематики кризисности одним из ключевых направлений является создание целостной модели развития кризиса. Данная модель" должна включать в себя анализ всех проявлений кризиса от осознания обществом той или иной угрозы до тщательного анализа всех последствий развития кризиса для структуры общества.
Мы полагаем, что практически идеальный образец развития всеобъемлющего кризиса, на основании которого можно моделировать развитие кризиса в ряде
4 Речь идет о широком круге движений экологической, культурной, политической направленности,
наиболее яркими примерами которых являются «зеленые» и «антиглобалисты». Осмысление данного
феномена наиболее широко осуществляется в рамках теории «гражданского общества». См., напр.:
Arato A., Cohen J. Civil society and political theory. Cambridge (Mass.): MIT press, 1992.
5 См., напр.: Cottle S. Ulrich Beck's Risk society and the media. A catastrophic view? II Europ. J. of
communication. L., 1998. Vol. 13, # 1. P. 5-32; Brand K.W. Neue soziale Bewegungen in Westeuropa und in
den USA. Frankfurt-am-Main, 1985; Freeman J. Social Movements in Sixties and Seventies. N.Y.; L., 1983.
аналогичных ситуаций, представляет собой период советской истории 1985-1990 гг., который получил название «перестройка». Перестройка является для создания модели кризиса оптимальным периодом, так как представляет собой пример «концентрированного» (т.е. сжатого во времени) и уже завершенного развития кризиса. В самом деле, в течение нескольких лет советское общество прошло развития от сравнительного благополучия и стабильности до полного распада и угрозы гражданской войны. Сложно найти другие примеры, когда столь явное и концентрированное кризисное развитие осуществлялось в развитой индустриальной стране.6
Вместе с тем, исследование перестройки как целостного периода, по нашему мнению, имеет и самостоятельную актуальность. В значительном числе идеологических построений, имеющих хождение в настоящее время на политическом пространстве России, перестройка занимает весьма важное место. Она является исходным моментом строительства современной России, и отношение к ней в значительной степени определяет отношение к произошедшим с 1985 г. изменениям в политике и экономике. Те политические силы, которые относятся к перестройке положительно, выделяют ее антикризисную составляющую, в то время как противники перестройки делают акцент на ее кризисных последствиях. В этом отношении показательно, что идея принятия новой Конституции России вместо-принятой в 1993 г. подкрепляется доводом, что первая российская конституция была антикризисной. Иначе говоря, здесь заложено негативное отношение к перестройке (ее сторонники привыкли говорить о «завоеваниях перестройки»).
В конечном счете, более адекватное, чем существующие, исследование перестройки необходимо и для того, чтобы понять характер постперестроечного развития России. Это важно по двум причинам: во-первых, чтобы понять, каков был характер развития в период перестройки и каким образом данный характер развития изменился к настоящему времени, а во-вторых, чтобы осознать, от чего в действительности отталкивается общественное сознание при моделировании процессов развития в современной России.
6 Представление о позднем Советском Союзе как о развитой индустриальной стране, в которой, вместе с тем, были слабо выражены постиндустриальные тенденции, в целом характерно для американской и, в немного меньшей степени, европейской политической науки. См., напр.: Иноземцев В.Л. Переосмысливая грядущее. Перспективы и противоречия общественного развития в ответах ведущих американских социологов. С. 10.
Постановка проблемы. Среди универсальных признаков, свойственных всем современным кризисам, в том числе и перестройке, необходимо назвать снижения контроля власти над тем, что происходит в сфере ее ответственности. В подобных случаях общество пытается компенсировать ошибки властей, создавая собственные институты противостояния кризисным тенденциям. Некоторые из этих институтов оказываются нежизнеспособными, однако другие интегрируются в систему политических отношений, продолжая влиять на политический процесс. Сравнительно очевидным представляется тот факт, что не будь государство в кризисе, оно вряд ли допустило общественные структуры до влияния на политику. Таким образом, кризис выступает как инструмент редукции государства.
Появление в сфере политического новых субъектов представляется одной из наиболее очевидных манифестаций кризиса. Это происходит по ряду причин. Во-первых, представители таких организаций делают в работе с общественным мнением акцент на кризисных тенденциях в той или иной сфере или в обществе в целом, чтобы подтвердить свое право на существование. Во-вторых, и сам факт появления таких структур, и их деятельность говорит обществу, что государство не слишком контролирует ту сферу, в которой действует новообразованная организация. В-третьих, данное появление свидетельствует об известной конфликтности в отношениях между государством и обществом, что само по себе является ощутимым фактором кризиса. Таким образом, то, что призвано стать антикризисной мерой и до некоторой степени ей становится (так как целью появления подобных организаций является предотвращение кризиса в настоящем или будущем), с другой стороны довольно ощутимо способствует развитию кризисных тенденций.
Данная проблема - кто из субъектов сопротивления кризису способствует развитию или приостановке кризиса и почему - должна, по нашему мнению, лежать в центре любой модели кризиса. Это представляется вполне естественным, так как в фокусе любого политического исследования - в духе веберовской «этики ответственности» - лежат два вопроса: об истоках происхождения той или иной ситуации и об ответственности за ее происхождение. Вместе с тем, если государственная власть по отношению к кризису является силой внешней, то все прочие субъекты противостояния кризису - благодаря ему, собственно, и появившиеся на свет - могут существовать только в рамках кризиса для
противостояния ему. Соответственно, чем сильнее кризис - тем шире сфера деятельности таких «новых организаций», а чем кризис слабее - тем в меньшей степени эти организации воспринимаются обществом как полезные. Дело не только в том, что вне кризиса они утрачивают смысл существования, но и в том, что они утрачивают какую-либо поддержку со стороны общества и вымываются из сферы отношений власти, отходя на периферию общественного внимания.
По нашему мнению, именно неразрывно связанная с развитием кризиса судьба новых субъектов противостояния кризисным тенденциям делает изучение данных субъектов принципиально значимым для понимания механики развития кризиса. В центре нашего внимания должны быть не только поступки этих «новых субъектов», но и представления о пространстве и времени кризиса, которые являются основаниями для этих поступков и, в свою очередь, видоизменяются под воздействием таких поступков. Ведь, вне всякого сомнения, восприятие политического пространства и времени перестройки существенно изменялось после таких событий как XXVII Съезд КПСС, январский Пленум ЦК КПСС 1987 г. или выборы на Съезд Народных Депутатов в 1989 г. Причина этих изменений в том, что каждое из названных выше событий изменяло систему представлений о путях выхода из кризиса, конструируя таким образом его новую модель, заново осмысляя как кризисные, так и антикризисные политические проявления и, в конечном счете, формулируя для кризиса новую модель пространства и времени его развития.
Первостепенное значение в изучении «новых субъектов» имеет проблема их динамики. В самом деле, изменяясь вместе с кризисом, эти «общественные субъекты политики» обретают все новые и новые очертания и используют особые формы самопрезентации. Логика их изменения в значительном числе случаев совпадает с логикой развития кризиса. В самом деле, поскольку именно кризисной ситуацией «новые субъекты» объясняют себе и обществу необходимость своего возникновения, то именно развитием кризиса они в дальнейшем объясняют изменения в собственной структуре.
Заметим, что все «новые субъекты», если только они не возникают с помощью государства - такие случае нередки в современной истории, подобные примеры можно найти и в истории перестройки - возникают на периферии общественного развития. Вместе с тем, с ходом кризиса, используя тот факт, что общественное
мнение признает за ними способность противостоять кризису, «новые субъекты» перемещаются в центр общественного внимания и становятся ближе к центрам принятия политических решений. Из обособленного объекта политического пространства, не имеющего с прочими объектами никаких отношений, часть «новых субъектов» превращаются на этом пространстве в участника тех или иных политически значимых контактов, обретают некие связи и с государственной машиной, и с обществом. Характер различных отношений, структурируемых кризисом, также должен стать частью кризисной модели и, следовательно, попадает в сферу нашего внимания.
В конечном счете, мы приходим к выводу, что эволюция «новых субъектов» в
период развития кризиса является крайне показательной для построения модели
кризисного развития общества. Если быть еще более точным, то принципиальна не
эволюция самих субъектов, а, скорее, изменение характера их деятельности, ее
оснований и связанных с ними целей и задач этой деятельности. В самом деле, если
«новые субъекты» перестанут эволюционировать вслед за развитием кризиса и
кризисных смыслов, их субъектность (операционализации этого понятия мы
посвятим значительную часть первой главы) останется под вопросом.
Соответственно, проблемой предлагаемого исследования является анализ оснований
эволюции политической субъектности в период кризиса. ~~
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является политическое действие в ситуации кризиса. Как было показано выше, мы допускаем, что политическое действие в ситуации кризиса обладает своей собственной логикой, так что анализ этой логики является исключительно важным для понимания параметров развития кризиса.
Предметом предлагаемого исследования являются динамика оснований политического действия в период перестройки. Перестройка, как мы показали выше, представляет собой исключительно компактный вариант завершившегося кризиса в развитом индустриальном обществе. Важным качеством перестройки является богатое наследие различных актов социальной и политической коммуникации. В противовес официозу и «заданности» советской новейшей истории участники различных событий периода перестройки крайне часто старались зафиксировать содержание тех или иных мероприятий и собственные рефлексии как по поводу этих
мероприятий, так и «вообще». Для авторов данные тексты были данью «реальной истории», для нас же они представляют богатый материал, на основании которого можно изучать саму эпоху или представления о ней современников, но не наши представления о данной эпохе. В рамках перестройки как кризисной эпохи наше первейшее внимание привлекают различные коммуникативные практики, в которых в той или иной степени принимают участие «левые субъекты» (причины этого будут подробнее обрисованы в первой главе). Именно эти практики, чаще всего имеющие своей целью установление или упрочение новых связей в кризисном сообществе (или отказ от построения таких связей), прежде всего, учитывают специфику политического действия в тот или иной момент кризиса.
Степень научной разработанности проблемы. Рассматриваемая в предлагаемой работе проблема находится на стыке целого ряда исследовательских направлений.
Прежде всего, речь идет об упомянутых выше исследованиях, посвященных проблематике кризиса в развитом индустриальном и постиндустриальном обществе.7 В рамках данного направления рассматриваются риски, которые возникают благодаря резко возрастающему количеству информации, которое необходимо обработать для принятия тех или иных решений (в частности, Тоффлер), вследствие неконтролируемого развития техники и технологии (Бек), растущих противоречий между различными цивилизациями (Хантингтон), несовершенства механизма обратной связи (Мидоузы, Рандерс).
«Рецепты», которые дают теоретики постиндустриальной волны для того, чтобы не допустить неконтролируемого развития событий, в целом могут быть сведены к трем группам. Прежде всего, речь идет о необходимости самоограничения: осторожной постановки целей (Прейдз), бережного отношения к ресурсам (Гейлбрейт), более внимательного отношения к коллективным ценностям. Также речь
7 Бек У. Указ. соч. С. 21-60; Bell D. The coming of the postindustrial society. A venture in social forecasting. N.Y., 1973; Он же. The cultural contradictions of capitalism. N.Y., 1976; Galbraith J.K.. The good society. The humane agenda. Boston -N.Y., 1996. P. 77-81; Prades J. Op cit. P. 11-14; Castells M. The rise of the Network society. Maiden - Oxford, Blackwell Publishers, 1996. P. 469-478; Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J. Beyond the limits: Global collapse or sustainable future. L.: Euroscan Publications, 1992. P. 137-217; Toffler A. The Adaptive corporation. Adlershot: Gover, 1985. P. 93-123; Huntington S.P. The clash of the civilizations and the remaking of the world order. N.Y.: Simon & Shuster, 1996; Giddens A. The consequences of modernity. Cambridge: Politi press, 1996. P. 36-47.
идет о необходимости создания развернутой системы, отдельные элементы которой были бы способны подавать глобальному сообществу сигналы о том, что в той или иной сфере жизни (в частности, хозяйственной деятельности) существует угроза возникновения и развития кризиса. В данной группе работ можно выделить две подгруппы: обращающих внимание на социальные инициативы (прежде всего, Бек, а также ряд работ последователей Хабермаса8) и исследователей «технократов», которым такая система оповещения представляется частью производственной системы будущего (например, Мидоузы и Рандерс). Наконец, значительная часть работ фокусирует наше внимание на том, что для решения принципиально новых задач необходима более подвижная иерархическая структура. Данные работы касаются как деятельности крупных корпораций (Тоффлер), так и жизни общества в целом и его организации по сетевому признаку (в частности, Кастельс).
В рамках группы работ, посвященных проблематике кризиса, мы можем выделить и другую группу исследований. Она, по нашему мнению, в наибольшей степени касается внутреннего, человеческого измерения кризиса и включает в себя работы И. В. Следзевского9, Т. В. Евгеньевой10, А. Н. Мосейко11, посвященные проблематике социокультурного кризиса. В работах этих авторов социокультурный кризис определяется, прежде всего, как кризис смыслов. Он связывается с тем, что человек внезапно отчуждается от того социального пространства, в котором он привык существовать, а вместе с тем он отчуждается и от связанных с этим пространством социальных смыслов, закрепленных в идеологии и нормативной структуре общества и усвоенных личностью в процессе социализации. С данными процессами связывается «кризис идентичности», выражающийся в том, что человек не может определить своего места в изменившейся социальной структуре - в противовес этому он стремится замкнуться в своем предельно локальном пространстве. Не последнюю роль в этих процессах играет то, что несоответствие
См. ниже о теории «гражданского общества».
См.: Следзевский И. В. Мифологема границы: ее происхождение и современные политические проявления // Современная политическая мифология: содержание и механизмы функционирования. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1996. С. 52-62; Он же. Социо-культурные основания формирования политических мифов. // «Мифология и политика». Материалы семинара 21 октября 1997 г. -М.: Фонд «РОПЦ», 1997. С. 19-25.
10 Евгеньева Т. В. Социально-психологические основы формирования политической мифологии //
Современная политическая мифология: содержание и механизмы функционирования/Сост. А. П.
Логунов, Т. В. Евгеньева. -М: Рос. гос. гуманит. ун-т., 1996. С. 22-32.
11 Мосейко А. Н. Коллективное бессознательное и мифология современных этнических отношений //
Там же. С. 33-51.
реальности привычным смыслах делает невозможным ее адекватное восприятие. Соответственно, человек либо сохраняет свою верность привычным смыслам, что в пределе означает маргинализацию и утрату социальности, либо же в действие вступают компенсаторные механизмы психики, к числу которых авторы, следуя в целом традиции аналитической психологии, относят в первую очередь архетипические структуры коллективного бессознательного.
Вместе с тем, эта концепция касается лишь одной «половины» кризиса -собственно кризисных тенденций. Элементы антикризисного поведения, по мнению авторов названных работ, имеют компенсаторный характер. Данные утверждения представляются верными для периодов, когда происходит распад единого антикризисного пространства и присутствует ожидание близкой катастрофы, или уже существует ощущение, что она наступила. Однако пока общество может защищаться от кризиса, названные мотивы восприятия кризиса присутствует не в завершенном виде, а лишь как тенденция. В предлагаемой работе мы, не оспаривая выводов, сделанных в рамках теории социокультурного кризиса, как раз и стремимся рассмотреть те механизмы, которые общество и входящие в него группы готовы предложить в качестве способа защиты от угрозы кризиса.
В известном смысле антикризисный заряд имеют и работа Ю. Хабермаса «Структурные трансформации публичной сферы».12 Она анализирует процесс «деколонизации публичной сферы», имевший место в жизни «западного» общества начиная с 60-х гг. Заметим, что данная работа породила целый «вал» исследований, которые, отчасти греша некоторым нормативизмом, видят негативную сторону развития современной общественной жизни в засилье бюрократии.13 Борьба с этим «засильем» должна, по мнению названных авторов, осуществляться путем сознания добровольных массовых организаций, которые могли бы стать стартовыми площадками для оформления критических замечаний в адрес государства и проводимой им политики.
В рамках предлагаемого исследования мы выделяем пространство кризиса из всех прочих видов социального пространства. Мы утверждаем, что в рамках этого
12 Habermas J. The structural transformation of the public sphere. Cambridge: MIT Press, 1989.
13 Keane J. Public life in late capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1984; Он же. Democracy
and civil society. London: Verso, 1988; Cohen J. Class and civil society. Amherst: University of
Massachusetts Press, 1983; Kukathas C, Lovell D.W. The significance of civil society II The transition from
socialism. Sydney, 1991. P. 12-40.
пространства фактически осуществляется борьба за утверждение доминирующего представления о причинах кризиса и за контроль над кризисными процессами и процесса борьбы с ними. Подобный подход к анализу различных сфер человеческой деятельности разрабатывался в рамках теории поля. Классиком теории поля является французский социолог Пьер Бурдье.14 Фактически теория поля разрабатывалась только им и рядом его последователей, к которым следует отнести таких исследователей как, например, Б. Фаулер15 или К. Бентли.16
Теория поля применялась Бурдье для анализа широкого спектра процессов в социальной жизни, от политики17 до литературы18 или таких частных сфер социальной активности как строительство домов.19 Мы считаем необходимым выделить ряд основных параметры теории Бурдье, которые представляются нам значимыми в контексте предлагаемой работы. В рамках представлений о социологии как о социальной топологии социальный мир трактуется как многомерное пространство, построенное по принципам дифференциации и распределения, сформированным совокупностью свойств, способных придавать их владельцу силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы агентов определяются, таким образом, по их относительным позициям в этом пространстве. Основанием власти является, прежде всего, экономический капитал в его разных видах, культурный и социальный капиталы, а также символический капитал (престиж, репутация и т. п.).
В рамках того или иного поля действуют специфические свойственные для данного поля практики, с помощью которых различные агенты могут максимизировать свой капитал в том или ином поле. Практики усваиваются в ходе деятельности агента в рамках того или иного поля. Можно вслед за Бурдье говорить о том, что практики фактически предполагают игровой характер деятельности в том или иной поле, поскольку накладывают на эту деятельность множество ограничений.
См., напр.: Бурдье П. Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение // Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 33-52; Он же. Практический смысл. М., 2000; Он же. Поле интеллектуальной деятельности как особый мир // Бурдье П. Начала. Choses dites. М, 1994. С. 208-221.
15 Fowler В. Pierre Bourdieu and Cultural Theory: Critical Investigations. L.: Sage Publications, 1997.
16 Bentely С Ethnicity and Practice II Comparative Studies in Society and History. # 29. 1987.
17 См..: Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Вопросы социологии. 1992. № 1. С.
17-33.
18 Бурдье П. Поле литературы II Новое литературное обозрение, №45,2000, С. 22-87; Bourdieu P. Les
Regies de Г art. Genese et structure du champ litteraire. P.: Seuil, 1992.
19 См.: «Actes de la recherches en sciences sociales». 1990. №81/82.
В таком случае агенты должны максимально выгодно использовать существующий у них капитал, имея заданный набор форм его использования.
Можно говорить о том, что теория поля - это, прежде всего, «система вопросов», касающихся, в частности, того, «в чем именно состоит игра <...>, каковы ставки, желаемые товары и свойства, как они распределяются». В каждом конкретном случае данная система вопросов принимает специфическую форму, применительно к конкретным параметрам того или иного поля. В структуре данной работы первостепенную значимость для нас имеет не столько данная система вопросов сама по себе, сколько утверждение, которое находится в ее основе, а именно что поведение агентов в рамках поле детерминирует данное поле и одновременно детерминируется им. С этим утверждением корреллирует и другое: поле представляет собой поле сил, наделенное структурой, и одновременно поле борьбы за изменение или сохранение этого поля. Таким образом, наиболее важным в свете предлагаемой работы является зафиксированное Бурдье (и выведенное в ряде работ на первый план) соотношение между объективными и субъективными факторами, детерминирующими действие.
С исследованиями теории поля смыкается другая весьма принципиальная для нас проблема: исследования игр и ритуалов. В частности, для Бурдье, процессы оптимального распределения ресурсов в пространстве с очевидными границами носит в чистом виде игровой характер. Проблематика игры и ритуала крайне часто появляется в работах широкого ряда исследователей и порой ставится в основу теорий социального общения.20 Заметим, что в подобных случаях и игра, и ритуал зачастую рассматриваются исследователями расширительно: речь идет о тех явлениях, которые детерминируют роли за пределами целерациональной модели или подразумевают свою особенную рациональность, которая лежит за пределами «нормальной» рациональности. Мы считаем возможным отнести к одной группы исследований не только работы, посвященные анализу ритуальных и игровых форм взаимодействия, но и анализ процессов интериоризации внешней среды, детерминирующей деятельность человека (теория габитуса Бурдье ), и отдельные
См., напр.: Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000; Бергер П.Л. Приглашение в социологию. М., 1996 (концепт «общества как драмы»); Он же. Общество как драма // Человек. 1995. № 4. С. 25-36. 21 См.: Бурдье П. Практический смысл. М., 2000.
теории культурной детерминации человеческой деятельности (в частности, модель детерминации традицией Хобсбаума22).
Между тем, наиболее значимыми в данном блоке работ для нас все же представляются те, которые связаны с анализом игровых и ритуальных форм взаимодействия. В рамках данного анализа необходимо выделить ряд «сложных мест», к числу которых относится, прежде всего, отсутствие ясной границы между игрой и ритуалом: каждый исследователь ставит границы между ними произвольно, часто не заботясь об адекватности доказательства.23 В том числе и в весьма ярких исследованиях возможно использование ритуальной модели для объяснения игровых сюжетов: так, А.И. Щербинин привлекает сформулированную В. Тэрнером в ходе исследования ритуалов концепцию «коммунитас» для анализа игр и праздников советского времени.24
Большинство определений и концепций ритуала, фокусируют внимание исследователя на двух выводах: ритуал направлен на воздействие на сверхъестественные внешние силы с целью достижения некоего практического результата (магия) (В. Тэрнер , Б. Малиновский и др.), в то же время он служит решению неких частных социальных задач, например, осознанию группой своего единства (прежде всего, Э. Дюркгейм26). Особо следует отметить структуралистские исследования ритуалов, в которых основное внимание уделяется их семантической структуре.
Восприятие решения частных задач как основы ритуала стоит, по всей видимости, производить от работы Р. Смита «Лекции по религии семитов»27, в которой анализировалось влияние правил поведения, провозглашенных иудейской
22 См.: The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 1-14.
В качестве примера можно привести такой пассаж: «Изученный им феномен светского общения Зиммель назвал чисто игровой формой. Мы могли бы сказать, что это форма полностью ритуализированного общения» (Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996. С. 127).
4 См.: Щербинин А.И. Тоталитарная индоктринация: У истоков системы: Политические игры и
праздники//Полис. 1998. № 5. С. 79-81.
5 «Ритуал - это стереотипная последовательность действий, которая охватывает жесты, слова и
объекты, исполняющиеся на специально подготовленном месте и предписанные для воздействия на
сверхъестественные силы/существа в интересах и целях исполнителей». (См.: Тэрнер В. Символ и
ритуал. М., 1983. С. 32).
6 См.: Durkheim Е. Les formes elementaire de la vie religieuse. P., 1912. Ср.: «Объединяясь друг с
другом в процессе поклонения тотему, совершая ритуальные пляски, дикари как бы аккумулируют
заключенную в тотеме энергию, которую они потом расходуют в обычной бытовой жизни,
разбиваясь на небольшие группы и занимаясь охотой и собирательством». (Глебкин В.В. Ритуал в
советской культуре. М., 1998. С. 26.).
27 Smith W.R. Lectures on the religion of Semites. N.Y., 1965.
религий, на осознание единства еврейского народа. В чистом виде модель была сформулирована Дюркгеймом и базировалась на разделении сакральной и профанной сфер жизни. Ритуал представлялся Дюркгейму системой правил, которая описывала человеческое поведение в рамках сакральной сферы. Согласно данным правилам, группа объединялась в процессе поклонения тотему и аккумулировала некую объединявшую группу энергию, которая поддерживала единство группы, когда ее члены занимались хозяйственной деятельностью. Развитием подхода Дюркгейма являются труды Б. Малиновского, который критикует Дюркгейма за пренебрежение индивидуальным началом в обществе и превращает ритуал в «третий элемент», который связывает человека и общество.28 В работах Малиновского ритуал трактуется, прежде всего, как средство, посредством которого общество прививает индивиду те или иные навыки. В то же время в рамках другого рода исследований - в частности, в аналитической психологии, ритуал, напротив, является источником становления самостоятельной личности, которая происходит именно из ритуальных
масок.
Связь ритуала с магией проходит «красной нитью» через значительное число работ, начиная с В. Фрезера и заканчивая В. Тернером. В рамках анализа целей ритуалов интересными представляются те работы, которые представляли связь ритуалов с тотемическими практиками. Подобную трактовку ритуала предложил еще А.Р. Рэдклифф-Браун , который предположил, что в ритуале проявляются некие ожидания, которые возникают у человека по отношению к элементу природы, заключенному в тотеме.
Для структуралистов (К. Леви-Стросс ) ритуал (как и миф) интересен, прежде всего, как система знаков. Соответственно, вычленяя структуру ритуала или мифа, понимая связи между его различными элементами, мы расшифровываем зафиксированное в ритуале «сообщение». Социальный контекст использования ритуала для структуралистов значим, но по сравнению с тем, что находится «внутри» ритуала, он отходит на второй план. Положения Леви-Стросса были развиты, в частности, В. Тернером, предложившим в качестве единиц ритуала символы,
28 См.: Малиновский Б. Магия, наука, религия. М., 1998.
29 См., напр.: Одайник В. Психология политики. М.,1996. С. 15-20.
30 Radcliff-Brown A.R. Method in social anthropology. Chicago, 1958. P. 20-21; Он же. Structure and
function in primitive society. L., 1959. P. 127-131.
31 См.: Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994.
Публичное действие в условиях социального и политического кризиса
Изучение политической субъектности в период перестройки, как уже было сказано выше, представляет собой частную проблему. Если ставить ее шире, то мы неизбежно придем к следующей формулировке: «изменение (эволюция) политической субъектности в кризисной ситуации». Формулируя определенные закономерности на социальном и политическом опыте перестройки, мы допускаем, что они подходят и для ряда других исторических ситуаций.
Создание сколько-нибудь внятной модели изменения оснований политического действия представляется чрезвычайно сложной задачей, по крайней мере, по двум параметрам. За исключением понятие «эволюция», которое в данном случае не несет самостоятельной смысловой нагрузки, прочие два понятия - «субъектность» и «кризис» - требуют особого объяснения. «Субъектности» мы уделим большую часть настоящей главы, но, прежде всего, обратимся к понятию «кризис» и рассмотрим, какими особенностями характеризуется «кризисная ситуация» и какие последствия она несет для устоявшихся социальных и политических структур.
Словарь русского языка дает следующее определение кризиса: «резкий, крутой перелом в чем-нибудь». Наряду с аналогичным определением Советский энциклопедический словарь указывает, что кризис - это «острое затруднение с чем-либо, тяжелое положение».68 Словарь «Политология» вновь сосредотачивает наше внимание на сбоях в функционировании системы: «кризис - перерыв в функционировании какой-либо системы с позитивным для нее или негативным исходом». Простейшее понимание кризиса, к которому мы можем прийти, исходя из приведенных выше определений, заключается в следующем: кризис представляет собой перерыв либо же сложный период в работе системы, связанный с некоторыми трудностями ее функционирования, но не обязательно с негативным исходом.
Вместе с тем, данное определение не дает ответ на вопрос, что именно происходит в процессе кризиса. Ни физическая жизнь больного, ни социальная и политическая жизнь общества в период кризиса не останавливаются. Если мы возьмем такой термин, как «кризисные явления», и определим их как «явления, препятствующие нормальному функционированию системы», а потом обратим внимание на политическую практику, то мы придем к выводу, что некоторые кризисные явления являются неотъемлемой частью политической жизни. Например, забастовки, парализующие жизнь целых городов и стран, законодательно разрешены во всех демократических государствах и даже играют в их структуре весьма важную роль. Они не отменяют существования элементов, составляющих политическую или финансовую систему, но заставляют их функционировать иначе, чем в период нормальной жизни. Изменяется характер связей между органами, однако и сами они, их положение в системе в период кризиса чаще всего сохраняется в неизменности.
Далее: в качестве периферийных кризисные явления присутствуют и ежедневной жизни любого крупного города. В каждом из них можно найти трущобы и этнические окраины. Часто расстояния между богатейшими и беднейшими частями населенных пунктов незначительны. Соответственно, почти мгновенный переход из одной части города в другую - некий мгновенный градиент - это основание для кризиса. Не менее кризисное явление - существование самих трущоб и окраин. Вместе с тем, они вписаны в систему и составляют ее неотъемлемую часть. Таким образом, система несет кризисные явления в себе.
На наш взгляд, разумнее всего говорить о кризисе как об определенном способе функционирования системы, связанном с нарушением ее привычной структуры, т.е. характера взаимосвязи ее между основными элементами. Еще точнее было бы следующее определение: кризис - это нарушение «нормальной» причинно-следственной связи. Под это определение подпадает фактически любая кризисная модель, различие которых состоит в том, что они фиксируют нарушение причинно-следственных связей в различных сферах человеческой деятельности. Оно подразумевает, что те действия, которые в условиях «нормальной жизни» должны были привести к позитивному результату, в ситуации кризиса в лучшем случае не приводят ни к чему, а в худшем случае этот кризис развивают.
Если выделенные нами структурные изменения постоянны, то это означает, что общество находится в непрерывно кризисном состоянии. В то же время, именно эти структурные изменения, если они должным образом воспринимаются обществом, могут быть фактором, гарантирующим и направляющим его развитие. Тематика кризисности, например, активно звучит в ходе анализа деятельности «новых социальных движений», возникших в западном мире в 60-70-х гг. XX в. и радикально изменившие структуру политической и общественной жизни в таких странах, как США или Германия.70 Речь здесь идет о неспособности государства ответить на многочисленные вызовы, которые предлагает современное состояние общества, и о должных изменениях в структуре общества, которые происходят для того, чтобы компенсировать данную «неспособность» государства. В то же время данные кризисные явления не являются определяющими для общества, они находятся на периферии общественного сознания и социальной жизни.
Само понятие борьбы, соревновательности, в конечном счете, идея наличия множества центров власти или культуры и соперничества между ними как основы существования и развития общества, непрерывно изменяющей его структуру, подразумевает интеграцию в социальную систему постоянных вызовов существующей структуре социальной и политической жизни, постоянное изменение связей между элементами системы. Сюда же добавляются вызовы, формулируемые средой. Понятие среды расширяется, появляется не только природная среда, но и, например, социальная среда (ряд авторов, например, Бэлл71), среда принятия решений (Тоффлер72) или институциональная среда (Кастельс73). Ощущение опасности для нормального развития общества привносится не только ускорением процессов в этих средах, о котором пишут все названные выше авторы. Объединения всех или части данных сред в рамках сконструированного глобального процесса или пространства делают кризис еще более ощутимым, а угрозы, формулируемые им перед неким глобальным сообществом или перед человечеством в целом - почти фатальными. Именно с такой точки зрения кризис современной цивилизации рассматривается в
рамках теорий «глобального энвайронментального изменения» (Ж. Прейдс ) или «общества риска» (У. Бек75).
На модели «общества риска» следует остановиться немного подробнее. Она представляется крайне показательной по той причине, что позволяет показать механизмы оценки причинности, которые существует в обществе с той или иной степенью кризисности. «Оценка возможного риска - центральный аспект нашей жизненной стратегии и планирования наших действий. Однако возникновение «рискованного» общества связано не только с увеличением числа рисков, с которым сталкиваются индивиды. Оценка всего окружающего как среды рисков — важная психологическая черта индивида поздней модерности».
Эволюция формы организации деятельности в процессе обретения субъектности
Используя в анализе проблемы субъектности в ситуации кризиса понятие «драматургического действия», мы не можем не остановиться на ключевых для анализа такого действия понятиях, таких как «ритуал», «игра», «инсценировка» и «спектакль». Ключевым понятием в данном случае является понятие «игры», по отношению к нему очевидным образом вторичными «инсценировка» и «спектакль». Они представляют собой проявления игрового принципа взаимодействия, возможно, более древнего и глубоко укорененного в человеческой природе, чем все прочие. Проблематику ритуала мы затронем несколько ниже.
Мы уже обращали внимание на то, что игра в большинстве работ трактуется как действо, которое замкнуто само на себя. Один из классиков исследования игры, Георг Зиммель, говоря об игровой стороне светского общения, так описывает эту особенность игры:
Общение - это «игра, в которой считается, что все равны и в которой каждый пользуется особенным уважением. Последнее в такой же малой мере является ложью, в какой лгут игра и искусство, отклоняясь от реальности. Ложь возникает в тот момент, когда поступки и речь общающихся касаются перспектив и событий реальной жизни, точно так же, как картина лжет, претендуя на панорамное отображение действительности».131
В данном случае особо подчеркивается тот факт, что статус, приобретаемый участником игрового взаимодействия, не зависит от статуса, который данное лицо имеет за пределами игры. Зиммель, отчасти предваряя семиологию и, в частности, цитированного выше Барта, также отмечает, что в игре формы взаимодействия теряют свое привычное содержание и, сохраняясь в качестве формы, начинают жить согласно новым, особенным законам.
«В какой мере общение осуществляет абстракцию (значимых, впрочем, лишь по содержанию) социологических форм взаимодействия и наделяет их ... неким призрачным телом, обнаруживается, наконец, в универсальном носителе всех человеческих общностей - в разговоре... В жизни люди всерьез разговаривают ради некого содержания ...; в общении же разговор - самоцель..., но в смысле искусства саморазвлечения с его собственными художественными законами».
Соответственно, по отношению к нормальному пространству пространство общения, которое анализирует Зиммель, является пространством деперсонализированной коммуникации, общения «масок» (в терминологии Зиммеля) или ролевого общения. Но, пожалуй, наиболее интересен тот факт, что в модели Зиммеля роли детерминированы не представлениями о должном в социальном плане (как у Гоффмана), а скорее о «должном» в плане эстетическом, законами не социальными, но «художественными». Понятие о должном, т.е. понятие «такта», у Зиммеля также существует и играет весьма важную роль, но, прежде всего, в том отношении, чтобы не сделать общение слишком личностным и не разрушить ту ролевую структуру, которая делает его возможным.
Представление о мере допустимого в игре, т.е. о такте, формирует игровое пространство общения аналогично тому, как согласие не брать мяч руками никому, кроме вратаря, делает возможной игру в футбол. Но если в случае с футболом истоки правил понятны, то даже в случае с анализом «общения» они уже вызывают некоторые сомнения. В самом деле, в предложенной Зиммелем модели не существует никакого четкого критерия, который позволил бы нам определить, какое действие является приемлемым в игре, а какое не является. Понятие «такта», в свою очередь, предполагает, что игра регулирует сама себя. Нарушение правил игры одним человеком выводит его за пределы игрового пространства или же на время приостанавливает ход игры, нарушение этих правил значимым количеством игроков разрушает игровое пространство.
Вместе с тем, пока правила игры не нарушаются, игровое пространство существует и развивается именно согласно определенным эстетическим законам. Представление о «красивом» и «некрасивом» в каждом случае является особым и представляет собой один из наиболее важных факторов, лежащих в основе существования любого игрового пространства. Эти представления разительно отличаются от существующих в реальной жизни, равно как и представления о приличном и неприличном. Иллюстрируя данное положение, Зиммель использует следующий пример: «дама ... не могла бы появиться на интимно-дружеской встрече в присутствии одного или нескольких мужчин в таком декольте, которое нормально и уместно в «обществе».135 Некоторая эстетическая «инаковость» игрового пространства определяется как раз тем, что оно выделено из «нормальной жизни» и не предполагает трансляции «жизненных правил» в игру и, соответственно, игровых правил в жизнь. Напомним, что этим своим качеством игра существенным образом отличается от, например, ритуала, который, будучи столь же эстетически особенным, как и игра, тем не менее, имеет в своей основе задачу конституирования некой связи, причем в качестве одного из адресатов всегда выступает реальная жизнь.
Соответственно, возникает вопрос, каким образом игровое действие (или близкое к игровому), по мнению теоретиков игры полностью замкнутое на себя и не конституирующая никакой связи кроме связи между играющими, может использоваться в качестве инструмента, обеспечивающего связь, к примеру, между «локалиями» и «центрами принятия решений». Для полного ответа на поставленный вопрос нам необходимо ввести еще два понятия, которые в работах Гофмана - родоначальника «драматургического действия» - присутствуют неизменно. Речь идет о понятиях «сцены» и «публики».
Гофман, определяя драматургическую модель действия, кроме двух взаимодействующих субъектов выделял также и третий элемент взаимодействия -публику. По его мнению, «на сцене актеры являются партнерами ... публика является третьим партнером во взаимодействии». В реальном жизненном взаимодействии, согласно Гофману, происходит соединение второго и третьего элементов, то есть актеры сами становятся публикой друг для друга.
Целью драматургического действия, как было сказано выше, является самопрезентация, т.е. создание эстетически окрашенного образа себя с целью произвести на участвующую во взаимодействии или наблюдающую его публику нужное впечатление, и тем самым заставить ее способствовать достижению цели деятеля (телеологическая составляющая, о которой мы говорили выше). Самопрезентация происходит посредством того, что актер постоянно меняет «маски», то есть действует в соответствии с теми требованиями, которые выдвигает данная ситуация, при этом у него есть только одна цель - произвести благоприятное впечатление на публику.
Вспоминание истории - формирование модели кризиса и субъектной истории
Как мы отмечали выше, 1987-88 гг. стали временем, когда интеллектуалы обращали крайне пристальное внимание на советскую историю. Поскольку 1985 г. оказался годом «отсечения» истории от не-истории (история борьбы с кризисом началась в 1985 г., а до того времени кризисные явления лишь накапливались), то возникла необходимость «историзировать» прошлое, показать, что борьба с кризисными явлениями имела место и ранее.
Главной линией разнообразных исторических исследований была своего рода «инвентаризация прошлого». По заявлению одного из интеллектуалов, «говорить о нашем прошлом - значит, говорить о выборе пути, о том, что мы берем из прошлого и что мы отвергаем. Говорить о целях и методах, о политике и нравственности, как они выделись из первых революционных лет и из той четверти века, которая еще на нашей памяти обозначалась как «великая сталинская эпоха».259
Во-первых, необходимо было вспомнить, воссоздать прошлое, дать оценку его героям и основным его тенденциям, объединить все это в целостную временную картину. Однако данные исторически исследования не были самоценными, и их действительное назначение заключалось в том, чтобы выделить в прошлом истоки современности: как истоки проблем , так и истоки механизмов их разрешения. По выражению Г.Х. Попова, «если механизм торможения десятилетиями отбивал попытки реформ, то одновременно накопился и потенциал перемен».
Оценка прошлого была, прежде всего, нравственной оценкой. Для того, чтобы составить новую историю, должен был быть осуществлен нравственный суд над всеми деятелями прошлого. По выражению Ю. Карякина, «именно «морализаторство», именно ощущение ужаса, спазма в горле будут играть сейчас решающую роль - и в развитии общественных наук тоже - именно это и может помочь нам».262
Характерным примером такого морального суда является пьеса М. Шатрова «Дальше... Дальше... Дальше» (статья в газете «Московские новости», посвященная анализу этой пьесы, называется «Истории подсудны все»264). Она интересна нам в том числе и потому, что предлагает специфическую трактовку времени суда: это либо 24 октября 1917 г., либо «семь десятилетий нашей послереволюционной истории». Двойственную трактовку получает и пространство: это либо Зимний дворец, Смольный и пр. ключевые для революции точки, либо же нереальное пространство, которое в критических замечаниях по пьесе сравнивается с пространством автора «Божественной комедии».
В пьесе существует только одни субъект оценки - Ленин. Именно он выносит приговор Сталину - отказывает тому в праве считаться его учеником. Ленин говорит от имени истории, точнее, по выражению обозревателя «Московских новостей», «опирается на тот уровень понимания истории, которого нам удалось достигнуть сегодня». Характерен и финал: Сталин «остается на сцене, пока каждый из нас» не выяснит с ним отношений «с позиций революционера-ленинца». Здесь необходимо выделить два крайне важных момента: мы, живущие в настоящем времени, формально не являемся субъектами. Судьей становится история, ее персонификатором - тот, кто начал историю, т.е. Ленин. Однако Ленин судит с позиций нашего понимания истории, а вслед за Лениным, по выражению автора рецензии, свое суждение должны вынести и «мы». Иначе говоря, мы в настоящем является подобием Ленина пьесы и Ленина из прошлого, актуального в настоящем.
Заметим, осуждение Сталина основывается на двойном понимании истории. С одной стороны, Ленин понимает, что действия Сталина в будущем приведут к кризису. С другой стороны, мы знаем, что действия Сталина привели к кризису в прошлом и настоящем. И если 24 октября в Зимнем или в Смольном перед нами предстает Ленин, то второе, «неопределенное» пространство и время — это пространство и время нашего суждения. В данном случае Ленин выступает как наше выражение, а его понимание истории является в реальности нашим пониманием. Вместе с тем подобная двойная объективация оценки необходимо для того, чтобы сделать эту нашу оценку и наш «спазм у горла» универсальными, защитить его от возможных нападок.265
Важным вариантом суда является т.н. «возвращение истории» того или иного исторического персонажа: его возвращение не может идти отдельно от его оценки нами и необходимо для того, чтобы мы выяснили, подходит ли этот конкретный персонаж для нашего прошлого и для того, чтобы мы стали продолжателем его линии в настоящем. В свою очередь, эта оценка чаще всего связывается с тем, насколько этот персонаж близок к идеальной модели антикризисного поведения (т.е. идеалам чистого социализма и лично к В.И. Ленину) и являлся ли он участником борьбы с бюрократией (что предлагал для ее ограничения, не действовал ли - пусть и неосознанно - в ее пользу и как и когда пострадал от «системы»).
Заметим, что возвращение того или иного персонажа могло оказаться «неподержанным» коллегами по «интеллектуальному» лагерю. В этом плане характерным является пример Л.Д. Троцкого. По утверждению историка В. Биллика, «о Троцком лгали столько лет, что сделали из него загадочную личность. По существу, сегодня никто не понимает, что же такое Троцкий. И это в равной степени относится и к тем, кто его любит, и к тем, кто его ненавидит». «Возвращая» Троцкого в историю в качестве положительного героя, историк большую часть своего выступления посвящает доказательству того, что у Троцкого не было принципиальных разногласий с Лениным. По его мнению, «они были единодушны по большинству принципиальных вопросов политики». Его оппозиция Сталину также является очевидной гарантией его положительности. Напротив, для Ю. Карякина утверждение, что «Троцкий - это был Сталин вчера, а Сталин был Троцкий «сегодня» является основанием для негативного отношения к этому деятелю революции. 7 Утверждение, что «левацкие» взгляды Троцкого во многом стали основанием для последующих мер, предпринятых Сталиным, стало базовым для периода перестройки. 68 Заметим, что в случае как осуждения, так и восхваления Троцкого мы сталкиваемся с подведением того или иного исторического персонажа и нашей оценки этого персонажа под крайние, что в данном случае означает объективированные, политико-исторические маркировки (оппозиция «Ленин-Сталин»), Осуществляя такое подведение, «мы» решаем простую проблему -«вернуть» или «оставить».
Не менее, а может быть, и более интересным является «введение в историю» Н. Бухарина. В одном из его проявлений - воспоминаниях его жены, опубликованных в «Огоньке» в конце 1987 г. - мы можем встретить уже знакомые нам черты. 1936-7 гг. - время опалы и ареста Бухарина - названы временем, «когда Сталин во всей полноте показал деспотическую сущность своего характера». Бухарин же перед арестом пишет свое обращение к партии на столе, где «лежали письма Ленина к нему, - их он перечитывал все последние дни». Отметим, что все это происходит на фоне конфликта — живого, чувствительного человека и безжизненной, беспощадной государственной машины. Судьба Бухарина прочно связывается с судьбой нэпа, а к его биографии добавляются новые выводы.
Например, Ф. Бурлацкий в послесловии к своей пьесе «Политическое завещание», в которой происходит спор между двумя братьями, сторонником нэпа и последователем Сталина, пишет, что «сейчас», когда осуществляется «фундаментальная перестройка и обновление нашего общества» и имеют место «острые дискуссии», важно «помнить уроки истории» и ценить политические заветы Ленина.270 Б. Можаев в дискуссии поводу написанного им романа о коллективизации высказал очевидную, по его мнению, мысль, что «Бухарин не имел своей собственной линии, он защищал политику ленинской кооперации и НЭП вместе с Рыковым, Томским, Дзержинским, Фрунзе и другими».271 Соотнесение Бухарина с правильной, нравственной историей, импульс которой был задан Лениным, в противовес неправильному, ненравственному варианту, предложенному Сталиным, говорит о положительной важности Бухарина для «нашего» времени.