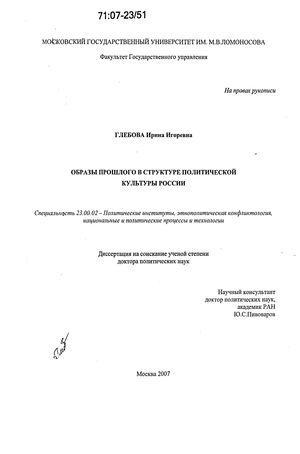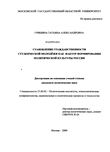Содержание к диссертации
Введение
Глава I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗ ПРОШЛОГО:ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 26
1. Основные подходы к изучению политической культуры .27
2. Проблема преемственного движения политий в социальном времени 48
3. Концептуализация понятия «образ прошлого» . 68
Глава II. ХАРАКТЕР ТЕМПОРАЛЬНОГО САМОПОЛАГАНИЯ РУССКОЙ ПОЛИТИЙ В XX В 86
1. Особенности политической преемственности и специфика «работы памяти» в России 87
2. Политико-культурные предпосылки «сбросов» памяти в русской политической системе 123
Глава III. РОЛЬ ОБРАЗОВ ПРОШЛОГО В ФОРМИРОВАНИИ ПАМЯТИ ПОЛИТИКИ 150
1. Интеграция травматического политического опыта в память сообществ и актуальную политику 153
2. Значение памяти для интегративных и идентификационных процессов в политике 172
Глава IV. ПАМЯТЬ РУССКОЙ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСЛЯЦИИ, АКТУАЛИЗАЦИИ 208
1. Роль политического опыта в процессах трансляции власти в России 209
2. Потенциал «памяти» и социально-политические практики власти 233
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 254
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 264
- Основные подходы к изучению политической культуры
- Особенности политической преемственности и специфика «работы памяти» в России
- Интеграция травматического политического опыта в память сообществ и актуальную политику
Введение к работе
Актуальность темы. Едва ли не общим местом современных социальных исследований стала констатация факта усложнения общественных процессов, их стремительной нелинейной динамики, принимающей подчас хаотический, обвальный характер. Меняя собственную логику и направленность, они предоставляют меньше возможностей для научного предвидения. Соответственно трансформируется и политика, обновляется природа политического. С известной долей условности можно сказать о наступлении эры «постклассической» политики и, наверное, постклассической политической науки (подобно постклассической фазе развития естественных дисциплин). Политику уже невозможно объяснить с помощью господствовавших еще недавно в социальных науках подходов, методов, представлений. В то же время новизна, обновляющаяся сущность политического, предполагающие изучение и артикуляцию, превратились в важную теоретическую интенцию, направляющую научный поиск.
Одна из характеристик этой трансформации - изменение понимания времени, преобразование образов темпоральности. Это дает импульс к пересмотру («ревизии») основных подходов ко всему комплексу проблем, связанных с темпоральным бытованием политий, иначе говоря их историческим самополаганием в социальном времени.
Под влиянием катастроф XX в. и нарастающего ускорения темпорального ритма трансформировались традиционные представления о социальном времени, в котором были линеарные прошлое, настоящее и будущее. Линейка прогресса, когда настоящее лучше прошедшего, а будущее - настоящего и одно следует за другим, сломана. На смену ей пришло такое видение мира, где прошлое-настоящее-будущее составляют неразрывное единство. Они полноправно включены в каждый конкретный миг бытия. И не просто включены - они его образуют1. Разумеется, это не означает, что традиционные представления о социальном времени абсолютно нерелевантны. Современность включила их в себя как частный случай, как один из способов восприятия времени. Однако критика идеи прогресса в политической перспективе ломает (или, во всяком случае, ставит под сомнение) уверенность в достижимости «устойчивого» («равновесного», стабильного) общества, а также все больше «субъективизирует» общественные практики, усиливая в них иррациональные мотивы.
1 Не случайно, определяя темпоральный режим современности, М.Кастельс говорит о «вневременном времени», а Д.Харви - о «пространственно-временном сжатии».
Вследствие распада традиционного образа времени настоящее превратилось в категорию нашего понимания самих себя - и во многом подчинило себе время (отсюда метафора Т.Х.Эриксена - «тирания мгновения»). Но это особое настоящее: лишенное уверенности в необратимом характере времени и прогрессистской устремленности в будущее, оно ищет устойчивости в прошлом, видоизменяя, приспосабливая его к себе. Наше настоящее не обременено задачей познать «реальность» прошлого - оно стремится управлять им, его моделировать и использовать, ощутить как реальность образы прошлого. Растворяя ту «временную идентичность», что скрывала разрывы истории, настоящее делает чем-то само собой разумеющимся конструирование традиций, преемственности, любых символических объектов. Их социальное значение чрезвычайно возросло - они признаны, материализованы, как бы приравнены к объектам физическим.
Особые качество и смысл придает этой «ментально-темпоральной революции» (МТР) революция информационно-коммуникативная. Теперь в разных общественных подсистемах (в том числе политической) иначе, чем раньше, выстраиваются пространственно-временные связи. При селекции системно-специфического прошлого и формировании принципиально важных для системы «вариантов» будущего все больше ориентируются на медийные образы, составляющие единой «массмедийной конструкции реальности» (Н.Луман). Политическая преемственность обращается в медиатизированное, социально конструируемое явление, что придает ей отчасти имитационный характер. Она формируется и за счет управления массмедийными образами прошлого. Поэтому современное общество репрезентирует и интерпретирует себя политически во многом посредством и через эти образы, в публичном информационном пространстве приобретающих характер «политических текстов».
Для российской политий образы прошлого имеют особое значение. Это объясняется специфическим характером ее темпорального бытования. В западных политиях преемственное движение во времени обеспечивается как культурно-«генетическими», так и институциональными способами. В России при очевидной неустойчивости, слабости институциональной системы и неразвитости институциональных традиций трансформация происходит за счет специфического самовоспроизводства особого типа («моносубъектной») власти и не менее специфического преемства культурного кода («генотипа»)1. Специфика этих способов преемственности заключается в принципиальном разрыве каждой
1 Речь вдет о глубинных, устойчивых структурах политической культуры, действие которых задает своеобразную «генетическую программу». Политико-культурная динамика во многом регулируется этой программой. В то же время развитие связано не только с реализацией «генетического» влияния, но и с постоянным выбором способов преемственности. В периоды трансформаций влияние культурного кода («генотипа») усиливается, что ощущается и в «изобретенных» социальных практиках.
наступающей эпохи (исторической фазы социополитического развития) с наследием ей предшествующей. Трансформация осуществляется - как бы это ни было парадоксально -посредством видимой, кажущейся аннигиляции транслируемого и его сущностного воспроизводства в новых, соответствующих современности формах. Такой тип эволюции требует использования особых трансляционных механизмов, возмещающих недостаток институционального наследия и позволяющих скрыть перерывы в преемственности. Политическая стабилизация и системное воспроизводство реализуются с участием «изобретенных» в настоящем опыта, образцов, традиций, что предполагает активную информационно-символическую деятельность. Одну из ключевых скрепляюще-трансляционных ролей играют в русской политий образы прошлого.
В последние десятилетия вследствие «подключения» России к современной «мир-системе» с ее темпоральными сломами и коммуникативными сдвигами значение массмедийных образов прошлого постоянно возрастает. Преимущественно под их влиянием формируются представления людей о значимом прошлом, составляющие (среди прочего) «ткань» политических ориентации и во многом определяющие темпоральный «ход» политий.
Степень научной разработанности темы. Темпоральное бытование политий - одна из важнейших тем, обозначенных Г.Алмондом и С.Вербой в концепции политической культуры1. Фактически они ввели тему времени в политические исследования. При этом апеллировали к тем темпоральным представлениям, которые сложились в современных им социальных науках: политическая темпоральность понималась несколько упрощенно; традиции рассматривались как нечто изначально данное и в основном неизменное. В том же ключе толковалась и сама политика (как порядок, связанный с действием целой системы обезличенных норм, процедур, нормативных смыслов и институционализированных практик), поэтому понятие «политическая культура» использовалось создателями концепции и первым поколением ученых, ее развивавших, преимущественно в нормативистском значении.
Существенное воздействие на изучение тем политической преемственности, исторической обусловленности политической культуры оказали исследования социального измерения темпоральное, предпринятые в XX в. Они занимают значительное место в
1 См.: Almond G. Comparative political systems II J. of politics. Austin, 1956. Vol.18, N 3; Almond G., Verba S. The civic culture: Political attitudes and democracy in five countries. Princeton, 1963. См. также: Aron R. Democratic et totalitarisme. P., 1965; Pye L. Political culture II International encyclopedia of the social sciences. N.Y., 1965. Vol.12; Greene J. Changing interpretations of early american politics II Interpreting Early America: Historiographical essays.
общественных науках. В психологии к этим проблемам обращались У.Джеймс, З.Фрейд, К.Юнг, П.Жане, Е.Минковский, К.Левин, Ж.Пиаже; в этнологии - Р.Кодрингтон, Т.Ходсон, М.Нильсон, Б.Малиновский, Э.Эванс-Притчард, К.Леви-Стросс, К.Гирц; в экономике -Е.Бем-Баверк, А.Маршал, К.Викселль, Л. фон Мизес, И.Фишер, Г.Мюрдаль, Ф.Найт, Дж.М.Кейнс, Дж.Хикс, Дж.Шэкл; в социологии - А.Юбер, Э.Дюркгейм, М.Вебер, М.Хальбвакс, П.Сорокин, Дж.Мид, А.Шюц, Т.Лукман, Н.Элиас, Ж.Гурвич, И.Гоффман, У.Мур, Э.Гидденс и др.
Особое внимание исследователей привлекла проблема темпоральной самоидентификации. Еще Э.Эриксон показал опасность для личности ее конфликта со временем1. На фоне макроизменений эта опасность представляется весьма существенной2. В нестабильные эпохи время служит, с одной стороны, внешней рамкой для измерения процессов и событий, а с другой - для упорядочивания их хаотического потока, высвечивая внутренние свойства, продолжительность или краткость, тот или иной темп, ритмичность или беспорядочность и т.п. Освоение социального времени, ощущение временной перспективы (как «личной хронологии», по выражению П.Жане) способствуют адаптации индивида ко времени своей эпохи, позволяют адекватно использовать роли, ею востребованные.
В социальных науках активно изучались механизмы формирования представлений о прошлом (памяти) и о будущем (ожиданий), связанных с самоидентификацией личности и социальных общностей в потоке времени. Предметом исследования стала, прежде всего, индивидуальная память (в психологии и психоанализе). Кроме того, в 1920-е гг. французский социолог М.Хальбвакс начал разработку концепции коллективной памяти3. Он показал, что память - не только психофизиологическая, но и социальная функция. По Хальбваксу, индивидуальная память сплавлена с памятью коллективной, воплощенной в традициях, социальных институтах и т.д., а социальное взаимодействие есть важный фактор запоминания и вспоминания.
Charlottensville, 1996; Формизано Р. Понятие политической культуры // Pro et contra. 2002. Т.7, № 3. С. 183-194 и
др.
1 См.: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.
2 О значении времени для социальных изменений говорил П.А.Сорокин: «...любое Становление, Изменение,
Процесс, Сдвиг, Движение, Динамическое состояние, в противоположность существованию, предполагает
Время» (Цит. по: Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С.67).
3 Halbwachs М. Les cadres sociaux de la memoire. P., 1925. См. также: Halbwachs M. La memoire collective. P.,
1950.
В социологических, экономических, исторических, этнографических работах анализируются разные типы темпоральных воззрений, характер их эволюции во времени1. Проблема формирования представлений о прошлом рассматривается с точки зрения получения и усвоения информации, технологий ее трансляции и актуализации, динамики социальной системы накопления и передачи значений. Представлениям о будущем, т.е. ожиданиям действующих субъектов, значительное внимание уделяется, например, в экономической теории. Здесь создан ряд моделей, определяющих видение будущего: в зависимости от характера информации и опыта, на основании которых они формируются, ожидания классифицируются на экстраполяционные, адаптивные и рациональные2. В этнологических и антропологических исследованиях подчеркивается, что темпоральные представления отличаются высокой степенью социальной и культурной дифференциации (за исключением лишь самых примитивных обществ).
Специфический срез проблемы восприятия социального времени представлен у К.Мангейма3. В связи с темами идеологии и утопии он указал на «политизированный» характер темпоральной самоидентификации. Его типология политического сознания (либеральное, консервативное, социалистическое) основана на разных представлениях о времени.
1 См, например: Sturt М. The psychology of time. N.Y., 1925; Meinecke F. Die Entstehung des Historismus.
MUnchen, 1946; Hoffer W. Geschichtsschreibung und Weltanschauung. Miinchen, 1950; Rothacker E. Mensch und
Geschichte. Bonn, 1950; Litt Th. Die Wiedererweckung des geschichteichen BewuBtseins. Heidelberg, 1956; Aron R.
Dimensions de la connaissance historique. P., 1961; Shell B. Entdeckung des Geistes: Studien zur Entstehung des
europaischen Denkens. Hamburg, 1964; Mommsen W. Die Geschichtswissenschaft jenseit des Historismus. Diisseldorf,
1972; Arrow K. The future and the present in economic life II Economic inquiry. Apr. 1978. V.16, N 1. P.157-169;
Sticher G. Gesellschaft und Geschichte. Koln; В., 1974; Whitrow G. The nature of time. N.Y., 1975; Blumenberg H.
Lebenszeit und Weltzeit. Frank./Main, 1986; Kaselleck R. Futures past: On the semantics of historical time. Cambridge;
L., 1985; Hareven T. Family time and industrial time. N.Y.; Cambridge, 1982; Stone L. The past and present revisited.
L., 1987; The rythms of society. L.; N.Y., 1988; Blyton P. Time, work and organisation. L., 1989; The sociology of
time. L., 1990; Chronotypes: The construction of time. Stanford, 1991; Гуревич А.Я. Время как проблема культуры
// Вопросы философии. 1969. № 3. С.105-116; Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод //
Философские проблемы исторической науки. М, 1969. С. 186-224; Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление
историзма. М, 1987; Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992; Ломан Ю.М.
Культура и взрыв. М., 1992; Фомичев П.Н. Современные социологические теории социального времени
(Научно-аналитический обзор). М., 1993; Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек - текст - семиосфера
- история. М., 1996; Зиммель Г. Проблема исторического времени // Зиммель Г. Избранное. Т.1. М., 1996.
С.517-529; Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М, 1997; Штомпель Л.А.
Смыслы времени. Ростов-на-Дону, 2001; Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2002; Пространство
и время социальных изменений / В.НЛрская и др. М; Саратов, 2003; Соколова М.Е. Социальное время и новые
электронные технологии: Аналитический обзор. М., 2006.
2 См., например: Lihndal Е. Studies in the theory of money and capital. L., 1939; Myrdal G. Monetary equilibrium. L.,
1939; Katona G. The powerful consumer. N.Y., 1960; Katona G. Psychological economics. N.Y., 1975; Sargent Т.,
Wallace N. Rational expectations and the theory of economic policy II J. of monetary economics. 1976. V.2, N 1.
P.169-183; Lucas R. Studies in business-cycle theory. Cambridge, 1981; Кейнс Дж. Общая теория занятости,
процента и денег. М., 1978; Проблемы экономических циклов и кризисов в буржуазной экономической науке:
Сб. обзоров. М., 1988.
3 Мангейм К. Идеология и утопия. М., 1994.
Важное место анализ темпоральных представлений занимает в изучении мифического (мифологического) сознания. Начало этому направлению было положено трудами ЭДюркгейма, А.Юбера, М.Мосса; классический статус ему придали работы М.Элиаде, Г.Беккера, С.Брэндона и др. Заметный вклад в его развитие внесли российские авторы -Е.А.Мелетинский, С.С.Аверинцев, В.Б.Иванов, С.А.Токарев, В.Н.Топоров и др.
Роль темпоральных воззрений в социальных взаимодействиях оказалась в центре, прежде всего, социологических исследований (хотя анализируется представителями самых разных социальных дисциплин и научных школ). В них подчеркивается, что представления о времени (его ценности, возможностях овладения им и использования в качестве социального ресурса, общественной роли) влияют на поведение социальных субъектов и во многом определяют характер социальных взаимодействий. Тема влияния времени на формирование поведения действующего субъекта, будучи лишь обозначена М.Вебером и Э.Дюркгеймом, получила подробное освещение в теории символического интеракционизма2. Время как фактор, обусловливающий целерациональное или целевое (purposive) поведение, анализировалось в работах сторонников феноменологического подхода3. Тема влияния темпоральных представлений на поведение рассматривалась и в рамках концепции рутинизации социальных действий и интеракций, подчеркивавшей внешнюю заданность и социальную обусловленность повторяющихся взаимодействий4. Здесь время трактуется как параметр, структурирующий социальную реальность: учитывается роль индивидуального темпорального сознания действующих, но указывается, что темпоральные категории
1 См.: Becker Н. Through values to social interpretation: Essays on social contexts, actions, types and prospects. N.Y.,
1968; Brandon S. Time and mankind: A historical and philosophical study of mankind's attitude to the phenomena of
change. L., 1951; Brandon S. History, time and deity: A historical and comparative study of the conception of time in
religious thought and practice. Manchester; N.Y., 1965; Элиаде M. Миф о вечном возвращении (архетипы и
повторение) // Элиаде М. Космос и история. М., 1987; Он же. Священное и мирское. М., 1994; Он же. Мифы,
сновидения, мистерии. - М.-Киев, 1996.
2 См.: Mead G. Mind, Self and society. Chicago, 1934; Mead G. The philosophy of the act. Chicago, 1938; Tillman M.
Temporality and role-taking in G.H.Mead II Social research. 1970. Vol. 37, N 1. P.57-72 и др. Особенно важна
критика Дж.Мидом бихевиористского подхода к понятию времени (у Дж.Уотсона), в котором прошлое (как
"стимул"-причина) детерминирует будущее ("ответ"-следствие). Мид считал, что это исключает из социальных
взаимодействий возможность выбора. В социальной психологии Мида указано на существование такого
момента в настоящем, в котором человек интерпретирует ситуацию и выбирает подходящий ответ. Эта
избирательность в отношении к опыту является источником нового, неопределенного в социальном
взаимодействии. Тема темпорального выбора присутствует у А.Шюца, Г.Гарфинкеля, Э.Гидденса. Такое
понимание социальной темпоральное усвоено современной политической наукой.
3 Schutz A. The phenomenology of the social world. Evanston, 1967; Schutz A. Collected papers. V. 1: The problem of
social reality. The Hague, 1962; Schutz A., Luckmann T. Strukturen der lebenswelt I, II. Neuwied; Darmstadt, 1975;
Luckmann T. The constution of human life in time II Chronotypes: The construction of time. Stanford, 1991. P.151-166
и др.
4 См., например: Goffman Е. Interaction ritual. L., 1972.
формируются в процессе социальных взаимодействий и затем становятся их регуляторами, синхронизаторами, ограничителями1.
Тезис об использовании времени для контроля, регулирования и синхронизации социальной жизни выдвигался в работах П.Сорокина и У.Мура2. Важный аспект изучения времени как элемента социальной организации связан с категориями власти и контроля. М.Вебер показал, как контроль над информацией (в т.ч., над информацией о прошлом) превращается в инструмент бюрократической власти и контроля3. Заметное развитие тема использования времени во властных интересах получила у М.Фуко4, а затем активно разрабатывалась в социологии. Вообще, в современной научной литературе тема эксплуатации темпоральности (или использования времени) чаще всего рассматривается в рамках двух внешне взаимоисключающих концепций: дисциплины и аллокации, разработанных соответственно М.Фуко и экономистом Гэри Беккером. Последняя акцентирует внимание на проблеме выбора и принятия решений индивидом5. Фактически же эти концепции, скорее, дополняют, чем отрицают друг друга, рассматривая время в качестве категории социального смысла, элемента общественной организации (структуры).
Еще один важный аспект влияния темпоральных воззрений на социальное поведение - борьба со временем, обретающая особое значение в современном контексте6. Подчинение времени связано с покорением пространства - две эти социальные категории соединены в сознании людей. Поэтому революция в развитии транспортных средств и средств связи
В западной литературе 1980-1990-х годов преобладает точка зрения: социальное время может рассматриваться и в исторической перспективе, и сквозь призму индивидуальной жизненной хронологии; темпоральность как измерение количественных отношений (длительности, интенсивности, скорости) не может быть отделена от социального значения; время есть фактор социальных изменений.
2 Sorokin P. Sociocultural causality, space, time: A study of referential principles of sociology and social sciences.
N.Y., 1964; Moore W. Man, time and society. N.Y.; L., 1963.
3 Weber M. Economy and society. Berkeley, 1978. См. также: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории
структурации. М., 2003.
4 Foucault М. Discipline and punish: the birth of the prison. L., 1977.
5 Беккер Г. Теория распределения времени [1965] // США: экономика, политика, идеология. 1996. № 1. С.75-84;
№ 2. С.114-124. Экономический подход ориентирован, в том числе, на изучение эволюции представлений о
ценности времени.
6 Schwartz В. Queuing and waiting. Chicago, 1975; Melbin M. The colonisation of time II Timing space and spacing
time. L., 1978. Vol.2; Rifkin J. Time wars: The primary conflict in human history. N.Y., 1987; Бурстин Д.
Американцы. Т.З. Демократический опыт. М., 1993 [1973]; Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-
е изд. М., 1984 [1972]; Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного
экономического человека. М., 1994. [1913] и др. В современных организационных исследованиях
темпоральности подчеркивается тезис о возможности управления временем (См., например: Brown R. Mapping
the temporal landscape II Management learning. L., 2005. Vol. 36, N 4. P.451-469). Такое управление может
рассматриваться как способ конструирования культуры. Значительное место в современной социологии
занимают работы Э.Зерубавеля и др. по социальном конструированию и управлению временем. Большой
интерес вызывает и тема использования времени (use time), активно разрабатывающаяся в рамках прикладных
дисциплин, связанных с менеджментом (См. Time Management).
имеет следствием трансформацию не только пространственных представлений, но и темпорального сознания человека.
Изучение механизмов образования темпоральных представлений и их воздействия на поведение взаимодействующих субъектов потребовало систематизации и структуризации этих представлений. В самом общем смысле можно выделить две категории темпоральное - «индивидуальное» и «институциональное» время. П.Сорокин и Р.Мертон фактически первыми указали на два типа времени - «астрономическое» (календарное) и «социокультурное», имеющее «социальный смысл»1. Французский социолог Ж.Гурвич сформулировал различия между временами, в которых одновременно существует индивид: «микросоциальным», характерным для социальных групп, и «макросоциальным», присущим социальным системам и институтам . Дж.Лейвис и Э.Вейгарт классифицировали социальное время на «организационное», «время взаимодействия» и «личное»3. Для политических исследований особый интерес представляет теория структурации Э.Гидденса, выделившего три пересекающихся временных среза: время непосредственного опыта, постоянный поток ежедневной жизни (по А.Шюцу); жизненный цикл организма; «длительная протяженность» институционального времени (по Ф.Броделю)4.
В рамках всех выделенных подходов сформировалось несколько базовых характеристик социального времени, имеющих принципиальное значение для нашей работы. Еще в начале XX в. французский социолог А.Юбер определил время как символическую структуру, выражающую организацию общества через временные ритмы5. Сейчас большинство исследователей признает, что понятие «время» не существует изначально, а зависит от придаваемого ему смысла (значения); при этом в разных культурах оно приобретает конкретную символическую форму. Темпоральные представления всегда конструируются коллективно, являясь социальной категорией, продуктом группового сознания6. Индивидуальные же восприятие и видение времени формируются под воздействием коллективных, зависят от средового влияния и подвержены постоянным
1 Sorokin P., Merton R. Social time: a methodological and functional analysis II American j. of sociology. 1937. V.42,
N5.P.615-629.
2 Gurvitch G. The spectrum of social time. Dordrecht, 1964.
3 Lewis J. Weigart A. Structures and meaning of social time II Social Forces. 1981. V.60, N 2. P.433-462.
4 Giddens A. A contemporary critique of historical materialism. Vol. 1. Berkeley; Los Angeles, 1981.
5 Hubert H. Etude sommaire de la representation du temps dans la religion et la magie II Annuaire de l'Ecole Pratique
des Hautes studies. 1905. P.l-39; Hubert H., Mauss M. Melanges d'histoire des religions. P., 1909.
6 Законченную форму эта идея приобрела в работах Э.Дюркгейма (См.: Durkheim Ё. The elementary forms of
religious life. Glencoe (III), 1947). В современной социологии особое значение придается изучению характера и
механизмов репрезентации времени в индивидуальных и групповых представлениях, что дает возможность
воздействовать на образы темпоральное, их конструировать (См. об этом: Нестик Т.А. Социальное
конструирование времени // СоцИС: Соц. исследования. М, 2003. № 8. С. 12-20).
изменениям. И, наконец, темпоральные представления и образы времени обусловлены не только социально, но и культурно (впервые это положение сформулировал П.Сорокин). В разных культурах чрезвычайно разнообразны характер восприятия времени и знаковые системы его выражения . В сложных обществах с развитой социальной дифференциацией сосуществует целый набор социальных времен (комплексов темпоральных представлений), в результате чего восприятие времени приобретает сложный, синтетический характер. Тип темпоральной самоидентификации во многом определяет характер социальной активности2. И, наконец, синхронизация представлений («времен») индивидов и множества социальных групп, действия по моделированию темпорального опыта снижают уровень конфликтности в обществе.
Многие мыслители XX в. - П.Валери, В.Беньямин, Л.Февр, Х.Арендт, П.Рикёр, Ф.Артог - уделяли особое внимание проблеме времени, причем не столько непрерывности истории, сколько разрывам, сломам, «лакунам». «Все они... пытались создать новый образ истории, отказываясь от идей непрерывности и поступательного развития в пользу представлений о ее прерывистом, изломанном ходе»3. На рубеже 60-70-х гг. XX в. активизируется и становится явным процесс распада фундаментальных очевидностей европейской культуры, радикальный переворот в ее представлениях о самой себе и о своих ценностях. Одним из результатов пересмотра традиционного образа времени стало падение «футуризма» - этого определяющего (и не только для Европы) социального проекта XX в. Прогнозы прогрессистского типа в современном мире заменяют такие «операции» как «выбор» и «сценарий»; образ будущего постоянно перепрограммируется в соответствии с потребностями «самоускоряющегося» времени, всегда изменяющейся реальности4. Происходит «переход» от «века прогресса» к «веку моделирования», воспроизведения (simulation)5.
В современных исследованиях обосновано: темпоральное сознание является ключевым для понимания различных культур и их когнитивной адаптации друг к другу (См., например: TenHouten W. Time and society. Albany; N.Y., 2005).
2 Многие исследователи темпоральной проблематики 1980-1990 годов (Р.Резсохази, Дж.Б.Шрайбер,
М.Флэхерти, Б.А.Гутек, Дж.Хассард и др.), например, отмечали особую роль усвоения временных стереотипов
в процессах социализации современного человека.
3 Артог Ф. Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени: Реферат //
Отечественные записки. М, 2004. № 5(20). С.214.
4 «Все авангарды прошлого, - пишет Ч.Дженкс, - верили, что человечество куда-то идет. Они видели свой долг
и удовольствие в том, чтобы открывать новые земли и следить, чтобы люди пришли туда вовремя.
Поставангард верит, что человечество идет одновременно в разных направлениях» (Fenks С. Post-Avant-garde //
Art and Desigh. 1987. V.3. N 7/8. P.20).
5 Об изменении хроносферы человека в информационном обществе см.: Кастельс М. Галактика Интернет.
Екатеринбург, 2004; Жуков Д.С., Лямин С.К. Постиндустриальный мир без парадоксов бесконечности. М.,
2005; Колосов А.В. Визуальная культура: Опыт социологической реконструкции. М., 2005; Модусы времени:
Социально-философский анализ. Сб. ст. СПб., 2005 и др. Наряду с темами ускорения и компрессии времени в
Это демонстрирует хронософия постмодернизма, предлагающая совершенно новый подход к прошлому как общечеловеческому «архиву». Между ним и актуальным временем нет резкой границы - все сосуществует в одном временном и пространственном измерении. В ходу потребительское отношение к прошлому-«архиву»: все его элементы могут извлекаться по воле «действующего субъекта» и произвольно комбинироваться. При этом исчезают стилистические различия «текстов» разных времен, единая темпоральность становится экспериментальным пространством для настоящего. Тем самым утрачивается ретроспективное понимание прошлого - оно превращается в резервуар потенциально актуальной информации («текстов»). «Презентистское использование прошлого» (Ф.Артог) требует и «архив» рассматривать в презентистской проекции: это уже не хранилище, а «блок» актуальной памяти единой системы - человеческого сообщества. Чем мощнее «блок памяти», тем эффективнее, креативнее сама система.
Мы имеем дело с принципиальным изменением природы темпоральности - и трансформацией толкования времени, его социальной и культурной нагрузки, что предполагает модификацию природы политического - и понимания политики. Все это формирует своеобразный интеллектуальный фон и дает важные методологические импульсы изучению политического аспекта темпоральности1. В политико-культурных исследованиях подходы к теме темпоральной самоидентификации и координации политий усложнились и обогатились, как, впрочем, и понимание самой политической культуры. Она трактуется как «особый пространственно-временной континуум», олицетворяющий «преемственность в историко-политическом развитии какой-либо общности» . Акцентировка темпорально-коммуникативной природы политической культуры3 требует ее изучения в широкой и многомерной темпоральной перспективе, с точки зрения исторической преемственности, политического наследования.
современных исследованиях рассматривается проблема замедления темпорального ритма, являющегося следствием столкновения социальных изменений с инерционностью сложившихся общественных форм. Инерция считается не препятствием движения, приводящим к стагнации, а его условием, обеспечивающим устойчивое воспроизводство социальной системы. В этом смысле «инерционность» близка «традиции» (См. об этом: Матвеева Н.А. Социальная инерция: К определению понятия // СоцИС: Соц. исследования. М., 2004. № 4. С. 15-23).
1 Показательно, что изучение темпоральности в политике оформляется в отдельную область современной
политической науки (См.: Ильин М.В. Феномен политического времени // Полис. 2005. № 3. С.5-20; Чихарев
И.А. Хронополитика: Развитие исследовательской программы // Полис. 2005. № 3. С.21-33).
2 Важно, что такая трактовка закреплена в учебной литературе. См.: Политология: Учебник / Под ред.
А.Ю.Мельвиля. М., 2004. С.426.
3 Завершинский К.Ф. Политическая культура как способ семантического конституирования политических
коммуникаций // Политическая наука. 2006. № 3. С.36.
Изучение темпоральной проблематики связано с двумя актуальными направлениями. В центре первого - традиции, рассматриваемые не с точки зрения фиксации политического порядка (сквозь призму «неподвижного» или «медленного» времени), но в перспективе развития, самоускоряющегося движения, постоянного обновления. В исследовательском фокусе второго направления - социокультурная память, действующая в рамках политических систем, способная их программировать и перепрограммировать.
Вследствие изменения представлений в западной науке (прежде всего, этнологии и антропологии) о традиции и традиционном существенно модифицировался взгляд на проблемы политической преемственности. Политическая динамика связывается уже не только с влиянием неких устойчивых (неосознанных, репродуктивных, социобиологических) факторов, но и постоянным выбором способов преемственности, а также обретением ею преимущественно социального характера1. Поэтому в современных исследованиях указывается на сложную структуру политического опыта, подчеркивается наличие в нем как естественной (социогенетической, социобиологической), так и искусственной (культурной) составляющих.
Восприятие традиции как отчасти виртуального явления, характерное для нашего времени, вполне вписывается в параметры нового видения времени и пространства, составляющих единую виртуальную реальность. Не случайно особое внимание уделяется сейчас изучению того пласта традиций, который является «социальным изобретением», результатом «социальной инженерии». При этом политологи обращаются к трудам Б.Андерсона, П.Бурдье, Э.Хобсбаума, Т.Рэнджера и др., в которых в феномене традиции выделяются элементы «воображения», «изобретения», «конструирования», во многом являющиеся следствием деятельности элит.
Изменившийся подход к традиции, соответствующий новому видению социальной реальности, особенно актуален при обращении к проблеме темпоральной координации политий в сложные, переломные моменты существования («переходные эпохи»). Центральный вопрос в рамках этой проблематики: каков уровень изменчивости той или иной политической культуры, способности ее адаптации к изменениям и пределы такой адаптации? Иначе говоря, как переплетаются импульсы к обновлению, социальная
1 См.: Derrida J., Habermas J. Nach dem Krieg: Die Weidergeburt Europas II Frankfurter, allg. Ltg. 2003.31.05;
Alexander J. Political culture in post-communist Rossia: Formlessness and receation in a traumatic transition. N.Y.,
2000; Petro N. The rebirth of russian democracy: An interpretation pf political culture. Cambridge, 1995; Саква P.
Политическая культура: возможности и сложности в применении понятия для анализа процессов ускоренных
преобразований // Полития. № 4(35). Зима 2004-2005.
2 См.: The invention of tradition I Ed. by Hobsbowm E., Ranger T. Cambridge, 1983; Anderson B. Imagined
communities: reflections on the origins and spread of nationalism. L., 1991; Бурдье П. Начала. M., 1994 и др.
потребность в модернизации - и преемственность в исходных предпосылках национальной традиции и центральных символах (атрибутах) культурной идентичности? Заметное место в трудах представителей разных направлений и школ (Г.Экстайна, С.Хантингтона, Б.Мура, Л.Пая, СЛипсета, Ст.Роккана и др.) занимают проблемы революций и социальных изменений, исторических путей политической модернизации. Многие исследователи исходят из положения о несостоятельности дихотомного восприятия нашей социальности как противостояния традиции и современности. Адекватным с точки зрения политологии является учение Ш.Эйзенштадта о традиции как сложном феномене, в котором слиты креативные и стабилизирующие элементы, играющей неоднозначную роль в политике1.
Актуализация проблематики памяти в политической науке связана (в том числе) с возникновением «нового институционализма», рассматривающего политические институты с точки зрения взаимосвязи формальных норм и неформальных правил игры, образующих сложные организационные отношения, формы взаимодействий и самой кооперативной деятельности людей, поддерживающих стабильность и воспроизводящих порядок в обществе2. Тем самым институциональному параметру мира политики задается более широкая перспектива; учитывается влияние культурного фактора. В рамках этого подхода особое значение приобрели историческая, философская, социокультурная и политическая традиция, человеческий поступок, ценностное содержание политики и человеческое измерение политического анализа. Уделяется внимание социокультурным символам и ценностям, стереотипам и регламентам, влияющим на структурирование макрополитики. Роль исторического времени, характер институциональной эволюции стремятся выявить исторические институционалисты3, а также представители неоинституциональной версии теории организации4. «Историки» делают особый акцент на зависимости институтов, институциональных изменений от прошлой траектории развития .
1 См.: Eisenstadt S. Modernization: Protest and change. Englewood Cliffs; N.Y., 1966; Eisenstadt S. Tradition, change
and modernity. N.Y., 1973; Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение
цивилизаций. М., 1999.
2 См.: Патрушев СВ. Институционализм в политической науке: этапы, течения, идеи, проблемы // Зарубежная
политология в XX столетии: Сб. науч. тр. / Политическая наука, 2001. № 2. С. 149-189.
3 См., напр.: Nelson, Winter S. An evolutionary theory of economic change. Cambridge; L., 1982; Skocpol T. States
and social revolutions: A comparative analysis of France, Russia and China. Cambridge, 1979; Skowrenek S. Building
a New American State: The expansion of national administrative capitalism. N.Y., 1982; North D. Institutions,
institutional change and economic performance. Cambridge, 1990; Thelen K. Historical instirutionalism in comparative
politics II Annual rev. of political science. Norwood, 1999. N 2 ect.
4 A new instirutionalism in organizational analysis I Ed. by DiMaggio P., Powell W. Chicago; L., 1991; Scott R.
Institutions and organizations. Thousand Oaks; Sage, 1995 ect. В теории организации подчеркивается значение
символических кодов и роль институтов в генерации значений, а также указывается на нормы и «соответствие»
как категории действия.
5 При этом рассматриваются базовые элементы институтов - рутины, правила, нормы, ценности и идеи. К
ключевым терминам эволюционного институционализма относятся «кумулятивная причинность»
В современных политологических исследованиях институты определяются (наряду со всем прочим) как длительные структуры во времени и пространстве (Э.Гидденс)1, правила и рутины (Дж.Марч, И.Олсен), т.е. помещаются в темпоральный контекст. Для указания на темпоральную протяженность политических систем и ее описания используется термин «системная память». Э.Гидденс понимал ее как «неотъемлемую характеристику рекурсивности процессов институционального воспроизводства»3. Б.Роккман ввел определение «организационная память» для характеристики памяти, поддерживающей функционирование системы государственной власти4. Во всех этих случаях память выступает элементом упорядочения политической организации, средством поддержания динамического равновесия системы.
Существенное место эта проблематика занимает в концепции политического Н.Лумана5. Он указывает на существование специфического среза памяти - «системной памяти» политики. По Луману, ключевую роль в процессах запоминания-забывания играют в социальных системах ценности и интересы. Ценности фиксируют для памяти «предпочтения» и «отстранения»: предпочтение, получившие статус ценности, продолжает существовать в актуальном поле политики, а отстраненное остается в памяти системы, благодаря чему негативный опыт не предается забвению, а служит дальнейшей рефлексии. Интерес позволяет реактуализировать ценность, извлечь ее из памяти и трансформировать в цель. Тем самым посредством различения ценностей и интересов система «запускает» свою память, обеспечивая системную интегрированность всех политических действий. Благодаря наличию памяти, отвергнутое системой не исчезает, а сохраняется как одна из существовавших альтернатив.
На этом фоне интерес к социально-исторической памяти в политико-культурных исследованиях выглядит совершенно естественным. Проблема темпорального бытования политий должно быть рассмотрение на двух взаимосвязанных уровнях - системном и ориентационном. Только это позволяет изучить ее во всей полноте, с учетом совокупности факторов институционального и политико-культурного характера. Интеграция проблематики
(исследованная еще Т.Вебленом), «гистерезис» (зависимость конечных результатов системы от предшествующих), «блокировка» (неоптимальное состояние системы как результирующая прошлых событий).
1 Giddens A. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Cambridge, 1984.
2 March J., Olsen J. Rediscovering institutions: The organisational basis of politics. N.Y., 1989.
3 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2003. С.360-361.
4 Rockman В. The new institutionalism and the old institutions II New perspectives of american politics I Ed. by Godd
L., Jilson С Washington, 1994.
5 Luhmann N. Temporalization of complexity II Sociocybernetics: An actor-orientated social systems approach. The
Hague, 1978; Luhmann N. World-time and system history II Luhmann N. The differentiation of society. N.Y., 1982.
P.289-324; Luhmann N. Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt a.M., 2002.
социальной памяти в политико-культурные исследования предполагает использование двух подходов.
Первый условно может быть назван информационно-коммуникативным. Исходным для него является положение К.Дойча о политической системе как сети коммуникаций и информационных потоков, в которой выделяется блок «памяти и ценностей»1. Фактически «блок памяти» у Дойча есть своего рода аналог алмондовской политической культуры. Чем мощнее и сложнее - в качественном отношении - «блок памяти» (или «архив») системы, тем выше ее способности к адаптации, креативность. Тем самым эффективность политической системы оказывается непосредственно связана с ее культурным «запасом», во многом определяющим «антропологический потенциал». Реализация посыла Дойча требует обращения к комплексу работ, в которых политика представлена как коммуникационный процесс.
В фокусе другого подхода - память как социокультурный и коммуникативный феномен. В последние тридцать лет в гуманитарном знании сформировалось целое направление, в рамках которого активно взаимодействуют историки, социологи, политологи, психологи. Оно нацелено на изучение конструирования прошлого в процессе коммуникации, роли репрезентаций прошлого в массовой культуре. Здесь память понимается как процесс управления прошлым в настоящем, имеющий в том числе политическое измерение. В рамках этой проблематики изучаются общественные исторические представления, а также масскоммуникативные образы прошлого, на основе которых эти представления во многом и формируются2. Кроме того, память трактуется как явление неоднородное, а потому нуждающееся в структурировании. В политической науке востребована концепция «мест
1 См.: Deutsch К. The nerves of government: Models of political communication and control. N.Y., 1963.
2 См.: Les lieux de memoire I Ed. by Nora P. P., 1984-1992. T.l-7; Mnemosyne: Formen und Funktionen der
kulturellen Erinnerung / Hg. Assmann V., Harm D. Frankfurt a.M., 1991; Assmann J. Das kulturelle Gedachtnis:
Schrift, Erinnerung und politische Identitat in friihen Hochkulturen. Miinchen, 1992; Assmann J. Agypten: Eine
Sinngeschichte. Miinchen; Wien, 1996; Nora P. Realms of memory: Rethinking the French Past. N.Y., 1996; Jaspers K.
The question of German quilt. N.Y., 2000; European history: Challenge for a common future. Hamburg, 2002; Buruma
I. The wages of quilt: Memories of war in Germany and Japan. L., 2002; Mythen der Nationen. I Flacke M. (Hrsg.).
1945. Arena der Erinnerungen. В., 2004; Франция-память I Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де , Винок М. СПб.,
1999; Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000; Эксле О.Г. Культурная память под воздействием
историзма // Одиссей-2001. М., 2001. С. 176-198; Артог Ф. Время и история // Анналы на рубеже веков:
антология. М., 2002. С.147-168; Ассман Я. Культурная память: Письма, память о прошлом и политическая
идентичность в высоких культурах древности. М., 2004; Преодоление прошлого и новые ориентиры его
переосмысления. М.; 2002; Россия и страны Балтии, Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа и
Центральной Азии: Старые и новые образы в современных учебниках истории. М., 2003; Рикер П. Память,
история, забвение. М., 2004; Отечественные записки 2003. № 5(20) / Присвоение прошлого; Неприкосновенный
запас: Дебаты о политике и культуре. 2005. № 2-3(40-41) / Память о войне 60 лет спустя - Россия, Германия,
Европа; Миллер А.И. Дебаты об истории и немецкая идентичность // Политическая наука. 2005. № 3. С.66-75;
Андреев Д. Бордюгов Г. Пространство памяти: Великая победа и власть. М., 2005; Линднер Р. Путинское
обращение с историей // Возрождение России. 2006. Июль-август. С.48-56 и др.
памяти» французского историка П.Нора, в фокусе которой находятся не столько исторические события, сколько их отражения в памяти какой-либо общности. Память у Нора выступает объектом пространственного (а не временного, как история) кодирования. В целом концепции «памяти» не только согласуются с политико-культурным подходом, но и позволяют его интенсифицировать.
Сквозь эту призму диссертант рассматривал работы, посвященные политической культуре, для которых характерно особое внимание к темпоральному измерению культурных процессов. В рамках заявленной проблематики диссертант обращался к исследованиям политической культуры России. Принципиально важные наблюдения относительно русской политической культуры сделаны в работах В.Айхведе, Дж.Биллингтона, Г.Зимона, Э.Кинана, М.Малиа, Р.Мак-Мастера, Э.Морена, Д.Орловски, Р.Пайпса, С.В.Патрушева, В.Пфайлера, М.Раева, В.М.Сергеева, А.Силади, Э.Тадена, Х.Тиммермана, Э.Фёгелина, Ш.Фицпатрик, К.Г.Холодковского, К.Шлёгеля и др. Существенное теоретическое значение для диссертанта имели книги и статьи российских ученых, в которых рассматриваются как общие, так и частные аспекты темы «политическая культура»: А.С.Ахиезера, Э.Я.Баталова, Н.И.Бирюкова, Ф.М.Бурлацкого, К.С.Гаджиева, А.А.Галкина, О.В.Гаман-Голутвиной, К.Ф.Завершинского, А.Б.Зубова, М.В.Ильина, А.А.Кара-Мурзы, А.Ю.Мельвиля, В.Б.Пастухова, А.С.Панарина, С.В.Патрушева, Ю.С.Пивоварова, В.О.Рукавишникова, А.М.Салмина, В.М.Сергеева, А.И.Соловьева, К.Г.Холодковского и др.
В фокусе внимания диссертанта находились как обобщающие исследования, посвященные политической культуре1, так и работы теоретического характера, выполненные
1 The civic culture revisited I Ed. by Almond G., Verba S. Boston, 1980; Almond G. Communism and political culture theory II Comparative politics. 1983. Vol.15; Brint M. Genealogy of political culture. Boulder, 1991; Welch S. The concept of political culture. L., 1993; Political culture and democracy in developing countries. Boulder (Col.); L., 1994; Culture matters: Essays in honor ef A.Wildavsky I Ed. by Ellis R., Thompson M. Boulder (Col.), 1997; Johnson J. Conceptual problems as obstacles to progress in political science: Four decades of political culture research II J. of theoretical politics. 2001. Vol. 15, N 1. P.87-115; Scott D. Culture in political theory II Polit. theory. L., 2003. Vol. 31, N 1. P.92-115; Щегорцов B.A. Политическая культура: Модели и реальность. М., 1990; Политическая культура: Теория и национальные модели / Под ред. Гаджиева К.С. М, 1994; Градинер И.Б. Политическая культура: Мировоззренческое измерение. СПб., 1996; Пивоваров Ю.С. Политическая культура: Методологический очерк. М., 1996; Ачария Б., Чаморро СМ. Особенности воздействия политической культуры на политическую систему общества. М., 1998; Арутюнян Л.Н. Концепция политической культуры: Состояние и перспективы // Политическая наука современной России: Тенденции развития. М., 1999. С.33-46; Гельман В.Я. Политическая культура, массовое участие и электоральное поведение // Политическая социология и современная российская политика. СПб., 2000; Завершинский К.Ф. Когнитивные основания политической культуры: Опыт методологической рефлексии // Полис. М., 2002. № 3. С.19-30; Культура имеет значение. М., 2002; Завершинский К.Ф. Политическая культура как способ семантического конституирования политических коммуникаций // Политическая наука. 2006. № 3. С.31-46; Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публичном дискурсе // Полис. 2006. № 5. С.106-128 и др.
на российском материале . Кроме того, диссертант обращался к исследованиям состояния политической культуры в период ускоренных преобразований2, а также особенностей политической преемственности в России3, придающих особую сложность и неоднозначность процессам посткоммунистической трансформации.
В диссертации использованы труды, в которых обобщаются, анализируются и интерпретируются информационные данные о состоянии и динамике диспозиционных ориентации россиян в 1990-2000-е годы4, т.е. основных компонентов российской
1 Political culture and change in communist systems I Ed. by Brown A., Gray I. L., 1979; White St. Political culture and
soviet politics. L., 1979; Keenan E. On certain mythical beliefs and Russian behaviors II Russian littoral project. 1993.
N 1. P.l-35; Simon G. Zukunft aus der Vergangenheit: Elemente der politischen Kultur in Russland II Osteuropa. Koln,
1995. Jg. 45, N 5. S.455-482; McDaniel T. The agony of the russian idea. Princeton, 1996; Каменец A.B.,
Онуфриенко Г.Ф., Шубаков А.Г. Политическая культура России. М, 1997; Назаров М.М. Политическая
культура современного российского общества. М., 1997; Кара-Мурза А. Российская политическая культура и
проблемы становления партийного плюрализма // Формирование партийно-политической системы в России /
Московский центр Карнеги: Научный доклад. Вып.22. М., 1998. С.7-19; Верчёнов Л.Н. Политическая культура:
Российские пути и перепутья // Политическая наука современной России: Тенденции развития. М., 1999;
Политическая культура России: История, современное состояние, тенденции, перспективы. СПб., 2001;
Ахиезер А.С. Специфика российской политической культуры и предмета политологии (Историко-культурное
исследование) // Pro et contra. М., 2002. Т.7, № 3. С.51-76; Соловьев А.И. Институциональные эксперименты в
пространстве политической культуры: Реалии российского транзита // Политическая наука в современной
России: Время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004. М., 2004. СЗ13-337; Бирюков Н.И. Российская
политическая культура: Когнитивный подход // Политическая наука. 2006. № 3. С.47-74 и др.
2 Eckstein Н. A culruralist theory of political change II Amer. polit. science rev. 1988. Vol. 82, N 3. P.789-804; Urban
M. The politics of identity in Russian's postcommunist transition II Slavic Review. 1994. Vol. 53, N. 3. P. 733-756;
Truscott P. Russia first: Breaking with the West. L., 1997; Alexander I. Political culture in post-Communist Russia:
Formlessness and recreation in a traumatic transition. N.Y., 2000; Karaman T. Political efficacy and its antecedents in
contemporary Russia II J. of Communist studies and transition politics. 2004. Vol. 29, N. 2. P. 30-48; Political culture
and post-Communism I Ed. by Whitefield S. Oxford, 2005; Российская повседневность и политическая культура:
Возможности, проблемы и пределы трансформации. М., 1996; Грунд З.А., Кертман Г.Л., Павлова Т.В.,
Патрушев СВ., Хлопин А.Д. Российская повседневность и политическая культура: Проблема обновления //
Полис. 1996. № 4. С.56-72; Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политическая культура и социальные
изменения: международные сравнения. М., 1999; Соловьев А.И. Культура власти российской элиты:
Искушение институционализмом? // Полис. 1999. № 2. С.65-80; Кертман Г.Л. Катастрофам в контексте
российской политической культуры // Полис. 2000. № 4. С.6-18; Шевцова Л. Как Россия не справилась с
демократией: Логика политического отката // Pro et contra. 2002. Т.8, № 3. С.36-55; Саква Р. Политическая
культура: Возможности и сложности в применении понятия для анализа процессов ускоренных преобразований
// Полития. № 4(35). Зима 2004-2005. С.41-68; Патрушев СВ. Власть и народ в России: Проблема легитимации
институциональных изменений // Политическая наука в современной России: Ежегодник. 2004. М., 2004. С.287-
312 и др.
3 Nahn J. Continuity and change in Russian political culture II British j. of political science. 1991. Vol. 21. P. 393-412;
Petro N. The rebirth of Russian democracy: An interpretation of political culture. Cambridge, 1995; Daniels R.
Revolution, modernization and the paradox of twentieth-century Russia II Canadian Slavonic papers. Vol. XIII, N. 3.
Sept. 2000. P. 249-268; Рое M. The Russian moment in world history. Prenceton, 2003; Cohen S. Was the Soviet
system reformable? II Slavic Review. Vol. 63, N 3. 2004. P. 459-488; Гудименко Д.В. Политическая культура
России: Преемственность эпох // Полис. 1994. № 2. С.156-164; Ачкасов В.А. «Взрывающаяся архаичность»:
Традиционализм в политической жизни России. СПб., 1997; Пивоваров Ю.С, Фурсов А.И. Русская Система //
Политическая наука: Теория и методология. М., 1997. Вып.2. С.82-194; Вып.З. С.64-190; Гаман-Голутвина О.В.
Политические элиты России: Вехи исторической эволюции. М., 1998; Межуев В. Традиции самовластия в
современной России // Свободная мысль. 2000. № 4. С.54-102; Крадин Н.Н. Элементы традиционной власти в
постсоветской политической культуре // Образы власти в политической культуре современной России. М.,
2000; Пивоваров Ю.С Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. М., 2006 и др.
4 См., например: Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. М., 1987;
Перспективы демократии в сознании россиян // Общественные науки и современность. 1996. № 2. С.45-61;
политической культуры. Особое значение при этом имели систематические исследования ВЦИОМ и Левада-центра. Взгляды диссертанта на российские политические процессы во многом определены работами Г.Г.Дилигенского, Ю.А.Левады, Л.Д.Гудкова, Б.В.Дубина1, имеющие ярко выраженный политико-культурный оттенок.
Вместе с тем изучение темпоральной проблематики в политике потребовало привлечения исследований по следующим направлениям: политическая мифология2, политическая идентичность3, политическая социализация4, политическая коммуникация5. Они задавали диссертации соответствующий теоретический ракурс.
Ментальность россиян (Специфика сознания больших групп населения России). М, 1997; Современное российское общество: Переходный период. М., 1998; Лапкин В.В., Пантин В.И. Ценности постсоветского человека // Человек в переходном обществе: Социологические и социально-психологические исследования. М, 1998; Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России / Под ред. Ильина М.В., Бусыгиной И.М. М., 1999; Мелешкина Е.Ю. Политические установки // Политическая социология и современная российская политика. СПб., 2000; Грушин Б. Четыре жизни России: Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина. Т. 1-4. М., 2001; Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Эпоха Ельцина: Мнения россиян. Социологические очерки. М., 2002; Горшков М.К. Российское общество в условиях трансформации. Мифы и реальность (Социологический анализ). 1992-2002. М., 2003; Изменяющаяся Россия в зеркале социологии. М., 2004; Патрушев СВ. Российская политическая культура как система диспозиционных ориентации: Что нового? // Политическая наука. 2006. № 3. С.75-94 и др. Ретроспективное измерение придают изучению политических образов, предпочтений, ориентации работы: Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. Л., 1986; Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991; Лурье СВ. Историческая этнология. М., 1997 и др.
1 Дилигенский Г.Г. Российский горожанин конца девяностых: Генезис постсоветского сознания (социально-
психологическое исследование). М., 1998; Левада Ю.А. От мнений к пониманию: Социологические очерки
1993-2000. М., 2000; Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. М., 2002; Гудков Л. Негативная идентичность.
М., 2004; Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной
культуры. М., 2004; Левада Ю.А. Ищем человека: Социологические очерки. 2000-2005. М., 2006 и др.
2 Reszler A. Les mythes politiques modemes. P.U.F., 1981; Durand G. Introduction a la mythologie: Mythes et societes..
P., 1996; Girardet R. Mythes et mythologies. P., 1996; Кассирер Э. Техника современных политических мифов. М.,
1990; Современная политическая мифология: Содержание и механизмы функционирования. М., 1996;
Мифология и политика. М., 1997; Формирование и функции политических мифов в постсоветских обществах.
М., 1997; Кольев А. Политическая мифология. М., 2003; Мифы и мифология в современной России. М., 2003;
Мосейко А.Н. Мифы России. М., 2003; Цуладзе А. Политическая мифология. М., 2003; Флад К. Политический
миф: Теоретическое исследование. М., 2004 и др.
3 Social theory and the politics of identity I Ed. by Calhoun С Oxford, 1994; The identity in question I Ed. by
Rajchman J. N.Y.; L., 1995; Questions of cultural identity I Ed. by Hall S., Du Gay P. L., 1996; Castells M. The
power of identity. Cambrigde; Mass., 1997; Delanty G. Social theory in a changing world: Conceptions of modernity.
Cambridge, 1999; The disguise construction of national identity. Edinburgh, 1999; Bell D. Mythscapes: memory,
mythology and national identity II Brit, j. of sociology. L., 2003. Vol. 54, N 1. P. 63-81; Права человека и проблемы
идентичности в России и в современном мире / Под ред. Малиновой О.Ю., Сунгурова А.Ю. СПб., 2005;
Политическая наука: Идентичность как фактор политики и предмет политической науки: Сб. науч. трудов. М.,
2005; Соловьев А.И. Политические и культурные основания идентификационных моделей в российском
обществе // Политическая наука. 2006. № 3. C.95-113 и др.
4 Mannheim К. A man in society in the period of reconstruction. N.Y., 1967; New direction in political socialization.
N.Y., 1975; Handbook of political socialization: Theory and research /Ed. by D.Schwartz. N.Y., 1977; Merelman R.
Revitalization political socialization II Political psychology I Ed. by Hermann M. San-Francisco, 1986. P. 279-319;
Inglehart R. Culture shift in advanced society. Princeton, 1990; Wasburn Ph. A life course model of political
socialization II Politics and induvidual. 1994. Vol. 4, N. 4. P. 1-26; Inglehart R. Modernization and postmodernization.
Princeton, 1997; Шестопал Е.Б. Политическая социализация и ресоциализация в современной России // Полития.
№ 4(39). Зима. 2005-2006. С.48-60 и др.
5 Moles A. Information theory and esthetic perception. Urbana, 1968; Iyengar S., Kinder D. News that matters:
Television and american opinion. Chicago; L., 1987; Habermas J. The theory of communicative action. Vol. 1. Boston,
1994; Agents of power: The media and public policy I Ed. by J.Actchull. N.Y., 1995; Communication theory today I
Диссертант обращался к работам по политической социологии , политической психологии, политической антропологии, формировавшим интеллектуальный фон исследования.
Значительный интерес для диссертанта представляли исследования символического аспекта современной политики4. Диссертант обращался к работам, совмещающим в себе начала политической истории и политической антропологии, посвященным изучению русской власти - символики, характера репрезентации, ее места в политических
Ed. by Crowley D., Mitchell D. Cambridge, 1995; Mcnair B. An introduction to political communication. L.; N.Y., 1995; Stevenson N. Understanding media cultures. L., 1997; Уилхем Д. Коммуникация и власть. СПб., 1993; Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: Открытие спирали молчания. М., 1996; Дубицкая В.П. Телевидение: Мифотехнологии в электронных СМИ. М., 1998; Дмитриев А.В., Латынов В.В. Массовая коммуникация: Пределы политического влияния. М., 1999; Задорин И., Бурова Ю., Сюткина А. СМИ и массовое политическое сознание: Взаимовлияние и взаимозависимость // Российское общество: Становление демократических ценностей. М., 1999; Кастельс М. Информационная эпоха. М., 1999; Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 2001; Аронсон Э., Праткинс А. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения. М., 2002; Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: Методология анализа и практика исследований. 2-е изд. М., 2002; Политические коммуникации / Под ред. А.И.Соловьева. М., 2004; Соловьев А.И. Политический дискурс медиакратий: проблемы информационной эпохи // Полис. 2004. № 2; Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004; Луман Н. Медиакоммуникации. М., 2005; Он же. Реальность массмедиа. М., 2005 и др.
1 Lasswel G. On political sociology. Chicago-L., 1977; Амелин B.H. Социология политики. М., 1992; Шварценберг
Р.-Ж. Политическая социология. М., 1992; Бурдье П. Социология политики. М., 1993; Шампань П. Делать
мнения: новая игра политических сил. М., 1997; Политическая социология и современная российская политика
/ Под ред. Г.В.Голосова, Е.Ю.Мелешкиной. СПб., 2000; Шереги Ф.Э. Социология политики. М., 2003 и др.
2 Steck P. Grundzuege der politischen Psychologic В., 1980; Political psychology: contemporary problems and issues.
San-Francisco; L., 1986; Stane W., Schoffner P. The psychology of politics. N.Y.; Berlin, 1988; Дилигенский Г.Г.
Социально-политическая психология. M., 1994; Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-
на-Дону, 1996; Психология и психоанализ власти. Самара, 1999; Шестопал Е.Б. Психологический профиль
российской политики 1990-х. М., 2000; Политико-психологические проблемы исследования массового сознания
/ Под ред. Е.Б.Шестопал. М., 2002; Образы власти в постсоветской России: Политико-психологический анализ /
Под ред. Е.Б.Шестопал. М., 2004 и др.
3 См., например: Political anthropology. Chicago, 1966; Balandier G. Anthropologie politique. P., 1967; Fried M. The
evolution of political society: An essay in political anthropology. N.Y., 1967; Claessen H. Politieke anthropology.
Assen, 1974; Adams R. Energy and structure: A theory of social power. Austin, 1975; Political anthropology. New
Brunswick; L., 1980; Abeles M. Anthropologie de l'Etat. P., 1990; Anthropological approaches to political behaviour.
Pittsburgh, 1991; Lewellen T. Political anthropology: An introduction. Westport, 1992; Этнические аспекты власти.
СПб., 1995; Масс М. Общество. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М., 1996; Левин К.
Теория поля в социальных науках. СПб., 2000; Крадин Н.Н. Политическая антропология. М., 2004.
4 Baake D. Kommunikation und Compentent: Grundlegung einer Didaktik der Kommunikation und ihrer Medien.
Miinchen, 1980; Rust H. Geteilte Offentlichkeit: Alltagskommunikation und Massenpublizustik. M., 1982; Sarcinelli U.
Symbolische Politik: Zur Bedeutung symbolisches Handelns in der Wahlkampfkommunikation der Budesrepublik
Deutschland. Opladen, 1987; Luhman N. Theorie der Gesellschaft. San Foca, 1989; Meyer T. Inszenierung des Scheins:
Voraussetzungen und Folgen symbolischer Politik. Frankfurt a.M., 1992; Meyer T. Die Transformation der Politischen.
Frankfurt a.M., 1994; Speth R. Symbol und Fiktion. Institution-Macht-Rapraesentation: Wo fuer politische
Institutionen stehen und wo sie wirken. Baden-Baden, 1997; Meifert J. Bilderwelten: Symbolik und symbolische
Politik im ProzeB der politischen Kommunikation. Duisburg, 1999; Edelman M. Politik als Ritual: die symbolische
Funktion staatlicher Institutuinen und politischen Handelns. Franfurt a.M., 2005; Кардамонов O.A. Семантика
политического пространства: опыт кросскультурного транссимволического анализа // Журнал социологии и
социальной антропологии. 1998. Т.1. Вып.4; Степанова Л.А. Социальная символика России // Социс. 1998, № 5;
Мисюров Д.А. Политическая символика: между идеологией и рекламой // Полис. 1999. № 1. С.168-174;
Грибакина Н.В., Степанова Л.А. Политический символ как средство политического воздействия //
Политические технологии. 2002. № 5; Елизарова О. Образы государства и нации в политической культуре
представлениях граждан . Кроме того, привлекались труды, акцентирующие внимание на символических конфликтах по поводу власти, способов ее легитимации и общественной интерпретации . Общую методологическую рамку анализа составили исследования Дж.Томсона, Ш.Эйзенштадта с их вниманием к символическим принципам общественного «устроения», формирующим социальный порядок и вызывающим в нем изменения, взаимозависимости «установок на преемственность» и обеспечением устойчивости институтов3.
Большое значение для диссертанта имели классические труды по истории русской политической традиции и политической мысли последней трети XIX - первой четверти XX в., содержащие (помимо прочего) эмпирический материал, а также актуальные подходы к анализу исторического измерения и символического компонента политики.
Анализ литературы позволяет утверждать: при всем разнообразии и неоднозначности трактовок концепция политической культуры предполагает обращение к проблемам временного бытования и временной координации политий. При этом она дает методологический импульс - искать возможности стабилизации различных политий в рамках демократии. Теоретико-методологический потенциал концепции требует своей реализации с учетом и в контексте современных подходов к темпоральной проблематике, сложившихся в социальных науках вообще и политологии в частности. Одно из актуальных направлений такой реализации - изучение образов прошлого, с участием которых «изобретаются» традиции современной политики, происходит трансляция политического опыта. Для этого создана уникальная научная база, позволяющая выйти на принципиально новый уровень - теоретического синтеза и создания «рабочей» исследовательской модели.
Объект исследования - образы прошлого как коммуникационные феномены, обеспечивающие преемственное движение политий во времени и участвующие в процессах репрезентации и интерпретации политики.
современной России // Pro et Contra. 2002. Т.7, № 3. С.92-110; Кара-Мурза А.А. Нужны ли демократии символы? 20.08.2002. и др.
1 См.: Лобачева Г.В. Самодержец и Россия: Образ царя в массовом сознании россиян (конец XIX - начало XX
в.). Саратов, 1999; Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1-2. М., 2002 и др.
См. также: Захаров А. Народные образы власти // Полис. 1998. № 1.
2 См., например: Figes О., Kolonitskii В. Interpreting the russian revolution: The language and symbols of 1917. New
Haven; L., 1999; Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры
российской революции 1917 г. СПб., 2001.
Thompson J. Ideology and modern culture: Critical social theory in the era of mass communication. Oxford, 1990; Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. М., 1999.
Предмет исследования - процессы темпоральной самоидентификации и координации, создание временных связей и эксплуатация темпоральности в российской политике.
Цель исследования - разработка теоретической модели, в рамках которой раскрываются особенности темпорального развития русской политий, место и роль образов прошлого в воспроизводстве политического опыта, характер взаимодействия масскоммуникативных конструкций прошлого и политической культуры.
Задачи исследования:
обобщение и систематизация современных подходов к изучению политической культуры, оценка возможностей их теоретической конвергенции с исследованиями роли памяти в процессах трансляции и актуализации политического наследия;
выявление характера связи трансляционных процессов в политической культуре с обеспечением стабильности политической системы и предсказуемости ее развития;
уточнение представлений о феномене политической преемственности, определение роли массовых репрезентаций прошлого и сконструированных традиций в создании временных связей в политике;
проведение сравнительного анализа темпорального развития русской и ряда западноевропейских политий, раскрытие специфики политической преемственности и политического использования образов прошлого в России в условиях социальных трансформаций;
выявление и анализ роли образов прошлого в идентификационных и интеграционных процессах в политике, обеспечении базового консенсуса в отношении негативного, травматического политического опыта;
уточнение содержания, динамики и степени эффективности «памяти власти» в России; характеристика влияния политического опыта и традиций на процессы властного воспроизводства;
определение и обоснование роли образов прошлого как символических ресурсов в процессах эволюции политической культуры России.
Теоретико-методологические основания исследования. Теоретико-
методологическую базу исследования составляет совокупность теоретических подходов, приемов и способов научного анализа, целесообразность применения которых определяется характером объекта и предмета исследования.
В современных полититологических исследованиях обычно выделяются три методологических подхода, господствующих в социальных науках: онтологически-
нормативный, эмпирико-аналитический, диалектико-исторический . В той или иной степени все три этих подхода оказались важны для диссертанта. Кроме того, в методологическом отношении диссертант ориентировался на то направление в политико-культурных исследованиях, которое сфокусировано на изучении смысловой составляющей политики2. Это предполагало обращение к «культурному анализу», герменевтическим истолкованиям, а также методам «эмпатического понимания» и «вопрошания», об особой роли которого в социальном познании говорил М.Хайдеггер3.
Теоретико-методологическими ориентирами для диссертанта служили также следующие подходы: теоретико-коммуникационный, нацеленный на изучение процессов коммуникативной рационализации политического мира, социально-конструктивистский с характерными для него отрицанием «данности» и подтверждением «сконструированности» социальных объектов, а также дискурс-аналитические подходы. И, наконец, позиция диссертанта во многом определена исследованиями, адекватными задачам понимания и описания диссипативных структур (по И.Пригожину).
Среди методов научного анализа, позволивших решать конкретные исследовательские задачи, следует назвать компаративистский и типологический, актуализацию-интерпретацию взглядов мыслителей прошлого в современном контексте, формально-логические приемы, включенное наблюдение и др.
Научную новизну исследования определяют следующие результаты, полученные автором:
- систематизированы и обобщены современные варианты концептуализации
политической культуры, акцентирующие ее темпорально-коммуникативную природу,
выявлены возможности их интеграции с исследованиями роли «памяти» в политике;
- разработана авторская модель, в рамках которой уточняются и расширяются
представления о природе и параметрах феномена политической преемственности с учетом
взаимосвязи его культурных и институциональных аспектов. Выделен и описан фактор
влияния преемственности на некоторые базовые характеристики российской политической
системы;
1 См.: Berg-Schlosser D., Maier Н., Stammen Th. Einfuhrung in die Politikwissenschaft. Munchen, 1974. S.40.
2 Диссертант учитывает наличие двух (очень широких и внутренне подвижных) подходов к определению
категории смысла и путей ее исследования: один, идущий от К.Гирца, совмещает дефиницию смысла с опытом
или «культурной практикой»; другой, ориентированный на построения М.Фуко, - с текстом или «дискурсивной
практикой». Современные исследователи пытаются поместить свой предмет в фокус пересечения
разнообразных компонентов бытия, конструируя его тем самым во множестве граней
См.: Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. М., 1989. № 9; Он же. Работы и размышления разных лет. М., 1993. Метод «вопрошания» связан со спецификой диалогичности постижения «истины» в гуманитарных науках.
- раскрыто политологическое содержание категорий «образ прошлого», определены
возможности ее интеграции в изучение коммуникативного и символического аспектов
современной политики, процессов трансляции и актуализации опыта, составляющего ткань
политической культуры. Обоснована роль образов прошлого в освоении и публичной
репрезентации актуального политического наследия, моделировании традиций,
поддерживающих политическую социализацию;
- выявлены отличительные черты темпоральной динамики русской политики,
особенности взаимодействия в трансляционных процессах «инстинктивных»
(социобиологических) и сознательно сформированных традиций. Проанализирована связь
темпоральной динамики с рецидивирующей «исторической амнезией» русского
политического мировоззрения и активизацией компенсирующих ее механизмов, с
функционированием адаптационных и креативных, традиционалистских и модернистских
пластов политической культуры;
- на основе сравнительного анализа ряда политико-культурных параметров развития
стран Западной Европы (прежде всего, Германии и Франции) и России определена
специфика и описаны технологии освоения травматического политического опыта, практики
использования образов прошлого в идентификационных процессах;
раскрыто значение информационно-символической политики в обеспечении гражданской лояльности, активизации мобилизационной поддержки власти и легитимации современного политического порядка. Эксплуатация прошлого определена в качестве важнейшего символического ресурса господствующих групп, служащего навязыванию обществу кратократических и традиционалистских смыслов;
теоретически описаны процессы воспроизводства русской власти, выявлена взаимообусловленность специфических «сбросов» памяти и кризисов властной преемственности с минимизацией значения институционализированного опыта и гипертрофией субъектного, персонифицированного начала;
- раскрыты механизмы влияния особого типа хранения и освоения политического
опыта в России на динамику российской политической культуры, обоснованы ее
неотрадиционалистские «дрейфы» в эпохи социальных трансформаций.
Теоретико-методологическое и научно-практическое значение исследования.
Теоретическое значение диссертации состоит в разработке и уточнении концептуальных и методологических оснований для углубленного анализа роли социоисторической памяти в политике. Выводы работы расширяют возможности изучения
коммуникативного и символического аспектов современной политики, процессов накопления и эффективной адаптации политического наследия к актуальным вызовам.
Практическая значимость исследования определяется содержательностью полученных результатов для выявления возможностей массового осмысления и преодоления прошлого и либерализации российской политической культуры, выработки эффективных стратегий политического просвещения. Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы в учебном процессе в высшей школе для разработки и обновления ряда дисциплин гуманитарного цикла (политология, политическая культура, политическая история России и др.).
Апробация работы. Результаты исследования отражены в публикациях автора. Положения диссертации докладывались и обсуждались на заседаниях Ученого совета ИНИОН РАН, круглых столах «Политического журнала», международных и российских научных конференциях и семинарах, проводившихся в РАН, РАПН и РГГУ, университетах г.Ганновера (Германия) и Г.Будапешта (Венгрия). Материалы работы используются при чтении специальных курсов в РГГУ.
Диссертация обсуждена на кафедре политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и рекомендована к защите.
Поставленные цели и задачи предопределили структуру исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.
Основные подходы к изучению политической культуры
В настоящее время существует множество (чуть ли не более ста) определений политической культуры и подходов к ее изучению. Представители различных научных школ пытаются уточнить, конкретизировать и расширить это понятие. Это неизбежный процесс, в ходе которого происходит обогащение концепции и ее «адаптация» к современной исследовательской среде. Пребывая в динамичном, постоянно обновляющемся интеллектуальном пространстве, в котором возникают новые проблемы и темы, концепция «political culture» нуждается в развитии, адекватном запросам современности, а также - в смысле К.Поппера - верификации/фальсификации. В то же время попытки «развить» базовую модель отчасти способствуют размыванию содержательного контура понятия: политическая культура нередко толкуется «своевольно» и расширительно; в результате утрачивается ее исходное значение. Поэтому при определении политической культуры целесообразно обратиться, в первую очередь, к классическому наследию ее авторов.
В настоящей работе «political culture» трактуется в духе классической концепции Г.Алмонда и его последователей (в том числе российских). В соответствии с ней, политическая культура есть прежде всего анализ политической системы на ориентационном уровне. «Political culture» - это структура ориентации; «ориентации относительно политической системы суть базовые компоненты политической культуры»3. Ориентация является в известном смысле материалом, на основании которого кристаллизуется та или иная политическая культура. Сравнительный анализ различных моделей ориентации позволил Г.Алмонду и С.Вербе разработать весьма убедительную типологию политических культур.
Алмонд сделал эмоциональную и символическую стороны политической жизни предметом специального анализа. Политическая культура у Г.Алмонда не включает интересы, поведение, институты. Она интерпретируется как совокупное распределение ожиданий, ориентации, убеждений, связанных с политикой. «Мы исходили из предположения, - поясняли Г.Алмонд и С.Верба, - что взаимосвязь между установками и мотивациями отдельных индивидов, формирующих облик политических систем, и тем, как эти системы выглядят, может быть раскрыта систематическим образом в концепте политической культуры» . «Когда мы говорим о политической культуре общества, -подчеркивали они, - мы имеем в виду политическую систему, интериоризованную в знаниях, чувствах и оценках его членов».
Г.Алмонд и С.Верба толковали политическую культуру как интерсубъективный феномен, некую совокупность социально-психологических свойств, проявляющихся на индивидуальном уровне («Термин «политическая культура» подразумевает специфические политические установки (attitudes) в отношении политической системы и ее различных частей и установки по отношению к собственной роли в системе»4). Вслед за Т.Парсонсом они выделяли когнитивные, аффективные и оценочные аспекты ориентации, которые считали «следствием» сходного политического опыта или исторических условий существования социальной группы.
В то же время политическая культура, по замыслу авторов концепции, могла быть представлена как «специфическое распределение типов ориентации (patterns of orientations) по отношению к политическим объектам среди членов той или иной нации»5. Тем самым она понималась как «свойство» сообщества, выявляемое на социетальном уровне. Так преимущественно это понятие толкуется и теперь: «Политическая культура - это термин, относящийся к таким диспозиционным ориентациям, которые настолько широко распространены среди членов политической системы, что могут использоваться для характеристики данной системы как таковой. Определеннее, политическая культура относится к установкам, верованиям и чувствам, а также к знаниям и информации о политических объектах»1. Г.Алмонд и С.Верба предполагали, что ориентации обладают внутренней связностью, а их устойчивые комбинации образуют некие модели. Выделяя три базовые идеальные модели (типа) конфигурации ориентации, они указывали на сложный (смешанный, комбинированный характер) реальных политических культур. Так, характеризуя гражданскую политическую культуру, отмечали: «активный гражданин сохраняет свои традиционалистские, неполитические связи, равно как и пассивную роль подданного... Более того, ориентации прихожанина2 и подданного не просто сосуществуют с ориентациями участника, они пронизывают и видоизменяют их. Так, например, первичные связи важны в становлении типов гражданского влияния»3. Речь идет о «довольно сложной и вместе с тем динамичной системе сбалансированных политико-культурных ориентации» (таково определение Э.Я.Баталова).
Итак, различные типы ориентации входят между собой в противоречивые (возможно, даже конфликтные) и динамичные отношения, а также складываются в определенные конфигурации, которые не являются устойчивыми, раз и навсегда заданными. Особое сочетание «идеальных» типов обусловливает особенности национальной политической культуры4. Таким образом, в самой «базовой» концепции политической культуры заложен элемент динамики: соотношение культурных моделей (идеальных прототипов и реальных типов) в рамках национальной культуры подвержено колебаниям - и их модуль есть проявление степени стабильности (или нестабильности) системы. Г.Алмонд и С.Верба выделили в качестве наиболее предпочтительного (оптимального) для обеспечения стабильности западной демократии «гражданский» тип. Его характерные черты преобладают в политических культурах Великобритании и США. Следуя за авторами концепции «политической культуры», можно предположить, что «гражданский тип» (как и любой другой) соответствует вполне определенным политиям: порожден в ходе определенной эволюции, выкристаллизовывается и, более того, начинает доминировать в определенные же моменты развития. Это предположение имеет принципиальное значение для нашей темы.
Важным представляется и другое наблюдение Г.Алмонда и С.Вербы: «взаимопроникающие структуры общественных и межличностных связей имеют тенденцию воздействовать на характер политических ориентации - делать их менее острыми и разделяющими» . Социальные, групповые, межличностные коммуникации опосредующим образом воздействуют на ориентации, создавая как примиряющий, согласовывающий, так и конфликтный, разделяющий эффект. Поэтому при анализе ориентации важно выделить те социальные (преимущественно коммуникативные по природе) механизмы, которые обладают способностью на них влиять.
Особенности политической преемственности и специфика «работы памяти» в России
Прежде всего необходимо определить, как соотносятся «настоящее» - «прошлое» в рамках западной цивилизации. (Ведь именно с Западом вот уже около трех столетий сравнивают себя русские). Как показывают многочисленные исследования, для западной цивилизации характерен особый тип разрешения естественного конфликта прошлого и настоящего. В его основе - желание понять, насколько и каким образом ушедшее влияет на современность; свести до минимума неизбежные искажения прошлого настоящим; сохранить «в себе» прошлое (его «остатки», традиции) и через связь с ним представить себе будущее. В логике этого подхода прошлое оказывается «связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого» (эти чеховские слова удивительно точно характеризуют европейское социально-историческое мышление). Здесь актуальны идеи и практики преемственности, наследования, т.е. передачи, сохранения и преумножения наследия. Живые институты, нормы, правила, санкции, традиции создают «рамку» для общества, в нем естественным образом развиваются или отмирают.
Европейское прошлое - это длящееся социальное время; оно прорастает в и через новые цивилизации. Поколения, живущие в токе этого времени, - его результат и носитель; его субъект, несущий ответственность за происходящее. А это значит, что они принадлежат истории, располагают свободой созидать, преобразовывать мир. «История возникает там, где есть развитие и взросление, т.е. реальное знание о себе и преодоление себя»1, - пишет В.К.Кантор. Реалии прошлого (наличие живой материальной и духовной культуры), реальный опыт - накопляемый, передаваемый, перерабатываемый и преодолеваемый, пребывание в истории и признание ее сложности, многомерности позволяют западной цивилизации постоянно развиваться, продолжать цивилизовываться. В конечном счете, сохранение в себе прошлого, способность ему наследовать, распоряжаться историческим наследием - мера зрелости, «взрослости» социума. Именно это настраивает его на осознанные, ответственные отношения с миром.
За тысячелетнюю историю Запад приобрел привычку к наследованию, навык поддержания преемственности, минимизации (в этом смысле) конфликтов с прошлым. Об этом много размышляли и западные, и русские исследователи. Показательно, что для русских интеллектуалов была и остается актуальной трактовка европейской «связанности» прошлым как недостатка2. Такая русская (господствующая, определяющая социальное мышление) логика прямо противоположна западной, явленной в истории - особенно в эпохи сломов, кризисов, столкновений «старого» и «нового». Обратимся, например, к истории перехода от Средневековья к Новому времени. В ходе преобразований, как правило, удавалось достичь динамического равновесия прошлого-настоящего, старого-нового. В каждой стране оно устанавливалось по-своему, но везде придавало устойчивость развитию. Об этом пишет У.Мак-Нил, анализируя причины эффективности французского абсолютизма XVII в.3. Историческая преемственность отличала и Голландию с ее федеративной формой правления, ставшей «продолжением» Лиги средневековых городов . Особенно поразителен (именно с русской точки зрения) британский опыт2.
По мнению Ш.Эйзенштадта, «в Англии нарушение преемственности, которое произошло в ходе революционного процесса (от Великого мятежа до Славной революции), было относительно небольшим, хотя имел место довольно заметный сдвиг в основаниях легитимности». В то же время «процесс изменений, включавший переосмысление значения институтов и новое определение социальных ролей, приобрел особую интенсивность». При этом «результаты революции в Англии оказались ближе к преобразованиям, имевшим место в тех обществах, подобных Швеции, Швейцарии и Нидерландам (после восстания XVI в.), в которых собственно политический революций и не произошло»3. Сохранение «традиционного» обеспечивало «эволюционность» и глубину преобразований.
Закономерно, что англичанину принадлежит «классическая» формула удержания прошлого в настоящем4. Дополним ее наблюдениями Р.Роуза: «В мире «новых демократий» Англия стоит особняком, ибо представляет собой «старую демократию»... Демократия установилась здесь скорее как итог эволюции, нежели революции, и неспешный процесс демократизации продолжался на протяжении столетий... Постепенное эволюционирование политических институтов означает, что за всю историю страны представителям английского народа ни разу не пришлось собираться и решать, при какой форме правления им бы хотелось жить... В Англии политические деятели всегда были подготовлены к тому, чтобы в неприкосновенности принять государственные институты в наследство от своих предшественников - таковы правила игры, в соответствии с которыми они вступают на свое поприще. Рядовые граждане также подготовлены к тому, чтобы не менять сложившиеся структуры власти» . Француз сказал бы, что история необходима англичанину, «чтобы излечить его от страха перед изменениями и от упрямого консерватизма»2. В самой Франции истории отводилась «направляющая и формирующая роль по отношению к национальному сознанию» . По словам П.Нора, «история, а точнее история национального развития, составила одну из самых сильных наших коллективных традиций, нашу среду памяти par excellence».
Не случайно именно в старой Европе впервые было осознано наступление «мемориальной эпохи» («страстного, придирчивого, почти навязчивого воспоминания»), вызванной изменением традиционного отношения к прошлому5. Сообщества, «глубоко вовлеченные в процесс трансформации и обновления», вынуждены обращаться к прошлому, осознав его утрату. Исчезновение традиций и традиционного заставляет настоящее их изобретать. В то же время послевоенная Европа создавалась тем «прошлым, которое не проходит» - воспоминаниями о болезненных, катастрофических моментах истории (национал-социализме, «вишистской» Франции и др.). Рождение же новой «единой Европы» потребовало актуализации «общего прошлого».
Разумеется, я не хочу сказать, что на Западе всё идеально, все любят и знают свою историю, прошлое. Современная Европа, переживающая новую фазу «перехода», трансформации собственных начал, - средоточие многих сложных проблем (в том числе в «области памяти»). Речь идет о создававшейся веками традиции помнить - в смысле нежелания «разделаться со своим прошлым», - способности инкорпорировать прошлое в настоящее для придания устойчивости современности. Этот «опыт памяти» прямо противоположен нашему. Вернемся к мнению А.И.Герцена о «преимуществах» (кавычки ставлю я, а не Александр Иванович) русских перед европейцами. Герценовский «освобожденческий манифест» не характеризует исключительно революционную среду и революционную традицию, он органичен русскому (доминантному, господствующему) социальному мировоззрению вообще. Стремление избавиться от «плохого» прошлого и связать себя с «зачатками иного будущего», ощущение себя в начале пути (как и связанная с этим социальная практика - делания каждый раз «заново»), по точному наблюдению В.К.Кантора, «коренятся в глубокой традиции культуры без наследства».
Интеграция травматического политического опыта в память сообществ и актуальную политику
Анализ современности позволяет в полной мере осознать, какую роль играют образы прошлого в культурном пространстве политики. Ее, прежде всего, можно описать в психологической перспективе. Любая культура по сути своей невротична; в ее природе заложено стремление к изживанию своих травм3. Согласно психоаналитическим концепциям, невротики достигают адекватного самосознания, если их вынуждают переживать - вспоминая, выговариваясь - свои травмы. Производя и перерабатывая образы прошлого, общество освобождается от прошлого, как такового, то есть от тех травм, которые его мучают. Образы прошлого выполняют функцию социальной защиты и адаптации, представляя собой своеобразные защитно-компенсаторные механизмы4. Конфликты и примирения с прошлым предотвращают или помогают переживать конфликты, травмы, социальные сломы в настоящем. Обращение к прошлому, «работа памяти» - это и своего рода социокультурная компенсация (человеком и человеческим коллективом) травмирующего воздействия повседневности. Смириться с настоящим (и усмирить его -хотя бы в воображении) помогает прошлое.
Итак, образы прошлого имеют психотерапевтическое значение, участвуя в переживании тяжелых социальных потрясений. В современной социальной науке принят термин «преодоление прошлого». Он указывает на сложный процесс выработки взгляда на историю, не обремененного «тягой к оправданию». В то же время переживание травматического прошлого связано с появлением различных защитных, компенсаторных стратегий. С их помощью трагический опыт инкорпорируется в общее (конструируемое) прошлое. Они предполагают «репрессирование» образов, вызывающих (или способных вызвать) «травму» . Пожалуй, одна из самых распространенных стратегий - в силу естественности, простоты - подавление, забвение прошлого, своего рода «биологическая» реакция организма на потрясение. Тогда негативный опыт вытесняется в сферу коллективного бессознательного. В этом смысле забвение, следствием которого является утрата прошлого, есть не только враг памяти, но и ее ресурс.
Чем глубже травма, тем большее значение приобретают практики забвения. XX век оказался «особенно отягощен памятью насилия и страдания, и этот опыт трудно выразить адекватным образом»3. Показательно в этом смысле массовое отношение ко Второй мировой войне в (Западной) Германии и СССР. ФРГ в первое десятилетие своего существования, по оценкам исследователей, «представляла собой не сообщество памяти, а сообщество забвения»4. В атмосфере коллективной амнезии возникла «лихорадка пощады» (Р.Кемпнер), которой заболели все политически и общественно значимые силы. Они блокировали попытки судебного преследования национал-социалистов, тем самым активизировав дискурс забвения. Такова связь прощения и забвения - в воображении и в реальности - на немецкой почве. «Вытеснение» нежелательного (национал-социалистского) прошлого заставило говорить о «неспособности» немцев «печалиться», «скорбеть» (А. и М. Мичерлих), об «утрате» ими истории (Т.Хойс). Но и в СССР «практически выпал, вытеснен из коллективной памяти (массового сознания) пласт переживаний будничной, беспросветной войны и послевоенного существования, подневольной работы, хронического голода и нищеты, принудительной скученности жизни. Они рассеялись так же, как память об искалеченных инвалидах... Эта жизнь оказалась тягостной и ненужной... От всего этого в общественной памяти остался лишь подсознательный страх, часто выражающийся как страх новой войны, ...определивший собой дальний горизонт массовых оценок качества жизни»1. Причем, в отличие от Германии, этот опыт не восстановлен в нашей памяти и сейчас. Более того, консенсусный (доминирующий, принятый социальным большинством, признанный им приемлемым) образ войны блокирует все попытки «возвращения» тягостного прошлого.
С точки зрения инструментальной, технологической забывание обеспечивается «молчанием» или, по определению Х.Люббе, «коммуникативным умалчиванием»2. Это означает не исключение «травматических» образов прошлого из индивидуального сознания, а исключение травмирующего (индивидуального и коллективного) прошлого из общественных коммуникаций. Вне «зоны публичности» образы прошлого перестают работать, существовать для социума, растворяясь в небытие. С ними уходят те невыносимые значения, которые грозят разрушить коллективные идентичности.
В большинстве случаев образование «пустот» в памяти спасительно (и в этом смысле «полезно») для общества, а длительность забвения свидетельствует о масштабе пережитой травмы. «Мы уже привыкли думать, что «помнить» -как-то лучше и здоровее, чем «забывать», - размышляет немецкий исследователь Х.Вельцер, - хотя не в последнюю очередь... пример Холокоста (травмирующего события par excellence) показывает: для того, чтобы пострадавшие общества могли восстановиться, им может быть полезнее сперва забыть катастрофическое событие, а только потом, после длительной фазы консолидации (которая обычно занимает, видимо, около тридцати лет), снова сделать его предметом воспоминания и поминовения»3. Однако оценки забвения с моральной точки зрения - в значении «хорошего», «правильного» - просто невозможны. Забывание, предполагающее исчезновение прошлого, есть свидетельство «короткой» памяти, нежелания и неспособности общества помнить, а значит, и понимать самое себя. Прерывистое, изобилующее провалами прошлое провоцирует расколы и разрывы в настоящем, чрезмерную активность в конструировании преемственности. «Те, кто не может вспомнить прошлое, - писал М.Хайдеггер, -приговорены к тому, чтобы сперва его выдумать». Категория «отягощающее прошлое» способна стать объектом политической эксплуатации; под нее могут быть подведены любые (нежелательные для каких-то социальных сил) воспоминания. И тогда она превращается в оружие политической борьбы (не менее грозное, чем востребованные образы прошлого), участвуя в принудительном разрушении определенных зон идентификации.