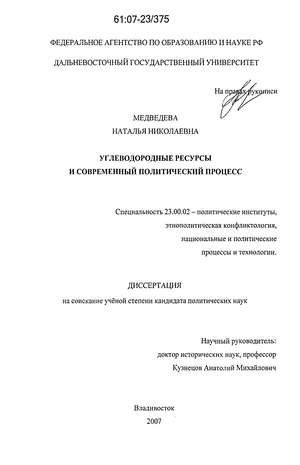Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Энергетические углеводородные ресурсы в современном мире 19
1.1 Политическая история энергетических углеводородов 19
1.2 Мир в условиях «дефицита» энергетических ресурсов 33
1.3 Рынок сырьевых углеводородных ресурсов в системе взаимосвязи политики и экономики 51
Глава 2 Императивы современной энергетической политики 63
2.1 Группировка «игроков» на мировой энергетической арене 63
2.2 Концепция энергетической безопасности с точки зрения теории игр 82
2.3 Варианты решения энергетической конфронтации между поставщиком и потребителем 99
Глава 3 Основные энергетические игроки в современном мире и их стратегии 112
3.1 Крупнейшие потребители энергетических ресурсов (США, Европейский Союз, Китай) 112
3.2 Крупнейшие производители энергетических ресурсов (Саудовская Аравия, Российская Федерация) 129
3.3 Проекты энергетической интеграции как эффективный политический инструмент Российской Федерации 143
Заключение 173
Список литературы 179
Приложение 202
- Политическая история энергетических углеводородов
- Группировка «игроков» на мировой энергетической арене
- Крупнейшие потребители энергетических ресурсов (США, Европейский Союз, Китай)
Введение к работе
Актуальность темы. Технология современной цивилизации основывается на углеводородных носителях энергии1. Поэтому возможность контролировать эти ресурсы сегодня по праву считается одной из важнейших составляющих могущества государства. Начало этому явлению положила индустриализация. Однако только в последние десятилетия перераспределение энергетических углеводородов постепенно превратилось в краеугольный камень внешнеполитического курса крупнейших государств.
Это влияние весьма многосторонне. Заметной чертой современной эпохи являются доктрины, характеризующие энергетическую политику как неотъемлемую часть межгосударственных отношений; стремление установить контроль над энергоресурсами становится причиной конфликтов. Всё большее значение приобретает проблема неравномерности распределения энергетических ресурсов на планете. Решающую роль здесь играет тот факт, что страны с развитой либеральной экономикой , потребляя большую часть добываемой в мире энергии, контролируют очень незначительную их часть. Производя более 80% мирового ВВП , собственных запасов нефти развитым странам хватит лишь на 10 лет, природного газа - на 12 лет . Это означает, что в течение ближайшего десятилетия нас ждут серьёзные перемены в существующем международном порядке и его политических основах. Естественно, страны с высоким уровнем экономического потенциала будут пытаться сохранить status quo. Богатые же энергетическими ресурсами страны, как правило, наоборот слабо развиты экономически, поэтому в создавшейся си-
В структуре мирового потребления энергетические углеводороды занимают 88%. Эти данные показательны в плане осознания такого факта, что в настоящий момент реальной альтернативы углеводородным энергоносителям в мире просто не существует [16, С.41.].
часто неформально определяемых как «Запад» и примерно совпадающими со списком 30 государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития - Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Испания, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Чехия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония. Это примерно 18% населения Земли.
По данным [7, С.96-117]. По данным [27, Р. 48] - этот показатель равен 79%.
В среднем по миру показатель обеспеченности нефтью равен 40,6 годам, по природному газу этот показатель равен 65,1 году. [16, С.6,22.]
туации они попытаются своё энергетическое богатство конвертировать в политическое влияние, что неминуемо приведёт к обострению общемировой политической обстановки. Отчасти эти тенденции получили своё материальное подтверждение в начавшемся в 2000 г. резком подъёме цен на энергоносители. Можно выделить следующие причины этого явления.
Во-первых, политическая нестабильность в Венесуэле в конце 2002 -начале 2003 г., которая была вызвана стремлением президента Уго Чавеса усилить своё влияние в политической системе страны через усиление контроля над государственной нефтяной компанией PDVSA и распределением нефтяных доходов. Это привело к попытке иностранного вмешательства во внутренние дела страны, вызвало забастовки и акции протеста1. По словам У.Чавеса, его цель - «трансформировать существующую несправедливую систему распределения доходов и уменьшить социальную напряженность в странах Латинской Америки». Для этого Венесуэла поставляет в страны Карибского бассейна (без США) 200 тысяч баррелей (барр.) нефти в сутки на льготных условиях. Потери в размере $2 млрд. Венесуэла компенсирует за счёт транснациональных нефтяных компаний, увеличив их налог на прибыль с 1% до 16% [60]. Вокруг У.Чавеса, как популистского, харизматического лидера формируется группа руководителей латиноамериканских стран с сильной левой политической ориентации - глава Боливии Э.Моралес, глава Сальвадора Д.Ортэга; главе Венесуэлы весьма симпатизирует Ф.Кастро. В конечном итоге действия У.Чавеса привели к сокращению добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки.
Во-вторых, начавшаяся война в Ираке, в результате которой мир стал получать на 800 тыс. барр. нефти в сутки меньше, чем до неё начала. При этом в начале военной операции «Свобода Ирака» поставки нефти из этой страны прекращались совсем.
Вообще это явление нельзя связывать только с политикой Уго Чавеса. Феномен «нефте-этатистской модели развития» (petroestado) имеет в Венесуэле давнюю историю. Достаточно вспомнить Услара Пьетри, Ромуло Бетанкура, Переса Альфонсо, чья политическая деятельность привела к принципиальному увеличению доли государства в национальной нефтедобыче.
В-третьих, политическая нестабильность в Нигерии, которая хотя и находится на 11 месте в мире по добыче нефти, но является одним из основных поставщиков на североамериканский рынок высококачественной «нигерийской лёгкой». Так, например, в 2002 г. из-за партизанских действий в дельте р. Нигер, где сосредоточены основные месторождения нефти, сокращение производства составило около 150 тыс. барр. в сутки [16, С.9].
В-четвёртых, ураганы «Катрина» и «Рита», пронёсшиеся по Мексиканскому заливу в августе и сентябре 2005 г., сократили производство высококачественной американской «западнотехасской средней» на 400 тыс. барр. в сутки, нанеся новый мощный широкомасштабный удар по мировой энергетике, одновременно обусловив сбой в поступлении нефти, природного газа и электроэнергии [132].
В-пятых, увеличение потребления нефти Китаем на 2,1 млн. барр. нефти в сутки за 5 лет (с 2001 по 2005 гг.) и в целом возникший «прирост мирового потребления нефти с одного миллиона барр. в день до двух миллионов» [121].
Как видно, на резкий скачок цен на энергоносители повлияли как политические, так и экономические, и климатические факторы. Однако на современную ситуацию стал оказывать ещё один мощный аргумент, в некотором смысле являющийся функцией вышеперечисленного. Это - ощущение надвигающегося «энергетического голода».
Теоретическую основу под это явление заложил ещё в 1940-50-хх гг. американский геофизик Кинг Хабберт [8] в своей концепции «пика нефти». Он доказывал, что добыча нефти в материковой части США достигнет пика между 1965 и 1970; и что мировая добыча достигнет пика в 2000 г. Добыча нефти в США достигла максимума в 1971, и с тех пор убывает. Также убывает добыча в 26 из 49 крупнейших нефтедобывающих стран. Однако мировая добыча до сих пор хоть и незначительно (на 1% в 2005 г. по сравнению с 2004 г.) увеличивается [16, С.8] (Рис.1)1.
Стоит отметить, что с природным газом ситуация выглядит значительно лучше (Рис. 2).
То есть фактор «энергетического голода» имеет и геологическую, и, во многом, психологическую подоплёку. Наконец, он начинает играть всё более значимую роль в международных отношениях. Не исключено, что в ближайшем будущем это значение будет решающим. Во всяком случае, на этом настаивает сама логика политического поведения в условиях нарастающего «дефицита» стратегического энергетического сырья.
Следствия сложившейся ситуации имеют многогранное выражение. Можно наблюдать в реальном времени, как районы концентрированного расположения нефтяных месторождений всё чаще становятся «горячими точками» на политической карте мира (Рис. 3). Вопрос «энергетической безопасности» на глазах становится основополагающим в согласовании позиций различных государств, уступая, а порой и заменяя собой проблему несоответствия политических режимов или идеологии. Более того, постепенно наличие энергетического сырья не только начинает определять основные векторы развития национальной экономики, но и всё чаще становится основным фактором, который формирует политический режим государства и долгосрочную стратегию его развития. Вообще с этой точки зрения весьма показательно выглядит наблюдаемое ныне усиление позиций неореализма в практике межгосударственных взаимоотношений. К изучению этого влияния исследователи ещё только приступают.
В целом можно отметить следующие причины повышенного влияния распределения энергетического сырья на современные политические отношения:
реальный или предполагаемый «дефицит» энергетического сырья;
возрастающая неравномерность распределения энергетического сырья по поверхности Земли;
3. интернациональный характер современной энергетики, который
подразумевает участие в политическом дискурсе и транснациональных
компаний, и государств, и межгосударственных отраслевых объединений
(ОПЕК, МЭА), и государственных союзов (ЕС);
развитие такого явления как «энергетический национализм»;
возможность использования энергетических ресурсов для достижения политических целей - «нефтяное оружие», «газовое оружие» и т.п.;
возросшая чувствительность мировой политической системы к состоянию энергетической сферы, когда любой сбой (технический либо связанный с человеческой ошибкой, либо с атакой террористов) может привести к глубоким политическим трансформациям всего мира.
Эти причины привлекли интерес исследователей кгфо^лематике_зави-симости государственной политики от энергетической конъюнктуры. Конечно, провоцируют этот интерес высокие цены на энергоносители. Однако, если «первая волна» научного осмысления этого феномена, которая пришлась на время энергетического кризиса 1973-74 гг. (война «Йом киппур» и последовавшее нефтяное эмбарго стран ОПЕК), а также иранскую революцию 1979 г., и, соответственно, наибольший интерес в то время привлекала возможность использования «нефтяного оружия», то сегодня ситуация намного более усложнилась. Президент Института энергетики и финансов Л.Григорьев, выделяет три подхода («школы») к изучению современной энергетической ситуации: политическую, экономическую и экологическую. Первый рассматривает, прежде всего, проблемы устойчивости нынешних рынков, надёжности поставок, цен, конфликтов вокруг транзита энергоресурсов и другие текущие проблемы. Этот подход отражает озабоченность правительств в отношении национальных интересов и в отношении своего политического будущего.
Вторую «школу» представляют специалисты, которые заняты прогнозами экономического роста, энергопотребления и влиянием на эти процессы нефтяной и газовой конъюнктуры; проблемами диверсификации источников энергии; борьбы между атомной и теплоэнергетикой, основанной на газе; проблемами транзита, расчёта вариантов обеспечения мира и крупных групп стран энергоносителями и пр. Согласно этому подходу политики должны
только создать условия для снижения политических рисков, работы частного бизнеса, а также компаний, находящихся под контролем государства.
С позиции третьей, экологической школы, которая представлена академическими экологами и неправительственными организациями, наибольшие проблемы человечества заключаются не в перераспределении энергетического сырья, а в переизбытке производства энергии и выброса углекислого газа [125, С.6-7]. Отсюда основной целью экологов сегодня является убедить мировое сообщество в необходимости сократить энергоёмкое производство, либо, по крайней мере, переходить на альтернативные возобновляемые виды энергии (солнечную, ветровую, приливную, водородную, биотопливо и т.п.).
В рамках настоящей работы проблема будет рассматриваться преимущественно с позиции первой «школы». Авторская логика в данной дискуссии такова. Будучи первоначально обычным товаром в структуре мирового обмена, природные энергетические ресурсы с течением времени изменили свой статус на «стратегический» и, соответственно, определяющее значение стала играть их политическая «ипостась». Данные метаморфозы произошли в результате, во-первых, неравномерного распределения этих ресурсов по земной поверхности, во-вторых, ключевого их значения для функционирования экономики в новейшее время, роли в развитии транспорта и, во многом отсюда, стратегии войны и политического господства, наконец, - осознания конечности этих ресурсов и невозможности их адекватной замены в ближайшей перспективе.
Эти причины принципиально изменили отношение к роли органических энергоресурсов в современном мире. Они стали важнейшим фактором политических взаимоотношений на межгосударственном и региональном уровне, основой для мировых интеграционных процессов и, соответственно, полноценным объектом политологического исследования.
Цель настоящей работы можно сформулировать следующим образом: определить влияние современной ситуации на рынке углеводородных энер-
гетических ресурсов на политический процесс и стратегии поведения крупнейших субъектов мировой политики в этой области.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
определить исторически обусловленные факторы влияния углеводородных ресурсов на политическую картину мира;
определить политическую подоплёку концепции «дефицита энергетических ресурсов» и её влияние на современную политику;
определить группы действующих «игроков» на энергетическом рынке и императивы их политики в этой области;
определить возможные пути развития энергетической стратегии Российской Федерации в современных условиях.
Объектом исследования данной диссертации является политическое взаимодействие субъектов обмена энергоресурсами в современном мире.
Предмет исследования - современный рынок углеводородных ресурсов в политическом измерении: а именно, сфера политических действий, направленных на решение проблемы «дефицита» ресурсов и её влияние на развитие современного политического процесса. Заявленная проблематика слишком широка для одного исследования. Для уточнения его предмета были введены следующие офаничения: анализу были подвергнуты не все углеводородные энергетические ресурсы, а лишь нефть и природный газ, специфика распределения, производства, транспортировки и использования которых оказывает наиболее значимое влияние на политические отношения.
Источниками для разработки избранной темы послужили:
официальные правительственные документы и выступления официальных лиц, отражающие основные государственные приоритеты в национальной энергетической политике;
межгосударственные соглашения,
специализированные справочники и статистические материалы;
данные нефтегазовых добывающих и транспортных компаний.
Первая группа источников представлена государственными документами стратегического характера. Это, например, «Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2020 г.» 2003 года, «Современная энергетическая инициатива» (The Advanced Energy Initiative), предложенная президентом США в январе 2006 года; доклады Международного валютного фонда, выступления глав государств, правительств и заинтересованных организаций, касающиеся энергетической сферы и т.д. Данный тип источников зачастую предоставляет информацию чересчур политизированного тенденциозного характера, которая зачастую не несёт в себе цели практической реализации.
Вторая группа источников представлена международно-правовыми актами, к которым относятся многосторонний договор к Энергетической хартии ЕС, двусторонние межгосударственные соглашения в энергетической сфере и др.
К третьей группе относятся периодические издания-обзоры ситуации в энергетическом секторе. Это наиболее авторитетный в мире ежегодный «Статистический обзор мировой энергетики компании British Petroleum» за 2006 и 2007 гг.; ежегодники и доклады департамента энергетики правительства США - The International Energy Outlook за 2005 г. и 2006 г.; данные ежемесячника отдела энергетической информации правительства США (International Petroleum Monthly - March 2007); данные американского института нефти (American Petroleum Institute); данные Oil & Gas Journal за 2004-2005 гг.; данные ежегодника ОПЕК (OPEC: Annual Statistical Bulletin - 2005, 2006); данные ежегодника Международного Энергетического агентства (Key World Energy Statistics - 2006); данные ежегодника Федерального министерства кооперации и развития ФРГ (International Fuel Prices - 2007); данные Worldwatch Institute (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century -Global status report - 2006); данные макроэкономических и демографических показателей журнала The Economist (Великобритания); доклады специализированных комиссий Евросоюза (An external policy to serve Europe's energy interests - 2006); справочники «Минеральные ресурсы мира» и «Среднеме-
сячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции», издаваемые Федеральным агентством по недропользованию РФ и ФГУНПП «Аэрогеология» и др. В целом можно отметить значительную достоверность данных этого типа источников.
К четвёртой группе относятся данные корпоративных изданий энергетических компаний. Таких как British Petroleum, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, Газпром, Транснефть и др. В данном случае необходимо учитывать цель существования этих изданий - поддержание корпоративной культуры и прямое лоббирование интересов в среде внешних читателей. Это предполагает наличие особой процедуры верификации данной группы источников.
Степень изученности проблемы. Интерес исследователей к данной проблематике возник достаточно давно, но менялись приоритеты и точки зрения на сущность и место энергетического углеводородного сырья в политике. До первого энергетического кризиса 1973-74 гг., когда впервые удалось эффективно применить «нефтяное оружие», энергоресурсы за редким исключением рассматривались только как товар. Причина заключается в том, что в условиях фактически колониальной эксплуатации нефтяных месторождений на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и в Центральной Америке возможное предложение намного превышало спрос и, соответственно, цены на энергетическое сырьё оставались чрезвычайно низкими. Практически не повлияли на ситуацию, ни обе мировые войны, ни Суэцкий кризис 1956 г. В советской историографии того времени можно отметить работы С.Лисичкина [52], [53] и А.Трошина [68], посвященные развитию нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли в России, но практически не касающиеся политической области.
Нефть с точки зрения её политического (и в первую очередь, геополитического) значения со второй половины 70-х гг. XX в. привлекла внимание таких исследователей, как Г.Киссинджер [50], З.Бжезинский [42], И.Валлерстайн [91]. В советской историографии этот вопрос оценивался с
марксистской точки зрения, согласно которой энергетический кризис показал неспособность капитализма преодолеть антагонистические противоречия социально-экономического развития и научно-технической революции, и демонстрировал процесс нарастания борьбы развивающихся стран за свою политическую и экономическую самостоятельность. Этого вопроса в своих исследованиях касались, например, Е.Примаков [62] и Н.Иноземцев [70].
Настоящий «взрыв» интереса к политической истории углеводородного сырья породил изданный в 1999 г. фундаментальный труд руководителя авторитетного информационно-аналитического агентства CERA (Кембриджское энергетическое исследовательское агентство) Д.Ергина «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» [48]. Сквозной линией через всю эту работу проходит мысль о том, что в течение практически всего XX в. нефть является стратегическим сырьём, борьба за обладание и контроль над которым и является, собственно, современной международной политикой. С точки зрения Д.Ергина проигрыш Германии в обеих мировых войнах, Японии во Второй мировой, политическое и экономическое возвышение Соединённых Штатов, продолжительное существование Советского Союза и его распад - всё это связано практически исключительно с нефтью, с доступом к ней и ценами на неё.
Эта крайняя точка зрения вызвала активную дискуссию среди исследователей, породив множество работ, по уровню, впрочем, пока уступающим фундаментальному труду Д.Ергина. Среди этих работ можно отметить труд одного из самых авторитетных специалистов по истории энергетики У.Энгдаля «Столетняя война: англо-американская нефтяная политика и новый мировой порядок» [78] и др. публикации [79], [80], [81], в целом разделяющего взгляд Д.Ергина, но в ещё большей степени политизирующего значение нефти сегодня. Периодически выходят в свет отрывки из ещё неизданного на русском языке труда Л.Мауджери - одного из руководителей итальянского энергетического гиганта Eni - "The Age of Oil: The Mythology, History and Future of the World's Most Controversial Resource" [154], [155] («Нефтяная
эра: Мифология, история и будущее самого противоречивого ресурса мира», 2006). Если Д.Ергин и У.Энгдаль во многом придерживаются алармистской точки зрения на перспективы нефтяной отрасли, то Л.Мауджери всячески пропагандирует оптимистический настрой.
Необходимо отметить работу Т.Фридмана «Первый закон петрополи-тики» [185], опубликованную в Foreign Policy в 2006 г., в которой поднимается вопрос зависимости уровня развития демократии в стране от цен на энергоносители. По мнению Т.Фридмана это отношение имеет обратную зависимость. Спорность данного положения заключается в слишком большом количестве исключений из этого «закона».
Большое значение для осмысления обозначенной проблематики настоящего исследования имеют работы А.Коэна [142], [201], [143], Э.Монагана [162], У.Строупа [206], М.Беловой [102], [103], Г. Валиахмето-вой [43], Л.Вальковой [44], Л.Григорьева [120], [122], [125], [126], В.Гусарова [46], С.Жизнина [49], В.Милова [156], [157] и др.
Можно выделить следующие проблемы, поднимаемые исследователями в данной области политической науки:
осознание факта исчерпаемости энергетических ресурсов и влияние этого явления на современную политику;
определение концепции энергетической безопасности;
влияние ресурсной базы страны на внутреннюю политику государства;
взаимосвязь между энергетической политикой и экономикой государства;
влияние политических событий на мировую энергетику и др.
В целом, можно сказать, что проблематика предлагаемого исследования сегодня активно разрабатывается, в ней чётко определяются подходы, которые можно приблизительно обозначить, как «неолиберальный» и «неореалистический». Первый подход в первом приближении решает вышеперечисленные проблемы с точки зрения примата рыночных механизмов. Второй видит решающую роль в действии независимых политических субъектов. В
то же время стоит отметить, что в данной области при огромном многообразии статистической и аналитической информации наблюдается серьёзный недостаток количества фундаментальных исследований. Это связано по большей степени с трудностью определения проблемной плоскости современной энергетики и факторов, оказывающих на неё решающее значение. Поставив в качестве аргументов либо экономические факторы, либо политические, либо природные, мы получаем статичную картину, не отражающую всю глубину проблемы, более того, - зачастую вводящую в заблуждение из-за чрезмерного «выпячивания» какого-то фактора. Более целостную картину, имеющую больший прогностический потенциал, можно получить, представляя современную энергетику многомерным явлением, функцией, различные аргументы которой со временем могут менять своё значение. Кроме того, изучению, как правило, подвергаются отдельные акторы энергетической политики без серьёзных попыток группировки их по долговременным стратегическим интересам.
Методология исследования.
Методология данного исследования представляет собой объединение общенаучных принципов (системности, дополнительности, историзма) и методов, применяемых в политологии. Прежде всего, исходя из специфики объекта исследования, предполагается глубокая взаимосвязь между событиями, фактами и субъектами энергетической политики. Более того, энергетика, по словам президента Литвы Валдаса Адамкуса, «становится неотъемлемой частью международных отношений и дипломатии в условиях, когда экономическая и энергетическая независимость становится важным критерием национальной безопасности» [108, С.1]. То есть мировая энергетика становится не только основой глубокой взаимной интеграции национальных экономик, но и определяет взаимозависимость национальных политических стратегий. Она представляет собой определённую саморегулирующуюся целостность, состоящую из совокупности элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и внешней средой, и поэтому рассматривать её необходимо как
систему. Это позволяет увидеть целостную картину распределения ресурсов, а также развития политических процессов, связанных с энергетической сферой.
Принцип дополнительности предполагает учёт всей совокупности фактов, которую предоставляют источники, даже если это и приводит к противоречиям. В работе совмещаются различные точки зрения и данные источников, которые в ряде случаев противоречат друг другу. Найти источники этих противоречий помогает принцип историзма. Он предполагает рассмотрение всякого явления в развитии, позволяет учесть влияющие на процесс факторы, которые обусловлены характером того или иного исторического периода.
В настоящей диссертации использованы такие общенаучные методы исследования, применяемые в политологии, как институциональный, компаративный, структурно-функциональный. Первый метод ориентирует на изучение организационных структур, определяющих мировую энергетическую политику, их приоритеты и основополагающие интересы. Компаративный метод позволяет сравнивать не только те или иные политические институты, но и их стратегии, что особо продуктивно для прогноза событий и тренда развития исследуемых субъектов. Структурно-функциональный метод, предполагающий рассмотрение объекта исследования как сложноорганизованной системы, каждый элемент которой имеет своё назначение, функции и ожидания, позволяет подвергнуть анализу способы регулирования этой системы, её адаптивность к изменяющимся условиям внешней среды.
К теоретическим основам настоящей работы можно отнести рассмотрение объекта исследования с точки зрения теории политического реализма, по-видимому, наиболее адекватно описывающего современное состояние международных отношений, в целом, и сырьевой энергетический фактор в политике, в частности. В наиболее сжатой форме суть подхода можно описать следующим образом [87, рр.80-104]: 1. Субъектами международных отношений являются нации, обладающие суверенитетом. Взаимоотношения между ними в значительной мере анархичны и мало поддаются регулирова-
нию со стороны международных организаций. 2. Высший мотив поведения государств в их взаимоотношениях - защита национальных интересов. В межгосударственных взаимоотношениях более значимы реальные возможности, ресурсы государств, чем их идеологические намерения 3. Борьба за силовое преобладание на мировой арене и воплощает собой защиту национальных интересов. 4. Международная кооперация трудноосуществима, зависима от государственных властей и приносит относительную выгоду.
С этой точки зрения трактовка межгосударственных взаимоотношений близка к её пониманию Р.Ароном, как комбинации стратегии и дипломатии. При этом под стратегией понимаются любые формы силовой политики (война или угроза применения силы). Дипломатия же, основываясь на силе, включает в свой арсенал и средства противоположного рода, направленные на мирное урегулирование, хотя и базирующиеся на подсчёте соотношения сил. Таким образом, комбинация дипломатии и стратегии в истории приводит к чередованию мира и войны [56, С. 131].
В современной ситуации, характеризующейся усиливающейся конкуренцией за доступ к энергетическим ресурсам, в гораздо большей степени можно говорить о превалировании в мировой политике именно стратегии. Если же говорить о войне, как высшем проявлении стратегического подхода, то её, конечно, в изучаемом случае нужно трактовать не буквально, как «силовой, как правило, вооруженный, конфликт между государствами или народами» [93, С.96], а предельно широко. Пример подобного толкования можно найти на своеобразной «шкале» К. Клаузевица: «война... может воплощаться в весьма разнообразные по значению и интенсивности формы, начиная от войны истребительной и кончая выставлением обсервационных1 частей» [51, С.9]. В таком смысле рассматриваемый случай ужесточающейся борьбы за доступ к энергии сегодня если и можно рассматривать как «войну», то толь-
Здесь - простое вооружённое наблюдение.
ко, скорее, в фазе «выставления обсервационных частей». Впрочем, по мере увеличения дефицита ресурсов, война может становиться более «горячей»1.
Также в работе предпринята попытка применения теории игр для рассмотрения взаимоотношений между основными субъектами современного мирового политического энергодиалога. В условиях предполагаемого «дефицита» энергетических ресурсов ситуация с их международным перераспределением в результате взаимоотношений между основными акторами выглядит во многом аналогичной ситуации, описываемой в период «Холодной войны» как «ядерное сдерживание». Делается предположение, что существующий ныне в исследуемой области политический дискурс можно описать с точки зрения' игры с ненулевой суммой, в которой участники могут добиться обоюдных выгод или обоюдно проиграть в отличие от игр с нулевой суммой, где выигрыш одного одновременно эквивалентен проигрышу другого. Для относительно успешного решения этой игры требуется концентрация усилий заинтересованных сторон, во-первых, в определении рациональности, и, во-вторых, в определении устраивающей всех и понимаемой всеми концепции «энергетической безопасности». Обеим этим сторонам проблемы посвящена значительная часть настоящей диссертации.
Прикладные методы представлены в данной работе использованием статистических материалов и их анализом. К общелогическим методам, применяемым в исследовании, можно отнести индукцию и дедукцию.
Использование этих подходов и методов на стыке теоретических и прикладных дисциплин даёт возможность выполнить поставленные в данном политологическом исследовании цели и задачи.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в определении сущности такого явления как «дефицит углеводородных энергетических ресурсов». Делается вывод о том, что это явление имеет не только геологическую, но и политическую природу; и именно оно в значительной мере определяет современный политический процесс. Были выделены группы
1 Возможно, она уже стала таковой, если принимать в расчёт вторую войну в Ираке.
участников глобального энергообмена (поставщики, транзитёры, потребители). Применение теории игры позволило детализировать интересы этих групп и предположить, что в условиях современного кризиса, вызванного предполагаемым «дефицитом ресурсов», стороны энергообмена проводят и будут проводить в ближайшей исторической перспективе стратегию «обоюдного проигрыша», увеличивающую расходы, но уменьшающую риски. Также были предложены несколько направлений развития энергетической стратегии Российской Федерации.
Практическая значимость работы определяется возможностью применения содержащихся в ней выводов и материалов в преподавании дисциплин политической и исторической науки, политической истории нефтегазовой отрасли; в прогнозировании развития некоторых международных политических процессов; в определении степени реалистичности тех или иных проектов межгосударственной институциализации в энергетической сфере и в предложении пересмотра некоторых положений Энергетической стратегии Российской Федерации.
Политическая история энергетических углеводородов
Политическая история углеводородного сырья - это практически исключительно политическая история нефти. Каменный уголь, несмотря на то, что он широко используется человечеством уже около тысячи лет, на политику влияет очень незначительно и эпизодически. Связано это, прежде всего, с доступностью этого сырья и с его достаточно равномерным распределением по поверхности Земли. Этот факт служит косвенным подтверждением того, что зачастую геология и география имеют политическое измерение. Политическая же история природного газа, по сути, только начинается, а её отсчёт можно начинать с 60-х гг. XX в.
Нефть известна с очень давних времён. В различных районах Ближнего Востока это тягучее полужидкое вещество, просачиваемое на поверхность сквозь трещины в земле, называлось битумом, а первые свидетельства об этом явлении были сделаны в Месопотамии ещё в XXX в. до н. э. Использовалась нефть первоначально как цементирующий состав в строительстве зданий и дорог, промасливании судов, и, хотя весьма ограниченно и неэффективно, для освещения. Применялся битум и в древней медицине.
Также нефть использовалась непосредственно для производства эффективного вида оружия - так называемый «греческий огонь», - тайна изготовления которого в течение столетий оставалась одной из самых охраняемых государственных тайн. Византийцы активно использовали его, начиная с VII в. н. э. «Греческий огонь» представлял собой смесь нефти, негашеной извести, канифоли, серы, селитры и др. веществ, которая воспламенялась при увлажнении. Эта смесь наносилась на кончики стрел или входила в состав начинки примитивных гранат для поджигания крыш и стен домов в осажденных городах, а также использовалась в морских боях. В течение многих столетий нефть считалась гораздо более грозным оружием, чем даже порох. До XII в. греки сохраняли монополию на применение «греческого огня». Однако гораздо раньше, ещё в описании троянской войны в «Илиаде» Гомера, можно встретить упоминание об использовании в морском бою «неутомимого огня», в состав которого, вероятно, должна была входить нефть [92]. Впрочем, с приходом на вооружение огнестрельного оружия «греческий огонь» теряет своё значение. Вместе с этим на многие столетия исчезает и политическая роль нефти.
«Возвращение» нефти в качестве значимого природного ресурса началось в середине XIX в., когда из неё удалось выделить лёгкую фракцию - керосин, которому нашлось применение в качестве горючего для освещения помещений, гораздо более эффективного, чем свеча. «Новый свет», как в то время называли керосин, потеснил ночь и удлинил рабочий день. Однако поистине «переворот» в мировой значимости нефти произошёл тогда, когда её научились использовать в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания, т.е., прежде всего, в транспорте. В течение примерно двух десятилетий (с 1896 г., когда Генри Форд создал свой первый автомобиль; с изготовления двигателя Рудольфа Дизеля в 1897 г.; с полёта братьев Райт в 1903 г. до начала Первой мировой войны) происходит не просто технологический прорыв, - нефть постепенно становится стратегическим сырьём, обеспечивающим глобальные преимущества.
Мир кардинально изменился с заменой угля мазутом в качестве топлива для морских судов. Несмотря на то, что уголь доступнее, использование мазута в двигателях внутреннего сгорания позволяло сэкономить 78% топлива по сравнению с паровым двигателем, высвободить 30% полезной площади на судне, четверть экипажа корабля освобождалась от выполнения различных работ, связанных с топливом, увеличивался радиус действия флота, появлялась возможность дозаправки в море. Более того, значительно снижались нагрузки, затраты времени, а также усталость и различные неудобства у экипажа, связанные с погрузкой угля. Достоинства применения нефти в отношении управления кораблем и скоростных характеристик были особенно важны в наиболее критические моменты - в бою. Использование мазута сделало возможным повышение огненной мощи и скоростных характеристик любых типов судов при меньших размерах и меньших затратах [48, Гл.8].
Эти технические новшества с политической точки зрения имели две стороны. Процесс перехода флота с угля на мазут был инициирован, прежде всего, соперничеством на море между Великобританией, Соединёнными Штатами и Германией. Что было особенно важно в преддверии Первой мировой войны.
Однако нельзя забывать и о другой стороне - геополитической. Именно это имел в виду У.Черчилль, когда отмечал, что Великобритания должна была положить «нефть в основу своего господства на море» [48, Гл.8]. Новые условия существования мира требовали новых подходов в политике. А именно потребовалось учитывать следующее глобальное изменение. С началом массового использования нефти в качестве топлива на транспорте мир стал теснее. Возможно, первым заметил это Хэлфорд Дж. Маккиндер. В своём известном докладе, прочитанном в Королевском географическом обществе 25 января 1904 г., он так описывает сложившуюся ситуацию: «Отныне нам придется иметь дело с замкнутой политической системой, и вполне возможно, что это будет система глобального масштаба. Всякий взрыв общественных сил, вместо того чтобы рассеяться в окружающем неизведанном пространстве и хаосе варварства, отзовется громким эхом на противоположной стороне земного шара» [148, С. 162-163]. Маккиндер также демонстрирует получаемые преимущества через обращение к торговле: «при океаническом способе торговли, хотя и относительно дешёвом, обычно товар прогоняется через четыре этапа: фабрика-изготовитель, порт погрузки, порт выгрузки и товарный склад в пункте продажи, в то время как континентальная железная дорога ведёт прямо от фабрики-производителя на склад импортёра. Таким образом, посредническая океанская торговля ведёт, при прочих равных условиях, к формированию вокруг континентов зоны проникновения, чья внутренняя граница грубо обозначена линией, вдоль которой цена четырех операций, океанской перевозки и железнодорожной перевозки с соседнего побережья равна цене двух операций и перевозке по континентальной железной дороге [148, С. 168]. По сути, усиление возможностей морского флота приводят к серьёзным геополитическим сдвигам, а именно, к расширению «зоны проникновения» морских держав на континент.
Группировка «игроков» на мировой энергетической арене
В предыдущей главе было показано, что современную ситуацию вполне можно охарактеризовать, как ситуацию «глубокой озабоченности» относительно будущего нефтяной обеспеченности мировой экономики, и даже, как «кризис» энергетической сферы». Нефть называют «кровью современной экономики» (В.Алекперов) [40], «кровью земли» (Ж.Клемансо) [48, Гл.26]. По мнению Ли Гамильтона, президента Международного научного центра имени Вудро Вильсона, «энергетическая безопасность - второй по важности компонент государственной политики безопасности после национальной обороны» [83, P.xxi]. Стоит отметить, что вовсе не случайно по этому поводу возникают коннотации скорее военного характера, чем экономического, а о нефти и газе всё чаще говорят министры обороны, чем торговли. Ведь сегодня существование развитого национального государства, отрезанного от поставок нефти, представляется невозможным. Отсюда - обеспечение благоприятных условий для максимальной стабилизации этих поставок является основополагающей целью правительств.
Однако в связи с указанной выше естественной неравномерностью распределения энергетических ресурсов по планете государства принимают на себя различные «роли» в энергетическом обмене. Достаточно условно (т.к. всегда имеет место серьёзное совмещение «ролей» или их смена с течением времени) назовём их «поставщиками», «потребителями» и «транзитёрами». Данная глава посвящена рассмотрению политических взаимоотношений между этими группами «игроков».
Как уже отмечалось, энергетические ресурсы неравномерно распределены по поверхности земли, одним странам приходится приобретать недостающее количество энергии за границей, а другим - поставлять её. Стоит особо обратить внимание на последнее положение, а именно, на вынужденность осуществлять поставки энергетического сырья той стороной, у которой есть его избыток. В современных условиях подобный отказ понимается, как попытка подорвать экономическое развитие страны-реципиента, соответственно, как посягательство на её суверенитет и может уже трактоваться как акт агрессии.
В настоящее время мы являемся свидетелями начала перевода этой проблемы из области формирования общественного мнения (дискуссий преимущественно в СМИ) в область юридического оформления политических взаимоотношений. Возможно, переломным моментом окажется выступление влиятельного американского сенатора-республиканца, главы сенатского комитета по международным делам Ричарда Лугара перед саммитом НАТО в Риге в конце ноября 2006 г. По его словам НАТО следует готовиться к «энергетическим угрозам» со стороны Москвы. Повышение цены на газ для Украины в начале 2006 г. он приравнял к «вооруженному нападению» и призвал в случае подобного «шантажа» против членов НАТО применить ст. 5 устава альянса. Иначе говоря, если Польша или Латвия откажется платить рыночную цену за газ, это может стать поводом для нападения НАТО на Россию. Р. Лугар предложил готовиться к нему заранее и сделать легендой ближайших военных учений «помощь стране, пострадавшей от энергетического шантажа» [189].
Реализация подобного проекта означает конечный этап развития событий в условиях дефицита энергетических ресурсов - юридическое обоснование захвата месторождений и энергетических потоков странами-потребителями. Впрочем, как было показано выше, время реальной нехватки энергоресурсов ещё не наступило, и мировое сообщество вряд ли согласится на подобное насильственное перераспределение ресурсов. Во всяком случае, сейчас.
Тем не менее, для защиты своих интересов страны-поставщики и страны-потребители зачастую пытаются сгруппироваться в как можно более влиятельные коалиции. Однако из этого, на первый взгляд, естественного процесса есть важные исключения, что будет рассмотрено ниже.
Второй фактор, который необходимо учитывать, это исчерпаемость ресурсов. Здесь имеется в виду не столько алармистская позиция относительно скорого мирового кризиса, вызванного общим дефицитом нефти, сколько вполне реальное исчерпание важных месторождений, имеющих критическое значение для ряда стран. В качестве примера можно привести Индонезию, в которой добыча нефти в связи с исчерпанием ресурсов за 10 последних лет (с 1995 по 2005 гг.) упала на 28%, а потребление за тот же период выросло на 30%, и в 2005 г. страна стала потреблять нефти больше, чем добывать [16; С.8, 11]. Тем самым Индонезия - член ОПЕК - превращается из экспортёра в импортёра нефти. Соответственно, в скором времени должны измениться и её внешнеполитические приоритеты, изменится и статус Индонезии в качестве участника международных организаций. Этот процесс будет, вероятно, сопровождаться внутриполитическим кризисом, ведь Индонезия является крупнейшей мусульманской страной в мире, и её участие в ОПЕК естественно усиливало в ней позиции ислама. Переход же в «стан» импортёров нефти усилит прежде менее чувствительные трения между Индонезией и арабским Ближним Востоком.
Для таких стран - ныне крупных экспортёров нефти, - как Великобритания и Норвегия, переход в разряд импортёров в связи с исчерпанием резервов Северного моря повлечёт в большей степени экономические, чем политические изменения . Поэтому в данном исследовании глубоко не рассматривается. Можно лишь отметить, что нефтедобывающие компании этих стран (прежде всего, норвежские государственные компании Statoil и Norsk Hydro"), накопив опыт на «своих» месторождениях, переориентируют свою деятельность на добычу нефти и газа в более отдалённых регионах.
Отдельное место занимают Соединённые Штаты Америки, как крупнейший потребитель нефти, при этом - один из крупнейших её производителей (3 место в мире после Саудовской Аравии и России). Кроме того, США может считаться ещё и крупнейшим транзитёром нефти, как страна, контролирующая в значительной мере танкерные поставки и нефтяную биржу. Это положение придаёт особую специфику современным международным отношениям, что будет показано ниже.
Крупнейшие потребители энергетических ресурсов (США, Европейский Союз, Китай)
На сегодняшний день США являются мировым политическим и экономическим лидером. При населении в 298,4 миллиона человек (примерно 4,9% населения Земли) ВВП составляет 13,18 трлн. долларов (28,6% мирового ВВП). Средний ВВП на душу населения является одним из самых высоких в мире и составляет 44180 долларов [7, С. 110-111] . Страна имеет сухопутные границы только с двумя государствами - с Канадой и Мексикой, и при этом выступает лидером в объединяющем их экономическом союзе - NAFTA1 (на США приходится 49% торговли внутри союза, но они же и более независимы в этом союзе - на NAFTA приходится 29,2% торговли США, в то время как у Канады и Мексики этот показатель составляет 75,2% и 76,2% соответственно [7, С. ПО].
Страна в целом богата полезными ископаемыми, в том числе углеводородным сырьём. Однако бурный экономический рост, продолжавшийся на протяжении более полутора столетий и первоначально сопровождавшийся нерациональной хищнической эксплуатацией крупнейших месторождений , привели к спаду объёмов добычи. До недавнего времени США являлись крупнейшим производителем нефти в мире. Сегодня же Соединённые Штаты с 8%о мировой добычи опустились на третье место после Саудовской Аравии и России. При этом доказанные запасы составляют лишь 2,4% общемировых, сократившись за последние 20 лет с 36,4 до 29,3 млрд. барр., а коэффициент обеспеченности запасами на конец 2005 года составил 11,8 лет [16, С.6-8].
Так как Соединённые Штаты являются мировым промышленным лидером, то, соответственно, велико и потребление ими энергии. По этому показателю США занимают первое место в мире (24,6% общемирового потребления нефти ), а дефицит, соответственно, составляет колоссальные 13,8 млн. барр. в сутки (этот дефицит не смог бы в одиночку покрыть даже лидер мировой добычи нефти - Саудовская Аравия3).
С природным газом ситуация не выглядит лучше. При доказанных 3% общемировых запасов (коэффициент обеспеченности запасами на конец 2005 года составил 10,4 лет) и втором месте по добыче (19% общемировой добычи) после Российской Федерации США потребляет 23% всего добываемого газа в мире, и по этому показателю опять же намного опережает все другие страны. Дефицит составляет 107,8 млрд. м3 в год или 17% от объёма потребления [16, С.22-27]. Из этих цифр понятно, что у США имеются очень большие проблемы в энергетической области (Таб. 2).
Гораздо лучше обстоят дела с каменным углём. В США находятся его крупнейшие запасы (обеспеченность 240 лет), а потребление примерно равно добыче (около 620 млн. т в нефтяном эквиваленте) [16, С.32-34] . Однако с экологической точки зрения уголь - наиболее уязвимое для критики энергетическое сырьё, а использование его сегодня в основном технологически ограничено лишь в металлургии и на теплоэлектростанциях.
При том, что в США потребляется примерно 22,2% всей энергии в мире [16, С.40] (по другим данным 24,7% [7, С. 122]) общий энергетический дефицит США составляет 730,6 млн. т в год в нефтяном эквиваленте или около 7% от общемирового потребления [16, С.41]4. Серьёзных оснований для улучшения ситуации на сегодня нет. Более того, по-видимому, ситуация с американским энергодефицитом будет усугубляться. Наибольшие опасения у Соединённых Штатов вызывает тот факт, что основные мировые энергетические источники смещаются в отдалённые от США регионы, часто в нестабильные и недружественные Вашингтону страны.
Однако Соединённые Штаты выработали принципиально особый способ решения проблемы своей энергетической зависимости - не попытки увеличения собственной добычи, сокращения потребления или поиск альтернативных источников энергии, а контроль над мировым морским энергетическим транзитом. Отправной точкой начала этого процесса может служить подписание декларации «Атлантической хартии» 14 августа 1941 г. между США и Великобританией. Четвёртый пункт хартии предусматривал «стремление обеспечить всем, победителям или побеждённым, свободный доступ на равных основаниях к торговле и источникам сырья, необходимым для экономического процветания этих стран и улучшения условий жизни трудящихся». В условиях войны, которую вела в то время Великобритания с Германией, «тенденция способствовать равному распределению выгод от свободной торговли» ограничивалась американским экономическим превосходством. Таким образом, тезисы, содержащиеся в «Атлантической хартии», могут интерпретироваться как американский проект, состоявший в навязывании британцам - в обмен на необходимую тогда для сопротивления немцам помощь - послевоенного экономического порядка, в котором Великобритания заняла бы место младшего партнёра [57, С.418-427].
Итак, после Второй мировой войны США, благодаря своему военно-морскому превосходству, захватили право контроля морских транспортных перевозок. В области научного осмысления этот факт получил подтверждение в смене геополитической парадигмы с теории «Хартленда» X. Маккин-дера1 на теорию «Римленда» Н. Спайкмана, согласно которой преимущество в мире получает сторона, контролирующая «материковую кайму» - узловые точки побережья мирового океана . Возможно интуитивно, но в том же направлении развивала свою политику и империалистическая Япония. Нападение 7 декабря 1941 г. на Пёрл-Харбор, конечно, не было покушением на американский суверенитет в узком понимании этого термина (Гавайские острова в то время не были ещё территорией США). Японцы рассчитывали захватить ряд «узловых точек» Тихого океана, расположенных, в основном, в западной его части и в центре, с целью обеспечить себе доминирование в Азии. И в первую очередь - поставить под собственный контроль транспортировку нефти Юго-Восточной Азии (Индонезия, Бирма) в Японию. Эти «узловые точки» - Гавайи, Мидуэй, Японские острова, Тайвань, Сингапур, Филиппины, Новая Гвинея, Маршалловы острова - по сути, и являются региональным тихоокеанским «Римлендом», и именно за обладание ими разгорелись основные сражения между Японией и США во Вторую мировою войну.