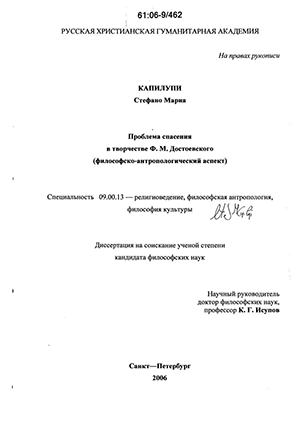Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Религиозная антропология Достоевского в философских } толкованиях творчества писателя (конец XIX-XX-XXI вв.) 11
1.1. Творчество Достоевского в России и Европе (1881-1940 гг.): общая характеристика 15
1.2. Проблемы антроподицеи и спасения в контексте исторической трагедии XX века: философское толкование творчества Достоевского с 1940 г. до наших дней 63
1.3. Ф. М. Достоевский в итальянской философии 75
1.4. Современные лнтературоведческо-фнлософскне толкования творчества Достоевского 85
Глава II. Достоевский о человеке: поиск истины на пересечении веры и разума 87
2.1. Человек и космос на проблемном фоне соотношения веры и разума 88
2.2. «Сейчас и еще нет»: проблема эсхатологии и вопрос о страдании 111
2.3. Альтернатива веры и атеизма: неведомые пути к истине и спасению 118
Глава III. Концепция грехопадения и всеобщего спасения в романе «Братья Карамазовы» 122
3.1. Философско-богословское осмысление поиска истины Достоевским 125
3.2. Любовь как философско-антропологическая проблема 133
3.3. Проблема соотношения Искупления и Творения в религиозной антропологии «Братьев Карамазовых» 139
3.4. Общая и личная солидарность в грехе: антропологический, психологический и философско-богословский аспекты 163
Заключение 187
Библиография 1
- Проблемы антроподицеи и спасения в контексте исторической трагедии XX века: философское толкование творчества Достоевского с 1940 г. до наших дней
- Современные лнтературоведческо-фнлософскне толкования творчества Достоевского
- Альтернатива веры и атеизма: неведомые пути к истине и спасению
- Проблема соотношения Искупления и Творения в религиозной антропологии «Братьев Карамазовых»
Проблемы антроподицеи и спасения в контексте исторической трагедии XX века: философское толкование творчества Достоевского с 1940 г. до наших дней
Именно в этом состоит ценность его христианства, по сравнению с которым светское и либеральное христианство Толстого оказывается ничем, кроме невинной шутки51. Не Толстой, по убеждению Мережковского, а Ницше предназначен быть настоящим собеседником Достоевского. Ницше, который так же, как Толстой, воплотил в своей жизни то, чего он сам боялся, но чего его двойник хотел. Речь идет о плотском и эротическом язычестве Толстого и о христианстве распятия Ницше. Трагедия представляет собой, по Достоевскому, то пространство, в котором жизнь утверждает себя в своих темнейших и жесточайших загадках. Понятие «верности земле» соединяет Зосиму и Макара с Заратустрой и двигается вперед в смысле послехристианского продления языческой классической античности. Однако, по Мережковскому, Достоевский не I додумывает до конца единства противоположностей и их обращение одной в другую, как у Ницше.
В этой точке рассуждений толкование Мережковского встречается с мыслью Шестова. Когда он пытается развивать философию трагедии в смысле синкретической религиозности, «снимающей» язычество и христианство, то фактически он эту трагедию подтверждает и расширяет, -до такой степени, что представляет собой предпосылку, потом забытую, того прорыва мысли Достоевского в сторону европейской философии, в направлении которого трудились такие авторы, как Д. Лукач, подчеркивающие «демонические» потенциалы творчества русского писателя52. Это направление интереса к Достоевскому господствовало в двадцатых и тридцатых годах среди молодых немецких философов. Достоевский присутствует в них не только в статьях или монографиях, к нему непосредственно относящихся, но и в форме значительного (и абсолютного) молчания о нем, обнаруживаемого, в частности, у Хайдеггера, который в первые годы своего преподавания во Фрейбурге многократно читал сочинения Достоевского53 в полном переводе, находящемся тогда в процессе выполнения под опекой Миллера Ван Дэн Брука и под контролем Мережковского54. Хайдеггер даже сам купил эти книги для Фрайбургского университета. Однако в творчестве Хайдеггера от чтения Достоевского не осталось никакого следа.
В Гейдельберг в 1904 году приехал из Петербурга Николай фон Бубнов; в 1908 году из Москвы - Федор Степун и немного позже - Сергей Гессен55. И только намного позже, Гессен в тридцатых годах и Степун - в пятидесятых пишут важные очерки о Достоевском. Однако еще в начале века, и особенно в журнале «Логос» в 1910 году56, поднимается идея о перепрочтении православной мистики в категориях европейской философии.
Д. Лукач в своих неизданных записных тетрадях, относящихся к его молодости57, и Эрнст Блок в очерке «Дух утопии» (1918), увидели в Иване Карамазове апорию и судьбу современной эпохи между метафизикой трагедии и утопией искупления. Бог умирает, но не как понятие, а конкретно, во всем Своем бытии, и, умирая, находит в небытии Свое настоящее бытие и представляет Себя не как Воскресшего, а именно как Мертвого, и Голого, и Бедного, и Который все-таки мучает человечество. По мысли Д. Лукача и Э. Блока, в свете Страшного Суда достойно и праведно быть с Иваном.
В годы после Первой мировой войны, с появлением полных переводов Достоевского - таких, как перевод Миллера Ван Дэн Брука на немецкий язык, - и переводов удачных очерков Шестова и Мережковского, встречаются в Европе высказывания поэтов, ученых и писателей, которые нам уже ничего нового не говорят. Примером может служить книга Э.
Фрейда «Достоевский и отцеубийство» (1927). Достоевский - преступник, Достоевский виновен в изнасиловании, как некоторые его герои, Достоевский - больной игрок. Все нравственное миросозерцание Достоевского связано с его чувством вины из-за осуществившегося желания смерти отца, и невиновный (в этой смерти) Достоевский смиренно принимает каторгу потому, что получает ее от царя, заместителя его отца58. Гораздо более интересной является трактовка Фрейдом феномена эпилепсии Достоевского, но это находится за рамками настоящей работы59.
В 1919 в Берне Г. Гессе издает два эссе, один о романе «Идиот», другой о романе «Братья Карамазовы»60. Гессе пишет их после прочтения первой части книги О. Шпенглера «Закат Европы». Гессе видит, что конец цивилизации нужно рассматривать не в устаревшем понятии позитивизма о цикле или прогрессе истории, но на основе признания эпохальной специфики истории, то есть идеи греческого хаироса, всерешающего момента (хотя и вне христианства). Времени больше не будет (Откр 10, 6), да. Однако не в христианском смысле, а в откровении начала и не-конца, в возвращении к рождению Космоса и в смирении с Хаосом. Мышкин поддается бессознательному, чтобы снова найти возможность творить и оценивать мир. Карамазовы исчерпали себя в форме, в которой можно только умереть, для того, чтобы снова открыть путь к Азии, к источникам, к матерям
Современные лнтературоведческо-фнлософскне толкования творчества Достоевского
На самом деле дьявол есть отрицание, себя отрицающее, и поэтому не может предъявить себя иначе, как паразитом и не может не избрать собственной причиной ничего иного, кроме болезни. Т. Манн делает своим и совет Достоевского о том, что болезнь есть источник жизни, и что нет жизни без болезни. Однако он углубляет эту мысль до следующих слов и вопросов дьявола Леверкюну: «Где здоровье и где болезнь, об этом, мальчик мой, судить не деревенщине ... . Разве тебя не учили в университете, что Бог может обратить зло в добро и что тут нельзя ставить Ему палки в колеса? Item, кому-то, наверно, всегда приходилось быть больным и сумасшедшим, чтобы избавить других от этой необходимости. И когда сумасшествие становится болезнью, определить не так-то легко»154.
Естественно, тезис Ивана был совсем противоположным: если бы было мне доказано, что Бог в итоге превращает зло в благо, я бы этому противостоял, потому что это - абсурдно. Но именно это и происходит в диалоге Адриана Леверкюна с дьяволом. Структура аргументации одна и та же, и Томас Манн ее открывает сразу: необходимо быть с Богом, чтобы самая идея Его оказалась несостоятельной. Необходимо обрести гармоническое состояние, чтобы несогласное смогло получить наконец-то свободный выход и достоинство искусства. Из этого следует: эсхатологическое время, т. е. время, которому только финал дает смысл и направление, поскольку является окончательным запечатлением Бога в мире, превращается в серийное время - всегда открытое и всегда настоящее155.
Однако у Манна нет последнего шага Достоевского: сарказма, с которым сам дьявол говорит о приятии дьявольской точки зрения. С Леверкюном этого не происходит. Ивана трагически вернет к надежде ирония самого дьявола. Когда Томас Манн в дневнике возвращается к проблематике романа, вспомнив свои встречи с Т. Адорно, тогда идея Апокалипсиса, которая в романе «Доктор Фаустус» присутствовала постоянно, интегрирована и растворена в итоге философией истории мифического и циклического развития. Од использовании главы из романа Достоевского ничего не было сказано.
В 1944 г. появился во Франции очерк Генри де Любака, посвященный «Достоевскому-пророку». Де Любак замечает в Достоевском проявление проблематики, ставшей впоследствии главной в современной философии. Достоевский у него не просто пророк революции или судьбы Европы, а, скорее, предчувственник тенденций западной мысли. Очерк включен в том
«Драма атеистического гуманизма» (на французском языке, Париж-, 1950), распространяющийся после войны довольно успешно.
Де Любак приводит пример сравнения между человеком РІЗ подполья и Иваном Карамазовым. Иван - представитель евклидовой мысли, т. е. мысли, которая, полагаясь на свою внутреннюю последовательность и однозначность, считает себя способной победить раскол, которому на самом деле подчинена; Иван на этой мысли колеблется совершенно двусмысленным образом, дойдя до констатирования радикальной абсурдности существования, абсурдного в Боге. Он стоит за хмировое зло во имя конечного смысла существования, т. е. во имя Бога и доходит до утверждения законности манипулирования именем Бога, - при этом неважно, идет ли речь о существовании ущербном или вовсе упраздненном.
Человек из подполья, в свою очередь, - знаменует каприз желания и отказ от «два плюс два - четыре», то есть он мыслит в логике перевертыша определенной возможности в свою противоположную. Но именно тогда, когда он погружается в эту пропасть, он сам открывает, что такая пропасть есть ни что иное, как плен, в котором держит его логика настолько железная, насколько и произвольная. Поэтому Иван Карамазов и человек из подполья лишь условно находятся на разных берегах противостояния; оба наивно полагают возможным что угодно определить в терминах рационализма и иррационализма; на самом деле оба - соучастники общего для них процесса кризиса логики и самосознания.
Делает их такими отдача себя двойственности движения, которое, пока оно разделяет мысль, тут же возвращает ее к самой себе в виде двойственной и фальсифицированной идеи. Верно, что заблуждение и зло есть пучина, нуждающаяся все более и более в темноте и в бездне, чтобы расширяться. Однако именно в отдаче себя болезни мысль (и в этом обнаруживается, по де Любаку, тайное намерение Достоевского) дает проникнуть в себя, в свою собственную антиномичную природу в глубине страдания от другого мира. На взгляд Де Любака, в антиномиях Достоевского происходит нечто подобное тому, что древние восточные отцы Церкви видели в «парадоксах Творения», и описали сравнением с буквами «ламды» греческого алфавита, у которых одна нога оказывается все-таки главнее, и несет другую до общего и высшего соединения 5 .
Репликой в сторону книги Р. Лаута, о которой ниже пойдет наша речь, можно счесть страницы, которые в 1951 году Альбер Камю посвящает Достоевскому, а точнее - Ивану Карамазову (эссе «Человек бунтующий»). Камю ведет с Иваном персональный диалог, делает его союзником своей философии. По Камю, Иван Карамазов торжественно открывает историю современного нигилизма . В отличие от романтиков, которые бунтовали против Бога и своим богохульством Его утвердили ь Его господстве и всемогуществе, Иван полагает над Богом свою справедливость и судит Его. Но, чтобы судить Его, он должен принять Его существование как гипотезу, хотя на самом деле Бог приговорен им к «Ничто» (к Бездне) во имя мировой справедливости. Что такое справедливость? Это бесконечная обиженность, бесконечная диспропорция вины и наказания158, если мы не располагаем ничем, кроме доказательства абсурдности мира и, стало быть, несуществования Бога. Судить Бога, по Ивану Карамазову, значит, полагает Камю, судить мир и приговаривать Бога к «Ничто», т. е. привести к «Ничто» и мир в целом. В Иване Карамазове бунт противостояния Богу выявляет свой нигилистический характер: «Нигилизм - это не только отчаяние и отрицание, но главное - это воля к отрицанию и к отчаянию
Альтернатива веры и атеизма: неведомые пути к истине и спасению
В этом смысле Достоевский и Гегель встречаются в поле апофеоза и гибели негативности; поскольку и «разумность истории» позволительно рассматривать в контексте отрицания241. Так и крест в Божественной жизни, как и грехопадение в жизни человеческой оказываются философски понятными в контексте отрицания. Именно присутствие понятия о грехопадении «оправдывает» по-христиански всякого философа, использующего пантеистические акценты. На самом деле, это наше оправдание Гегеля может быть распространено и на Спинозу. У Спинозы конечное соотнесено с бесконечным всегда через другое конечное, и никогда — прямым образом. В этой надобности конечного относится посредственным, и не прямим образом к бесконечному, обнаруживается присутствие грехопадения как необходимого элемента анализа истории мира242. Апостол Павел сказал: «...пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее» (Рим 4, 17). «Любите грех сам»243, говорит Зосима в отрывке, убранном цензурой. Это было бы возможно, по убеждению итальянского богослова Пьеро Кода, сказать, только если развернуть тринитарную диалектику на уровне не только метафизики, но и логики, следуя, например, за ценными указаниями П. А. Флоренского .
Мы сказали, крест в божественной жизни и грехопадение в человеческой жизни оказываются действительно понятными с философской точки зрения только в контексте отрицания. Можно и нужно к этому добавить, что «философская точка зрения» как раз не самая подходящая к этим случаям. Однако именно потому, повторим, выясняется, что понятие панэнтеизма может опираться на убеждении в истине о «творении из ничего». Написано в книге Бытия: «В начале Бог сотворил небо и землю». Начало (по ивриту «Берешит»), в котором Бог сотворил все — это Его Премудрость и Его Слово (по Евангелию от Иоанна) и Его Сын, то есть Христос, «Им же вся быша», «через Которого все сотворено» (в литургии; см. также: Ин 1, 3; Рим 11, 36). Мы дерзаем сказать, что именно в этом смысле Бог сотворил из ничего, т. е. сотворил в Нем, то есть в Себе, потому что Бог Один и Тринитарный извечно. В Нем - это синоним «из ничего» в смысле апофатического богословия, потому что Он — это действительно «ничто» по сравнению с тем, что сотворено. По учению отцов Церкви Воплощение сделало Бога еще более таинственным для человека245.
Космический Христос, например, у католического богослова Тейяра де Шардена вполне соответствует в этом смысле к Софии отца П. А. Флоренского в сочинении «Столп и утверждение истины». София -совокупность тварей с ее земной стороны; однако она, с ее небесной стороны, есть также другое лицо Сына и другое лицо Святого Духа. Поэтому через «Софию» можно обозначить и Богоматерь, и Церковь, и Человечество, и Христа, в этом ничего страшного или еретического в итоге нет. София это — величайший троп, обозначающий, по словам Сергея Булгакова, ипостасность, то есть образ и начало «личности» в Боге и в человеке .
В набросках к «Дневнику писателя» за 1877 г., т. е. именно тогда, когда дружба с Вл. Соловьевым стала уже весьма значительной для русского романиста, Достоевский пишет: «Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть» (25, 228). Эта «идея» есть «величайшая слава человека», потому что она - великий промысел Божий. Главное убеждение софиологов именно в том, что, - пишет В. В. Бычков , -«до сотворения человека, до возникновения человечества как вершины творения, София не имела реальной возможности полного самоосуществления. Именно в человечестве, в его сакральной сущности и обретает она полноту своего воплощения. София предстает теперь тем тройственным и тем не менее одним богочеловеческим существом, в котором реализуется мистическое единение Человека (= человечества) с Богом .. . . Именно поэтому и веселилась библейская Премудрость, узрев свою грядущую реализацию (Притч 8, 30-31)»249. Понятие энергии Божией
Григория Палама и отношение ноумена и феномена, уточненное Вл. Соловьевым и, за ним, Флоренским250, помогают, на наш взгляд, убедиться в том, что София есть величайший троп богословия и иудео-христианской философии, и не еретическая - с христианской точки зрения - идея о четвертой ипостаси Божьей.
Имманентность Софии связана с имманентностью земной природы. Вернемся в этой связи тогда к проблеме природы у Достоевского. Иван Кологривов говорит в предисловии к «Очеркам о русской святости»: «Бердяев прав, когда говорит, что существует отнюдь не случайная связь между географией души и географией просто ... . Огромные однообразные равнины, безграничные дали, где безмерная бесконечность, сверхъестественность составляют как бы часть каждодневных переживаний, определяют образ этой души и ее духовный склад. Как и просторы ее родной земли, она сама не знает границ. То чувство ясно определенной формы, которым так гордятся и греки, ей чуждо ... . "Мы огромны, - любил повторять Достоевский, - огромны, как матушка Россия" . Это безразличие вовсе не означает, что русский народ менее грешен, чем другие ... .
Проблема соотношения Искупления и Творения в религиозной антропологии «Братьев Карамазовых»
Возвращаясь к проблематике, близкой героям Достоевского, мы можем сказать, что в русской православной традиции в контексте проблематики спасения ярко выражены два понятия: Страшный Суд и общее спасение Вселенной. Оба эти образа сталкиваются друг с другом в совести и в душе русского человека: одновременно присутствуют в ней представление о Страшном Суде и образ Софии как символа внутреннего и видимого преображения цельного Космоса. А такой апокриф, как «Хождение Богородицы по мукам» (пересказанный Достоевским в «Братьях Карамазовых»), показывает потребность простого русского народа в решении религиозной антиномии: вера в бесконечное милосердие Бога и вера в потребность строгого и общего Суда. В апокрифе такого рода есть некий мифический компромисс: попытка снять сходство Страшного Суда и Божьего всепрощения. В басни о «луковке», также пересказанной Достоевским в «Братьях Карамазовых» (устами Грушенки в ее разговоре с Алешею перед Ракитиным), говорится о том, что присутствие в человеческом сердце желания всеобщего спасения может спасти даже проклятого: Бог ищет именно те сердца, что способны молиться за всех.
Сказанное выше о соприсутствии в душе русского народа особого чувства антиномии справедливости и милосердия Божиих сопровождалось особым историко-богословским сочетанием некоторого августинизма и сакраментализма Запада и восточного понятия обожения природы.
Древнее Слово Иллариона «О Законе и Благодати» (1049) представляет собой первый и для истории русской религиозной культуры влиятельный пример, подтверждающий наше суждение. В этом «Слове» главной конечно оказывается отсылка к притче о «работниках в винограднике» (Мф 20, 1-16), которая Иллариону была нужна, чтобы утвердить равенство и даже некое превосходство русского народа («работника последнего часа») относительно других христианских народов. Однако с богословской точки зрения основная точка опоры у него - тезис из Евангелия от Иоанна (хотя и прочитанный в духе самых радикальных утверждений из Послания св. Павла Римлянам): «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин 1, 16-17). Современная экзегетика доказывает, анализируя древнегреческий текст, что речь здесь не идет о том, как благодать заместила закон - это и говорит некое «традиционное» толкование, опираясь, скорее, не на апостола Иоанна, а на учение св. Павла. Вернее, что благодать умножилась благодатью, т. е., что к благодати Закона Божьего добавилась и благодать Боговоплощения. Речь здесь идет также о том, что и Закон, и новый Дух Божий люди получили от полноты единственного Логоса, «Им же вся быша» (по тексту литургии; см. также: Ин 1, 3; Рим 11, 36). Это толкование подтверждается словами Христа из Евангелия от Матфея: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф 5, 17). Воплощение не замещает, а свершает Закон. Антиномия Благодати и Закона, о которой подробно говорил Б. П. Вышеславцев в первом томе книги «Этика преображенного Эроса» (1931) относительно Достоевского и русской мысли, более соответствует не Евангелию, а некому радикальному духу, присутствующего особенно в Послании св. Павла Римлянам в его толковании Августином Блаженным. А контекст замещения Закона Благодатью и есть тот, в русле которого русская мысль могла пройти путь от утверждения Иллариона до пророчества монаха Филофея Псковского, согласно которому «Москва - третий Рим» замещает окончательно и Рим, и Константинополь. Русский православный панславизм односторонне толковал и толкует в свою пользу слова Рїллариона и Филофея. Однако, по нашему мнению, «русская идея», которую Соловьев предвидел принесенной русским народом в Страшный Суд народов как самооправдание и его неповторимый вклад в человеческое сознание, это, скорее, не мечта о религиозно-политической мировой гегемонии, а факт того особого, даже антиномичного восприятия всеобщего спасения, о котором говорили Достоевский, сам Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков и другие.
Как известно, из той посылки, что все — наследники спасения, для православного (и католического) учения не следует того логического вывода, что все действительно спасутся. С. Булгаков в этой связи заново обсуждает доктрину Оригена об апокатастасисе («Свет невечерний», 1917; трилогия о «Богочеловечестве»). Могут и все действительно погибнуть. Однако, идея "апокатастасиса" Оригена была осуждена как ересь только потому, что Ориген выразил её как нечто уже решённое и предопределённое; иными словами, как судьбу; и всё же эта мысль ортодоксально осталась в сердце Церкви (и православной, и католической) в форме молитвы и надежды. Григорий Нисский, вслед за Оригеном, верил во всеобщее спасение. Григорий в апокатастасисе видит завершение незавершившегося, восполнение недополненного, а не простое возвращение к первоначальному состоянию, как у Оригена.
Известны (как уже было сказано выше) симпатии Достоевского к философии Фёдорова. Стремление к будущему совершенствованию человечества, столь важное в идеологии социализма, совпадает с обещанием Откровения Иоанна о том, что будут новые земли и новые небеса и смерти не будет уже (Откр 21, 4). Со времён воскресения Христова люди живут в антиномично устроенном мире, в неразрешимом противоречии: с одной стороны, Царствие Божие уже есть, с другой - его ещё нет: иногда Иисус говорил о скором свершении предсказаний Божьих, а иногда Он отсылал людей ко временам далеким и неизвестным.