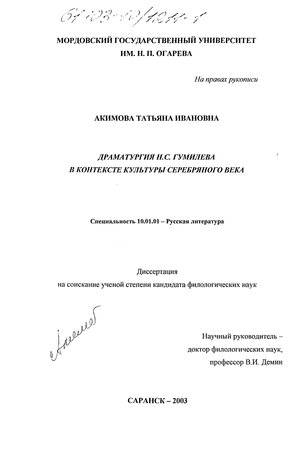Содержание к диссертации
Введение
1. Истоки формирования авторской маски Н.С. Гумилева
1.1. «Жизнетворчество» Вяч. Иванова и акмеистическая поэтика Н. Гумилева . 31
1.2. «Путь» В. Брюсова в представлении Н.С. Гумилева . 46
1.3.«Маска» А. Блока в художественном сознании поэта-акмеиста 56
2. Стилизация и пародия как проявление театрального сознания Н.С. Гумилева
2.1. Реминисценции символистов (В. Соловьева, В. Брюсова, Ин. Анненского) в поэтическом театре Н.С. Гумилева . 67
2.2. Пушкинские реминисценции в драматических произведениях Н.С. Гумилева . 82
2.3. Мифологические образы в драматургии поэта-акмеиста . 97
3. Жанровые особенности драматических произведений Н.С. Гумилева
3.1. Функция хронотопа в драматургии поэта 112
3.2. Система персонажей в пьесах поэта-акмеиста . 128
3.3. Специфика функционирования речевых жанров в драматургии Н.С. Гумилева . 142
Заключение . 159
Список использованных источников
- «Жизнетворчество» Вяч. Иванова и акмеистическая поэтика Н. Гумилева
- «Путь» В. Брюсова в представлении Н.С. Гумилева
- Реминисценции символистов (В. Соловьева, В. Брюсова, Ин. Анненского) в поэтическом театре Н.С. Гумилева
- Функция хронотопа в драматургии поэта
Введение к работе
Драматургия Н.С. Гумилева исключительна с точки зрения «погранично-сти» ее с различными культурными феноменами серебряного века. Прежде всего, любая пьеса ориентирована на театр, где она реализуется в своей исконной цели - разыгрывается на сцене актерами. Драматические произведения Гумилева не столько направлены на театр, который к тому времени не имел четких ориентиров, сколько восходят к нему в своих истоках, рождаются из театральной атмосферы серебряного века. Новое искусство - модернизм - утверждало необходимость привлечения художником изобразительно-выразительных средств иных искусств к передаче творческих импульсов личности
«Человек творящий» мог бы быть провозглашен той новой ступенью в развитии человеческой цивилизации, на которую вступило российское общество в конце XIX - начале XX века. Эти импульсы будут отражены в драматургии Н. Гумилева, представлявшей собой яркий образец модернистского искусства. Отражается в ней и новая религиозная философия серебряного века - проблемы духа, души, тела; проблема самоопределения личности и проблема познания собственного сознания - саморефлексия. Все вместе: театрализованный быт писателей рубежа веков, направленность на синтез в модернистском искусстве и установка на познание самого себя - создавало предпосылку для представления на суд читательской аудитории нового жанрового образования - поэтического театра серебряного века.
Драматургия составляет самый неизученный пласт из всего поэтического наследия Н. Гумилева. Это вызвано различными причинами. Во-первых, отсутствием драматических произведений во всем объеме (о таких пьесах, как «Завоевание Мексики», «Жизнь Будды», «Пир Гарун-Аль-Рашида» и «Красота Морни» имеется упоминание самого автора или сохранились только отрывки и фрагменты). Во-вторых, затруднением в хронологии дошедших до нас пьес: например, не существует единого мнения по поводу времени написания драматических произведения «Гондла» и «Дитя Аллаха». В трехтомном издании про-
изведений Н. Гумилева под редакцией Н. Богомолова (1991) вначале дается пьеса «Дитя Аллаха», а затем - «Гондла» [71]. В сборнике серии «Библиотека русской драматургии», составленном Д.И. Золотницким (1990) [62], драматическая поэма «Гондла» поставлена перед арабской сказкой «Дитя Аллаха». Эта хронология восходит к четырехтомному собранию сочинений Н. Гумилева, под редакцией Б.А. Филиппова и Г.П. Струве [66]. Однако в нем драматическая сцена «Игра» следует после «Актеона» и отсутствует двухактная пьеса «Охота на носорога», найденная только в 1987 году, как сообщает М.Д. Эльзон. Еще меньше пьес вошло в трехтомное собрание сочинений, составленное И.А. Панкеевым [70] (2000).
В-третьих, недостаток внимания к драматургии Н. Гумилева со стороны профессионального театра не позволяет исследовать поэтический театр во всей его глубине. Заметим, что «Театральную мастерскую» поэт пригласил в столицу сам, много работал для секции исторических картин, задуманной М. Горьким, желая видеть свои ранние и поздние произведения на сцене.
В исследовании мы опирались в основном на сборник Д.И. Золотницкого, так как именно это издание позволяет говорить о театре поэта как о самоценном явлении. Богатый комментарий, составленный М. Эльзоном и Д. Золотницким, позволяет представить театральную жизнь пьес в кратких отзывах рецензентов и мемуаристов. Материалом для нашего исследования стали пьесы: «Дон Жуан в Египте», «Игра», «Актеон», «Гондла», «Дитя Аллаха», «Отравленная туника», «Дерево превращений», «Охота на носорога».
Исследование драматургии поэта ограничивается вступительным очерком В. Сечкарева [176] к четырехтомному изданию собрания сочинений Н. Гумилева (1962), вступительной статьей Д.И. Золотницкого (1990), статьями Н. Велеховой [43] и Н. Бондаренко [33,34] к публикации драматических произведений поэта в журнале «Театр». Упоминание о драматургии содержится в очерках о творчестве Гумилева (И.Н. Голенищева-Кутузова [57], Н. Оцупа [155], Ю. Верховского [45]) и в современных критических отзывах В. Гольцева [59], А. Мандельштама [130]. Так, В. Гольцев отмечает: «Пьесы Гумилева - это
короткие театрализованные эссе в стихах. В них много блестящей выдумки, изобретательности, фантастики. Их фабулы напряжены, драматичны, подчас трагичны. При этом они совершенно лишены житейской конкретики. В них действует всегда один главный герой. Этот герой - сам автор, с его болями, страданиями, с космическими увлечениями. Они трудны для постановки и рассчитаны на избранный круг зрителей» [59; 179]. Это высказывание - типичный пример того смешения образа автора и героя, которое наблюдается в читательском сознании большинства поклонников поэзии Гумилева.
А. Мандельштам обращает внимание на декоративный фон пьес поэта: «Характерной особенностью гумилевской драматургии следует считать некоторую условность персонажей, вымышленность, несмотря на внешнее правдоподобие (хотя и места действия обозначаются достаточно конкретно - Ирландия, Египет, Греция), то есть некоторая схематичность действия, в котором герои и действие служат инструментами для выражения определенных поэтических идей» [130;111]. Исследователь отделяет драматургию Гумилева от классической драматургии XIX века, видя особенность пьес поэта в отсутствии личностного начала: «В этом театре действуют не личности, помещенные в конкретном пространстве, что свойственно классической драматургии XIX-XX вв., а лирические идеи - которые обретают, благодаря приемам сценического действия, возможность обрести каждая свой голос и повести между собой диалог» [130;1И].
Большой вклад в исследование драматических произведений Н. Гумилева был сделан Ю.В. Бабичевой в ее статьях, посвященных жанровым особенностям пьес поэта: «Драматические миниатюры Николая Гумилева» [11], «Драматические сказки Николая Гумилева («Дитя Аллаха», «Дерево превращений»)» [12], «Исторические драмы Н.С. Гумилева («Гондла» и «Отравленная туника»)» [13], «Вариации на тему Пушкина (Из истории поэтического театра Серебряного века)» [10].
Акцент, который ставит Бабичева, провозглашая поэтический театр Гумилева - это формальные признаки лирики: «стихотворные размеры и ритмы».
Именно они, по мнению исследователя, составляют «драматургию стиха». Однако данное суждение, распространенное на всю русскую поэзию, позволит очень широко очертить такое явление, как поэтический театр. В него войдет почти вся русская лирика конца XIX - начала XX века, напряженная и драматичная по авторской эмоциональной выразительности. Тем не менее, драматургия стиха еще не позволяет говорить о драматургии как сценическом явлении.
Обращение Гумилева к сцене не было данью моде или потребностью исключительно эгоцентричной - утвердить себя в качестве драматурга. Интерес к театру возникал из естественной потребности поиска адекватного выражения тех противоречий, которые ощущались писателем рубежа веков: своеобразной игрой, примериванием социальных ролей-масок и мучительным поиском себя, своего места в новом обществе - рефлексией, осознанием биографического и творческого пути.
Ю.В. Бабичева выделяет среди сохранившихся оригинальных драм Гумилева три группы пьес:
лирические миниатюры («Дон-Жуан в Египте», «Актеон», «Игра»);
восточные пьесы-сказки для детского или кукольного театра («Дитя Аллаха» и «Дерево превращений»);
3) «исторические» драмы («Гондла», «Отравленная туника» и «Охота на
носорога»).
Выделением трех жанровых групп Ю.В. Бабичева подчеркивает эволюционных характер творчества Гумилева, достижение им исторической глубины в своих пьесах.
В статье, посвященной анализу первой группы- драматических миниатюр - исследователь отмечает, что каждое драматическое произведение Гумилева -«не просто драма, а лирическая драма в стихах», и поясняет: «в самом стихе, в его размере и ритме искал поэт-драматург средство построение драматического конфликта и образа» [11;124]. По нашему мнению, средство построения драматического конфликта и образа Гумилев отнюдь не изобретает и не ищет, а умело пользуется старым практическим способом - мифологическим сюжетом, ко-
торый во многом и объясняет его «характерологию» или «драматургию стиха». Разные размеры и ритмы, в нашем понимании, служат Гумилеву для выделения персонажей и подчеркивания их индивидуальности, но не для создания конфликтов или характеров, которых в поэтическом театре быть не может, по причине того, что все они - маски с заданным стереотипом поведения. Тем не менее, нельзя не согласиться с исследователем в том выводе, который автор рассматриваемой статьи делает после анализа драматической сцены «Игра». «Исторические факты в пьесе «Игра», - по мнению Бабичевой, - не более чем декорации вечной драмы раздвоения человеческого духа на рациональную (прагматическую) и эмоциональную (мечтательную) сферы. Это драматизированная лирическая исповедь, оформленный по законам драмы акт самосознания» [11;129-130].
В следующей статье, посвященной анализу второй группы драматических произведений, автор высказывает ценное замечание о направленности Гумилева на реконструкцию средневековых жанровых форм: «Гумилев-драматург войдет в историю драмы как формальный экспериментатор, собиратель и обновитель жанровых форм, он был еще и создателем (или реконструктором) тех, которые оказались вовсе пропущенными историей отечественной драмы, например, средневековой дидактической драмы (у него это - драма-сага)» [52].
Собственно драмой-сагой можно назвать только одну пьесу - «Гондла». Тем не менее, жанры средневекового театра (мистерия и комедия дель арте) привлекали внимание не только Гумилева, довольно часто структуры средневекового театра вплетались в жанровую основу модернистских пьес.
Общим методом художника-модерниста была стилизация, на что указывает, например, Ан. Чжиен, рассматривая пьесы К.М. Миклашевского в контексте общей культурной ситуации того времени: «Публикуемые ниже две пьесы Миклашевского («Четыре сердцееда» (1919) и «Последний буржуй, или музей старого строя» (1920)), заслуживают особого внимания прежде всего тем, что в них интересным образом преломились театральные искания начала века, выраженные в «стилизации» - одном из самых характерных художественных
средств драматургии и театра того периода. Как известно, возрождение народного театра масок, Commedia dell' arte в особенности, в драматургии и на театральных подмостках начала XX века в своей основе органически связано с антиреалистической тенденцией модернизма в целом» [202; 115]. Эта стилизаторская установка модернистов сопрягалась с игрой реминисценциями в литературе, ретроспекцией в архитектуре. Так, Г.К. Стернин отмечает: «Открытое «цитирование» образцов включалось здесь в сознательный творческий принцип, расширяющий диапазон историко-культурных и социально-бытовых ассоциаций за пределы тех, которые могли внушаться чисто стилевой ретроспекцией» [181;178].
Стилизаторская установка тесно связана с изучением культурного наследия прошлого. Оно проявлялось на уровне реминисценций с одной стороны, и мифологических представлений разных народов - с другой. Реминисценции создавали основание для стилевой игры автора в результате освоения индивидуальных особенностей творческой манеры писателей предшествующих веков, а миф давал возможность познания культурной парадигмы в ее целостности, как образ культуры прошлых столетий. Таким образом, именно в стилизации и пародии сочетались игра как принцип стиля и рефлексия как свойство сознания. Взаимосвязь этих принципов в сознании писателя начала века дает возможность называть поэтическое сознание театральным.
Уровень стилизации выделяется Бабичевой только в «Гондле»: «Гондла -реконструкция давно утраченного искусства театрализованного рассказывания с его ярко выраженным пафосом высокого назидания, пророчества, с повествовательными ретроспективами и волшебно-фантастическими вставками, приоткрывающими мир личности рассказчика (рассказчиков) [13;259].
«Отравленная туника» определяется исследователем как историческая, злободневная, политическая и лиро-исповедальная. Однако ни одно из этих определений не передает истинной сущности жанра. Историческим фоном «Отравленной туники» служит только указание места и времени действия - Визан-
тая, VI век. Реальные исторические лица - Юстиниан, Феодора, Имр эль Кайс -выступают в совершенно преображенном виде.
Образ Феодоры гораздо ближе к образу Евдокии комедии М. Кузьмина «Евдокия из Гелиополя, или обращенная куртизанка», чем к реальному историческому лицу, хотя некоторые черты царицы Гумилев сохраняет («Действительно, в молодости была бродячей танцовщицей и куртизанкой» [71;413]). Все же, образ царицы был иным («Выйдя замуж за императора, стала ему надежной опорой, ей он обязан сохранением короны» [71;413]) - благочестивым и праведным, доказательством чему служит изображение ее вместе с мужем на стене Храма св. Виталия [117].
Биография арабского поэта, согласно концепции Р. Щербакова, подается Гумилевым через поэзию, образ Имр эль Каиса воссоздается с опорой на легенды и предания. «Вокруг имени зачинателя арабской поэзии Имр эль Каиса (ок. 500-540 гг.) сложилось множество разных легенд, порой весьма противоречивых. Оспаривается даже его авторство некоторых касыд, переведенных на многие языки, в том числе и на русский, открывших «муаллак» - произведения семи крупнейших доисламских поэтов. Стихи эти, несомненно, были известны Гумилеву, так как целый ряд деталей из рассказа Имра о его любовном приключении (цветная ткань, которой заметают следы, запах мускуса в постели и др.) взяты оттуда» [71;412].
С.Л. Слободнюк, сопоставляя монолог Имра со стихотворением Имра эль Каиса, приходит к выводу, что он есть перевод последнего. Таким образом «история» воссоздается Гумилевым с помощью реконструкции не исторического события или характера, но самой поэзии, передачей «слова» поэта того времени. Этот процесс является следствием эстетического восприятия истории художниками рубежа веков [96], поэтому даже в пьесах Д.С. Мережковского, более склонного к воспроизведению исторических коллизий и изображения исторических личностей, историческое восприятие уступает эстетическому: «Мировую историю Мережковский осознавал в эстетических и религиозных категориях» [6;62].
Злободневно-политической трагедию «Отравленная туника» назвать трудно. Признавая глубинный подтекст пьесы Гумилева, включение в ее ассоциативный ряд русской истории, русского царя, должны заметить, что цели поэта-акмеиста были иными - передать трагическое восприятие жизни героем, утрату им надежды и мечты. Тем не менее, определение «лиро-исповедальная трагедия» также не точно. Гумилеву удалось снять маску с одного героя жанра трагедии, однако все остальные персонажи так и остались исполнителями ролей, масками по своей сути. И трагедия состояла в том, что в этой пьесе роль поэта стала только маской - сложившимся стереотипом поведения. Лирическое «Я» поэта объективизируется еще в лирике Гумилева, в драматургии же процесс объективизации героя усугубляется законами сцены - пространственно-временным отдалением автора от момента спектакля, отстранением его от созданного героя.
Таким образом, подход Ю.В. Бабичевой к изучению драматургии Н.С. Гумилева через лиро-драматические черты, родовые признаки жанра, не в полной мере отвечает существующим реалиям. Наиболее перспективным представляется исследование драматических произведений Гумилева в контексте той культурной ситуации, которая определила во многом художественное сознание поэта и оказала влияние на становление его жанрового видения - так называемое театральное сознание. Основанием для формирования театрального сознания следует назвать неустойчивую, подвижную авторскую позицию по отношению к окружающему миру, восприятию его художником с разных точек зрения - сквозь призму игры и оценку собственного восприятия через театральные категории, режиссерские приемы и актерское поведение.
Излюбленный прием режиссеров модернистского театра - стилизация и пародия, который давал возможность представлять авторскую концепцию на фоне повторения уже существовавших моделей театра. Перенесение этих приемов в художественное творчество позволяло формировать особый творческий метод, в котором установка на познание через игру, являлась платформой для ведения культурного диалога писателя начала XX века с читателем через
ассоциации и реминисценции. Именно театру принадлежала роль средоточия творческих исканий и проявления художественных возможностей писателей рубежа веков.
Театр конца XIX - начала XX века занимает особое место в культуре серебряного века, «тотальное, всепроницающее положение», как заявляет об этом А.В. Вислова, обозначившая впервые проблему театральности серебряного века [48;28]. Именно театру отводится роль культурного центра, места сосредоточений духовных исканий, экспериментов во всех областях искусства. И именно в эту эпоху театр становится важным элементом познания, переходит в сферу научного мироописания и получает качественно новый критерий оценки человеческих взаимоотношений (автор - герой) и рефлексии («Я» - «Другой», по терминологии М.М. Бахтина).
Российская культура пережила высочайший подъем, вызванный разрушением прежних стереотипов мышления и поведения, стиранием существовавших границ между различными слоями населения. Массовая культура и культура элитарная испытывали огромные импульсы притяжения-отталкивания. Процессы, происходившие в российском обществе, накладывали отпечаток на существование искусств, но отражались, прежде всего, в театре.
Хаотические процессы затрагивали любую сферу искусства, в том числе, литературу. Выход из хаоса виделся писателями серебряного века по-разному. Но всех объединяла тяга к теоретизированию и философской рефлексии, которая была сопряжена с эстетическим мировосприятием. Так, привычное течение историко-литературного процесса, запечатлевавшего смену вспышки в искусстве научным описанием ее, в начале XX века разбивалось на два параллельных процесса и рождало теоретизирование особого рода, несущего в себе отпечаток творческой памяти.
Для культуры этого времени весьма показательны процессы, происходящие в театре. Отмена монополии императорских театров в 1882 году создала благоприятную атмосферу для становления частных театров, которые к 1900-1910-х гг. составили мощную конкуренцию первенствующим до этого театрам
столицы (Александрийскому, Мариинскому оперы и балета, Михайловскому). Среди частных театров Петербурга следует назвать Суворинский театр, Театр В.Ф. Комиссаржевской, Новый театр Л.Б. Яворской, Новый драматический театр под художественным руководством Л.Н. Андреева, Старинный театр. Большой интерес у публики в 1910 гг. вызывали театры миниатюр, особенность которых состояла в том, что «они соединяли в своем репертуаре все театральные жанры и концертные номера» [160; 168].
Общий интерес к театру был громадным: «играть «на театре» хотели все, включая великих князей» [147;223]. И.А. Муравьева объясняет это явление двумя причинами: во-первых, естественной потребностью человека в игре, зрелище, «возможностью ухода в другой, иллюзорный мир»; во-вторых, связывает увлечение театром «с обострением личностного начала, с освобождением от общепринятых законов» [147;223]. Склонность к игре и театральным эффектам в речи и поведении проявлялась и в частной жизни, вскрывая существование писателей начала XX века, обозначая его «богемность».
Театральный быт эпохи серебряного века отразился в многочисленных мемуарах представителей первой волны русской эмиграции. В воспоминаниях И. Одоевцевой [153], Г. Иванова [93], Н. Берберовой [27], В. Ходасевича [198], Г. Адамовича [2], А. Белого [25], Л. Ивановой [94], В. Пяста [163] С. Маковского [126], достаточно ярко передается атмосфера собраний «на башне» Вяч. Иванова, кружка «аргонавтов» А. Белого, «Бродячей собаки» Б. Пронина [138,158,161] и «Цеха поэтов» Н. Гумилева.
Обострение личностного начала означает, прежде всего, рост самосознания и самопознания в человеке. В начале XX века резко актуализируется проблема жизненного и творческого пути - «как становления личности по этапам ее внутреннего созревания» [81;25]. Поэтому категория пути определяет сознание писателя серебряного века, которое осмысляют мир в единстве с собой, в его взаимосвязи «Я» и «Другого».
На мировоззрение художников XX века оказывали большое влияние две философские системы: Ф. Ницше и В. Соловьева [171]. Эстетика В. Соловьева
«положила начало общественному движению, сложившемуся в России на рубеже XIX-XX вв. и направленному на преобразование общества исключительно средствами культуры и искусства, то есть путем духовного самосовершенствования» [123; 82].
Восприятие философии Ницше проходило через освобождение от мещанских форм существования, через моду на артистическое поведение, которое и представлялось как свободное от моральных норм и запретов, с одной стороны, с другой - как отнесенное к искусству, театру. Актерство становилось нормой поведения художника применительно к любому искусству [104]. Между тем число моделей поведения (образцов театральности) в театре увеличивалось, расширяя горизонты культурных связей.
В начале XX века российский зритель смог познакомиться с особенностями восточного театра в лице двух актрис, представивших разные театральные традиции: Сада-Якко (1902) и Оота Ганако (1909), «русское сознание начала века являло собой пеструю и многослойную панораму, соединявшую точное знание о Востоке с открытостью к современным интерпретациям учений восточных мудрецов» [169;28]. Поворот к ориентализму в русской культуре происходил не без влияния идей немецкого философа.
Синтез восточного и западного театров отразился в философской концепции Ф. Ницше, получившей большое распространение в России («вечное возвращение», «сверхчеловек») [77]. Именно театр становится в теории Ницше основой для утверждения главенствующей роли искусства. Ницше заявлял, что «только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности» [152;95].
По определению немецкого философа, эстетический феномен прост, «надо только иметь способность постоянно видеть перед собой живую игру и жить непрестанно окруженным толпою духов - при этом условии будешь поэтом; стоит только почувствовать стремление превращаться в различные образы и говорить из других душ и тел - и будешь драматургом» [152;162]. Следует обратить внимание на разделение сущности писателя на поэта и драматурга, причем
второй явно занимает более высокое место по сравнению с первым на пути к самосовершенствованию.
Эстетический идеал Ницше облекался в контуры античной культуры (эл-линство, Дионис). Для отечественной религиозно-философской мысли таким идеалом стали образы Средневековья (Вечная Женственность, София, Христос, Адам). Поэтому игровая теория искусства в работах отечественных мыслителей и художников строилась на фундаменте средневекового театра с его включением в свою модель образа всей Вселенной. Своеобразный след этого можно найти в высказываниях М.М. Бахтина.
Ученый так описывает устройство мистерийной сцены: «Сцена эта отражала средневековые представления об иерархической организации мирового пространства. Последний план сцены занимала особая конструкция, род площадки, служившая первым этажом сцены. Самая площадка эта обозначала землю. Задний план сцены занимал, на некотором возвышении, рай, небо. <...> Под площадкой же, изображавшей землю, находилось углубление ада» [20;385].
Эта трехмерность (прошлое, настоящее и будущее) и трехмирность (земля, ад, небо) становятся элементами авторского видения, переходят в план изображения. Мы можем назвать это видение многоуровневым, так как понимать голоса всех участников можно, находясь только за пределами изображаемого действия, вставая на позицию Создателя. В XX веке изучение писателями собственной позиции в акте творчества становится моментом эстетической рефлексии. По мнению М.М. Бахтина, позиция вненаходимости уравнивает автора, режиссера, актера в едином акте творения.
К созданию такого всеохватывающего действа и стремились русские режиссеры. В частности, идея средневекового театра увлекала Н.Н. Евреинова. Он разрабатывал концепцию театра «как самодовлеющей деятельности, во-первых, свободной от связей с внешним миром и, во-вторых, обладающей властью над действительностью. Если вся реальная действительность пронизана театральностью, то режиссер предстает как некий дирижер, способный превра-
тить в единый ансамбль бесконечное количество актеров, из которых состоит общество» [1;399]. Это представление Н. Евреинова о социальной роли как актерской, сформированное в сознании режиссера под воздействием работ Ф. Ницше, имело большое значение для многих художественных систем, в том числе и акмеистской Н. Гумилева.
«Театрализации жизни» Н. Евреинова противостоял условный театр Вс. Мейерхольда. Его спектакли «развертываются то как театр на площади, то в пышном бальном зале, то в кукольном балагане. Условность обстановки требовала от актеров не перевоплощения «по Станиславскому», а «игры в театр», лицедейства, импровизации» [165;45].
Подобное «ролевое» видение переходит в область литературы, обозначаясь как полифоническое [174]. Оно вбирает в себя, помимо западной образности, восточную, характеризуя многостороннюю направленность авторского сознания. Особенность проявления ориентализма в русском литературном процессе 1910-х гг. заключалась в том, что «в творчестве модернистов произошла существенная трансформация самой сути таджикско-персидской поэзии. Гедонистическое приятие жизни, поэтическое созерцание, которое обожествляет и любовь, и красоту, и человека, превратилось в карнавальную маску, театральную декорацию, застывшую картинку» [172;9]. «Ролевое» авторское видение отражалось и на восприятии другой, «чужой» культуры, наиболее ярко - восточной, противостоящей западной в российском общественном сознании. Однако в качестве «чужой» культуры (здесь важнее подчеркнуть слово культура) в сознании писателей серебряного века стал восприниматься народный театр, который уже не противопоставлялся «элитному», камерному. Народный театр осознавался в новой эстетической функции: «ярмарка, балаган, становясь предметом не только научного внимания, но и художественного переживания, вызывали сдвиги в мире эстетических норм и меняли социальную ориентацию культуры» [119;9].
Отношение к «чужой» для светского театра народной культуре становится игровым, подобно игрушке в фольклоре, когда произведение искусства ви-
дится не с высоты создателя, а трогается, вертится, переворачивается - с позиции пользователя. Маски, марионетки, куклы «начинают восприниматься как идеальное средство для выполнения целей искусства, (они принадлежат к разным мирам и могут легко переходить из одного в другой)» [53;68]. Игровая основа искусства боле всего проявляется в стилизации и пародии как творческом методе, наиболее приближенном к театру.
Вопрос о стилизации и пародии является естественным в «эстетическом артефакте», как обозначил К.Г. Исупов науку, искусственно созданную в художественных произведениях писателей серебряного века. Всеохватываемость авторского видения доказывалось обращением художников к темам, актуальным для разных научных дисциплин. Однако разрабатывались они с помощью метода, обозначенного в народном театре, - импровизационной игры. Первейшим строительным материалом для театрального представления становится слово, когда автор использует «чужое слово для своих целей и тем путем, что он вкладывает новую смысловую направленность в слово, уже имеющее свою собственную направленность и сохраняющее ее» [9;218].
Как творческий метод (способ познания «Я» и «Другого через творчество») стилизация и пародия возникают на основе четкого отделения «своего» сознания от «чужого». Это дает возможность своеобразного совмещения двух планов сознания. Во-первых, взгляд на сценическое действо с позиций «чужого», «другого» - представляет перспективу «целого» представления в его пространственно-временной очерченности. Во-вторых, второй план - взгляд через «Я» на себя самого в этом действе, и как результат - встраивание этого представления в «роли» каждого действующего лица.
Такая «пограничность» сознания, почти одновременное нахождение его то на позиции «Я», то на позиции «Другого» создавало разнообразные сцениче-ско-драматические эффекты. И именно сценическое видение режиссера во многом обусловило особенности развития и специфику не только драматургии начала XX века, но и самой жизни. Так, «общественная мысль в XX веке сама активно занялась разработкой все новых и новых собственно «драматических»
концепций. А те, кто их генерировал, становились своеобразными режиссерами-вождями и диктаторами в жизни» [49;174], - полагает А.В. Вислова. Поэтому не случайно внимание к театру в печати. Театр свойственным ему языком отражал те сложнейшие социокультурные изменения, которые переживало русское общество на рубеже веков и эпох.
Обсуждение вопросов нового театра в печати проходило в несколько этапов. Одним из первых, выступивших за утверждение «условного искусства» на российской сцене, стал В.Я. Брюсов (1902): «Не только театральное, но и никакое другое искусство не может избегнуть условности формы, не может превратиться в воссоздание действительности» [38;70]. За ним последовали многочисленные выступления в печати деятелей искусств по преобразованию театра. («Книга о новом театре» (1908); «В спорах о театре» (1914)). В статьях поэтов предметом споров оказывался выбор главенства автора, актера, режиссера в творческом процессе.
Расхождение позиций наглядно демонстрировало стремление художника начала XX века познать свое «Я». Для этого предполагалось разделить в себе «Я» и «Другого» и встать на границе разделения (согласно концепции М.М. Бахтина). Писатели серебряного века постигали собственное «Я» через «проблему двойничества» - отчуждения от каких-либо черт своей личности, кажущихся чужими. В театральной культуре символом чужого, незнакомого становится маска, но, тем не менее, она связана со своим «Я» единым основанием - праздником, спектаклем, бытом и т.д. Игра давала возможность приобщения к чужой культуре и чужому сознанию. И в результате «чуждость» приобретает черты «другости». Это происходит не только в силу разделения - феноменологических методов познания человека и мира, но и нахождения единства, восстановления связей и отношений, диалогического способа познания, которое рождалось в художественном творчестве.
«Я» и «Другой» создают, таким образом, основу театрального сознания, воспринимающего и описывающего жизнь через условные категории, такие, как путь, маска, жизнетворчество. Они, в свою очередь, требуют отражения в
творчестве через «условные» приемы - стилизацию и пародию. Так, собственно, и возникает театр - вторичный мир, рожденный по образу первого. Для создания этого мира необходим образ «другого». Этот «другой» в сознании писателей серебряного века - образ эстетический, созданный волей художника.
М.М. Бахтин так описывает процесс рождения «другого», который станет воплощением образа: «художественный образ героя творится актером перед зеркалом, на основании собственного внешнего опыта; сюда относится грим <...>, костюм, то есть создание пластически-живописного ценностного образа, манеры, оформление различных движений и положений тела по отношению к другим предметам, к фону, обработка голоса, извне оцениваемого, наконец, создание характера <...>- и все это в связи с художественным целым пьесы (а не события жизни); здесь актер - художник» [16;101-102].
Перечисленные процессы, характерные для того времени и отражающиеся в сознании художников: эстетизм, имморализм, артистизм Ф. Ницше, религиозная философия В. Соловьева, расширение культурного диалога, включающего в себя ориентализм в литературе 1910-х гг., обращение к народной, массовой культуре и возрастание ее роли в сознании русской интеллигенции, эстетическое восприятие русской истории и расширяющееся значение театра в культурной жизни того времени - все это не могло не привести к возникновению новых жанровых образований, в которых ведущее место отводится писателю, собственно авторскому способу моделирования художественного мира, где совмещаются различные канонические жанры. Безусловно, герой приобретает в художественном сознании писателя биографические черты как результат тех методов познания, с помощью которых оценивается связь между писательским «Я» и остальным миром. Более детально процессы, происходящие в сознании, исследуются М.М. Бахтиным.
Сходные процессы происходят во время «творения» собственной биографии: «Автор биографии - это тот возможный другой, которым мы легче всего бываем одержимы в жизни» [16;173]. Возможный другой, в представлении Бахтина, входит в наше сознание и руководит нашими поступками, оценками и ви-
дением себя самого. Этот другой, считает Бахтин, «может, однако, стать двойником-самозванцем, если дать ему волю и потерпеть неудачу, но с которым зато можно непосредственно - наивно, бурно и радостно прожить жизнь (правда, он же и отдает во власть року, одержимая жизнь всегда может стать роковою жизнью)» [16; 173].
«Жизнетворчество» и творение произведения искусства происходят по одним и тем же законам. И в первом, и во втором случае необходим образ «другого» в сознании художника. Маска при этом предлагалась как уже заданный стереотип поведения. В свою очередь, процесс создания маски предполагает несколько этапов, которые в театральном сознании осмысливаются как «путь». «Путь» и «маска» - явления одного порядка, обозначение общего понятия «жизнетворчества». Оба они восходят к образу средневекового театра. Первый - к жанру мистерии, в котором разыгрывался путь Христа, второй - к жанру фарса с его пародией на первый жанр и ношением масок.
Именно такой подход отразился в философии Ницше. Маски в рассуждениях Ницше - это последняя ступень в развитии характеров. Первая ступень связана с мифом и, непосредственно, с дионисийским началом. Вторая ступень - разработка характеров в духе трагедии Софокла, отличающаяся утонченностью психологизма и преобладанием личностного начала. Третья ступень воссоздает аттическую комедию, в которой «остаются только маски с одним определенным выражением: легкомысленный старик, обманутый сводник, лукавые рабы - все это неутомимо повторяется» [152; 162].
«Новые маски», о которых говорит Вяч. Иванов, - это попытка переосмысления ницшеанских идей на почве русской религиозной мысли. Вяч. Иванова интересует «чистое», освобожденное от иллюзионизма современности, восприятие. Историческую задачу «искателя» новых форм искусства он видит в том, чтобы «сковать звено, посредствующее между «Поэтом» и «Чернью» и соединить толпу и отлученного от нее внутреннею необходимостью художника в одном совместном праздновании и служении» [92;433]. Только в
этом случае преодолим «собственный внутренний двойник», который являет собой современная маска - «эта духовная, безликая личина» [92;435].
В работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» М.М. Бахтин предлагает собственную концепцию маски. Маска описывается как разновидность гротеска, «сложнейший и многозначнейший мотив народной культуры»: «Маска связана с радостью смен и перевоплощений, с веселой относительностью, с веселым же отрицанием тождества и однозначности, с отрицанием тупого совпадения с самим собой» [20;48].
Маска эпохи Средневековья и Возрождения значительно отличается от маски раннего, тотемистического, сознания - она «связана с переходами, метаморфозами, нарушениями естественных границ, с осмеянием, с прозвищем (вместо имени); в маске воплощено игровое начало жизни, в основе ее лежит совсем особое взаимоотношение действительности и образа, характерное для древнейших обрядово-зрелищных форм» [20;48].
Несколько иное определение маски дает Бахтин в исследовании о формах времени и хронотопа в романе: «Общая проблема личного авторства <...> осложняется необходимостью иметь какую-то существенную невыдуманную маску, определяющую как позицию автора по отношению к изображаемой жизни (как и откуда он - частный человек - видит и раскрывает всю эту частную жизнь), так и его позицию по отношению к читателям, к публике» [17;310].
Таким образом, категория маски представляется ведущей в предстоящем исследовании. Вслед за художниками серебряного века мы употребляем это понятие в нескольких значениях. Во-первых, маска - это эстетическая категория, возникающая в театральном сознании как конечный продукт эстетической рефлексии (Я-для-себя, Я-для-других). Во-вторых, это позиция автора, которую художник занимает по отношению к другому, чужому. В-третьих, это маска комедии «дель арте», которая играла значительную роль в драматургии Гумилева. Именно к этим средневековым маскам восходят персонажи драматических произведений Н.С. Гумилева.
Впервые «Путь» как значимую категорию в русской литературе на материале поэзии Блока рассмотрел Д.Е. Максимов. Эту категорию он вывел из сущности поэтического «Я» блоковского творчества. Традиция определяется именами Ж.Ж. Руссо, И.Ф. Гете, Н. Гоголя, А. Герцена, Г. Гейне, Т. Манна и Л. Толстого. «Путь» при этом становится объектом рефлексии писателя. Противоположная тенденция отмечается в творчестве Ф. Сологуба и Ин. Анненского, к которому Д.Е. Максимов присоединяет и акмеистов (Н. Гумилева, А. Ахматову, О. Мандельштама). «Поэзия Анненского развивалась плавно и постепенно, совершенствовалась, истончалась, становилась самобытней, мрачнела, но все эти объективные изменения не превращались в субъективно осознанную мысль о духовно осмысленном внутреннем движении поэтического «Я» [126;88].
В образе лирического героя Анненского, - утверждает исследователь Д.Е. Максимов, - возрастные изменения обнаруживаются едва ли не более определенно, чем все остальные. Так, вторая группа поэтов сразу же выступала с тем комплексом идей, которые потом развивались на протяжении всего творчества без попытки мучительного поиска своего пути. Наиболее наглядным примером пути Блока представляются автором статьи три тома блоковской лирики, в которой лирический герой последующего тома отличен от лирического героя предыдущего. Совсем иная позиция, по мнению Максимова, у акмеистов - «Акмеисты отошли от этих будоражащих, бессонных идей большой русской литературы. В русской классике и мировой культуре они выбирали для опоры другие пласты, в которых философия в большей мере, чем у авторов, питающих символизм, уходила в стихию непосредственной жизненности или в поэтическое слово и не проявляло своей открытой силы» [127;89].
Тем не менее, «идейность» акмеистов присутствовала, но не столько в творчестве, сколько в жизни. Отсюда - манифесты Н. Гумилева, С. Городецкого, О. Мандельштама, а также «Цех поэтов» и другие поэтические организации, возглавляемые Гумилевым. Происходит более четкая дифференциация сферы деятельности: критика, драматургия, лирика, теория и т.д., в ко-
торых утверждается, однако, эстетическая позиция автора. Поэтому «путь» переносится в сферу жизни, где эта позиция проявляется с максимальной полнотой: «путь» - через путешествие (для закаливания тела), через поэзию и влюбленности (для совершенствования души), через войну (для возмужания духа) -то есть «путь» не как размышление над выбором, но как прохождение испытаний. Максимов подчеркивает отсутствие темы пути в творчестве Н. Гумилева: «Беря же поэзию Гумилева в ее основном русле, мы должны будем отметить, что о пути в ней чаще всего говорится в прямом эмпирически пространственном смысле, реже - как о позиции (например, в сборнике «Путь конквистадоров»), совсем редко - как о духовном развитии. Эволюция образа лирического «Я» Гумилева не подчеркивалась поэтом и не содержала в себе того смысла, который мог бы привести к образованию темы пути» [127;90].
По нашему мнению, объективность лирики поэта-акмеиста выражается в том, что он передает рефлексивность не лирическому герою, а драматическому, от которого автор в достаточной мере отстранен временными пространственными отношениями.
Таким образом, духовное развитие личности характерно для биографического автора - авторской маске, но не лирическому «Я» или лирическому герою. Так, в творчестве Блока объективизация лирического героя происходит в большей мере в третьем томе. В творчестве Гумилева «двойники» начинают заполнять его лирику с первых сборников, а затем переходят в драматургию поэта. Именно в драматургии начинает осмысляться им и первые поэтические сборники, и его биография, и намечаются дальнейшие пути развития творческого.
Употребление категории «пути» восходит в нашем исследовании к работе Л.К. Долгополова, в которой «путь» рассматривается как «становление личности по этапам ее внутреннего созревания» [81;25]. Если «маска» выражает собой поведенческий образ писателя, то «путь» предстает в качестве духовного ориентира, мировоззренческого кредо писателя. Безусловно, обе эти категории подводимы под понятие театральности.
Театральность в концепции В.Е. Хализева - категория, определяющая поведение человека. Она противостоит «камерной замкнутости и невыразительности форм действования» [197;65-66]. «Жизнетворческая театральность», по мысли исследователя, соединяет в себе два начала: театральность самораскрытия и театральность самоизменения. Маска, таким образом, предстает как частный случай театральности самоизменения, где «оперирование маской в прямом и переносном значении слова связано с игровым утаиванием человеком своего лица» [197;67]. Маска и путь могут трактоваться как самоизменение и самораскрытие, если не рассматривать отношения «Я» - «Другой».
Для писателей серебряного века жизнетворчество, путь, маска становятся важнейшими категориями, характеризующими не столько поведение, сколько художественное сознание автора.
В нашем исследовании мы обращаемся к творчеству Н.С. Гумилева, для которого «маска» и «театральность» стали стержневыми в его творчестве. Эта особенность художественного метода Гумилева отмечалась уже первыми его рецензентами.
Ин. Анненский: «Тут целый ряд тропических эффектов, и все, конечно, бутафорские» [68; 392]; С. Ауслендер: «Опять в путь, через все столетия, через все страны в разных масках, разных одеждах, но всегда с той же безнадежностью» [68;405]; В. Брюсов: «В этих странах, - можно сказать, в этих мирах, -явления подчиняются не обычным законам природы, но новым, которым повелевал существовать поэт; и люди в них живут и действуют не по законам обычной психологии, но по странным, необъяснимым капризам, подсказываемым автором - суфлером» [68;408]; Л.Н. Войтоловский: «И звери, и птицы - все, от пантеры до последней пичужки - сделаны автором из раскрашенного картона» [68; 413]; Росмер: «Мы не верим его религиозности. Если бы это была правда, он бы не мог написать: «Все мы смешные актеры в театре Господа бога» [68; 415]; В.Л. Львов-Рогачевский: «Только все это не живое, все это декорация и обстановочка и от картонных львов пахнет типографской краской, а не Востоком» [683;420]. Заметим, что перечень далеко не полный.
«Маска» Гумилева привлекает внимание и современных исследователей, таких, как О.А. Павловский [156], В.А. Кошелев [107], И. Толстой [191]. «Путь» Гумилева рассматривался в работах Г. Струве [182], Ю. Верховского [45]. Вопрос о драматургии Н.С. Гумилева впервые был заявлен в статье В. Сечкарева в предисловии к четырехтомному изданию поэта [176].
Впервые вопрос о «театре поэта» как целостном явлении был поставлен Д.И. Золотницким [84]. Жанровые особенности драматургии Н.С. Гумилева рассматривались в статьях Ю.В. Бабичевой. Трансформацию пушкинской темы в пьесе Н.С. Гумилева «Дон Жуан в Египте» исследует О.Б. Черненькова [193]. Тематика драматических произведений Гумилева освещалась во вступительных статьях Н. Велеховой [43], В. Бондаренко [32,33]. Комментарии к драматургии Гумилева осуществляли Д.И. Золотницкий, М.Д. Эльзон и Р. Щербаков [66,67].
«Актерское начало» (Павловский О.А.) натуры Гумилева становилось ведущим свойством образа поэта во многих мемуарных свидетельствах, художественных биографиях и романах.
Описывая поведение Гумилева в 1918 г. А. Найман пишет: «Когда все в валенках, когда все озабочены мыслью о хлебе и тепле... именно в это время Гумилев... настойчиво демонстрировал внешность. Это была внешность, прежде всего, поэта, но не вульгарная - вдохновенного жреца, а того светского человека, про которого у Пушкина сказано: «Наши поэты - сами господа» Потом - внешность дворянина, верного короне и чести. Еще - православного, посреди улицы крестящегося на храм. Подчеркнутая формальность, с какой он обращался к людям, одевался или сервировал стол, давала легкую пищу для насмешки, укреплявшей окружающих в правильности их позиции. Их, а не его, то есть людей, сознающих серьезность ситуации настолько глубоко, что им не до его игры в бирюльки» [144; 24].
А. Найман представил маску Н. Гумилева, сложившуюся уже в современном художественном сознании.
В нашем исследовании мы учитывали биографические сведения, представленные работами В. Лукницкого [120,121], О. Высотского [63], К.М. Аза-
К.М. Азадовского, Р.Д. Тименчика [3], В.В. Бронгулеева [36], А. Давидсона [75,76], И. Панкеева [157]. Биография Н. Гумилева представляет интерес в связи с теоретическими положениями поэта-акмеиста, которые возникают и отстаиваются в результате близкого общения с теоретиками символизма. Единство жизни и творчества являлось естественным результатом происходящих в начале XX века процессов мифологизации жизни.
Обращение к различным культурам прошлого могло проходить только через слово современное, возникшее в карнавальной атмосфере художников начала XX века. Акмеизм, нужно заметить, вырос на игровом переосмыслении слова символистов. В творчестве Гумилева стилизация и пародия оформлялись, с одной стороны, как пародирование учеником своих учителей, с другой - как «новое» прочтение русской и мировой классики.
Миф как важный элемент художественного сознания был воспринимаем самими писателями серебряного века. Интерес к мифологиям других народов был обусловлен самоопределением личности в контексте культуры. Для изучения преломления данного процесса в художественном творчестве нам виделось необходимым опираться на определение мифа, данное С.А. Токаревым и Е.М.Мелетинским: «Миф - своеобразная символическая (знаковая) система, в терминах которой воспринимался и описывался весь мир».
Вкрапление в художественное произведение различных мифологических образов делало его более игровым, постоянный статический образ сменялся рядом игровых масок, где сама поэтическая мысль не имела линейного плана развития, описывая ассоциативный круг. Перечисленные моменты отражаются, безусловно, и в пьесах поэта-акмеиста, так как драматургия Н.С. Гумилева создавалась параллельно его акмеистическим манифестам.
Актуальность исследования. В работе мы обращаемся к изучению драматургии Н.С. Гумилева, поэта, творчество которого в последнее время все более и более привлекает внимание как ученых, так и рядовых читателей, носителей массовой культуры. Изъятость литературы серебряного века из единой линии развития культуры в советской литературоведческой науке не давала воз-
можности всестороннего изучения данного культурного феномена. Восстановить логику развития отечественной культуры становится первостепенной задачей современной науки, и литературоведения в том числе.
Интерес, возникший в современном обществе к творчеству Н. Гумилева и культуре серебряного века, можно объяснить следствием близости того периода с современной культурной ситуацией. Это проявляется в мировоззрении художников порубежных эпох, их мироощущении, а также родственности творческих методов и приемов. Так, постмодернизм как литературное направление тесно связан с модернизмом мифопоэтикой, стилизующей и пародийной направленностью писателей рубежа веков, применением масок и других игровых моментов в творчестве.
Изучение драматургических опытов поэтов серебряного века нельзя вместить в рамки сложившейся в отечественной науке (50-70-е гг.) теории драмы (Холодов Е.Г. [199], КургинянМ.С. [114], Сахновский-Панкеев В.А. [173], Ка-рягинА. [99], Владимиров СВ. [52], КостелянецБ. [106]), которая создавалась в результате исследования преемственных отношений в литературе, так как модернисты демонстративно отрекались от преемственности.
Вопросы изучения драматургии символизма (Дукор И. [83], Бугров Б.С. [39,40], Герасимов Ю.К. [56]), решались, основываясь на изучении только драматических произведений, оставляя в стороне театральную жизнь эпохи и собственно театр. Тем не менее, в научной литературе закрепляется понятие «театр А. Блока» (Родина Т.М. [167], Федоров А.В. [193]), которое основывается на факте зависимости драматических произведений поэта от особенностей сознания конца XIX - начала XX века: «Отношение Блока к театру во многом было не традиционно, ибо в его восприятии театра проступали черты, характерные для нового художественного сознания XX в.» [167;7]. При этом самое поэтическое сознание оказывалось за пределами изучения, так как рассматривались лишь внешние процессы творчества, связанные с общественным сознанием.
В последнее время выделилось несколько путей в изучении драмы модернизма и постмодернизма. Одни исследователи (Б. Мажец [124], Н.И. Ищук-
Фадеева [97]) видят в драме серебряного века чеховскую традицию, исходят из общих принципов развития литературы. О влиянии драматургии А.П. Чехова на драматические произведения Н.С. Гумилева говорит А.И. Павловский [156].
Другие исследователи выдвигают в качестве показателя драматического произведения жанровую доминанту: близость драмы к эпосу - эпическая драма (В.Е. Головчинер [59]) или к лирике - лирическая драма (Н.Б. Кузякина [107], О.Ю. Неволина [145]). Эта исследовательская традиция заложена в работах о драматургии Н.С. Гумилева Ю.В. Бабичевой [10,11,12,13]. Выделяя среди драматургического наследия поэта жанры драматических миниатюр, драматической сказки и исторической трагедии, Ю.В. Бабичева рассматривает их с учетом жанрового канона драматургии XIX века.
Определить жанр драматического произведения в этой системе представляется затруднительным: драматическая поэма «Гондла» выступает в различных критических отзывах трагедией (Д. Мирский [135]), драматизированной или диалогизированной сказкой (Ю. Верховский [46]), драмой (И.Н. Голени-щев-Кутузов [38]). Арабская сказка «Дитя Аллаха» предстает как поэма в диалогах (Ю. Верховский [46]) и как пьеса - «лучшее из осуществленного Гумилевым в драматическом роде» (А. Левинсон [147]).
Третий подход лежит через неомифологические тенденции XX века к мифопоэтике и мифологическим структурам текста (Т. Венцлова [44], И.С. Приходько [162]). О значении мифологии в позднем творчестве Н.С. Гумилева говорит Вяч. Вс. Иванов [90].
По мнению Л.М. Борисовой [35], только с учетом теоретических положений самих творцов серебряного века можно вывести законы их творчества. Выявляя гностический компонент, драматургию Гумилева исследует С.Л. Слободнюк [178]. В связи с религиозностью Гумилева рассматривает драматургию поэта Ю.В. Зобнин [86,87,88]. М. Баскер видит в акмеистическом творчестве поэта единую связь с «ранним Гумилевым», которая проявится в драматургии поэта [14].
Следует назвать работы, в которых намечается подход к творчеству символистов и постсимволистов на основе игровых концепций. Так, опираясь на театральные концепции конца XIX - начала XX века, рассматривает драматургию западноевропейских символистов Н.В. Тишунина [190]. И. Чекалов выявляет черты театральности (шексперизм) в акмеистической поэтике [201]. Концепцию игры в творчестве Н. Гумилева прослеживает Т.А. Мелешко [133].
В нашем исследовании игровая основа поэтического театра акмеиста рассматривается через средневековую культуру. История средневекового театра освещается в работах Конрада Н.И. [104], Кузьминой В.Д. [111], Андреева М. [5], Бахтина М.М. [20], Истории русского драматического театра в 7-ми т. [95], Некрыло-вой А.Ф. [146], Молодцовой М.М. [139]. Помимо этого театральная культура серебряного века определяется рождением режиссерского театра, который во многом влиял на авторское видение писателей. Режиссерские концепции рассматриваются в работах С. Радлова [164], К. Державина [79], Б.И. Ростоцкого [169,170], В. Блока [30], А. Тамарченко [185], Ж. Абенсура [1], С. Ястремского [205].
Тем не менее, целостного изучения драматургии Н. Гумилева в связи с обозначенным выше направлением исследования не проводилось.
Целью диссертации является исследование жанрового своеобразия драматургии Н.С. Гумилева в контексте культуры серебряного века.
Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 1) выявления истоков формирования авторской художественной самореализации; 2) рассмотрения своеобразного творческого метода поэта-акмеиста, проявившегося в доминировании приемов стилизации и пародии; 3) анализа специфики драматургии Н. Гумилева, выражающейся
в особенностях пространственно-временных обстоятельств существования драматических героев;
в своеобразной системе типов и образов, содержащейся в его драматических произведениях;
в наличии композиционно-стилистических феноменов, проявляющихся как соответствие образов и вторичных речевых жанров их воплощению.
Объект исследования: творчество Н.С. Гумилева в контексте культуры серебряного века.
Предмет исследования: жанровые особенности драматических произведений поэта-акмеиста, созданных с 1912 по 1921 гг.
Методологическую основу исследования составляют работы М.М. Бахтина, с учетом работ по изучению творчества Н. Гумилева М. Баскера [13], Н. Богомолова [35,36], Ю. Зобнина [86,87,88], Н.Ю. Грякаловой [59], О.А. Лекманова [116]. Среди применяемых в работе методов исследования следует выделить культурно-генетический, сравнительно-сопоставительный и системный. Кроме того, применялись герменевтические и феноменологические методы исследования.
Научная новизна диссертации диссертации заключается в том, что в ней впервые делается попытка целостного изучения драматургии Н.С. Гумилева. Исследование драматических произведении поэта ведется на основе подходов М.М. Бахтина, прежде всего метода культурного диалога (Я - Другой), что также составляет научную новизну данной работы. Кроме того, разделяются зоны автора: «авторская маска» (употребляется этот термин вслед за О.Е. Осовским и И.П. Ильиным), творческий метод и зоны героя - «хронотоп», «речевой жанр», что дает возможность обозначить жанровую специфику пьес поэта.
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, что в ней выявляется закономерность становления поэтического театра Н. Гумилева. Именно театральное сознание поэта, сформированное в эпоху серебряного века, по нашему мнению, определяет жанровые особенности его драматических произведений. Театральное сознание формируется в условиях разрушения прежних общественных отношений, с одной стороны, и стремлением художников серебряного века осмыслить эпоху и себя в этой эпохе - с другой.
Практическая значимость диссертации определяется тем, что её положения могут быть использованы при разработке лекционных курсов по истории русской литературы XX века, в спецкурсах и семинарах по проблемам истории и теории драмы, а также при написании курсовых и дипломных работ.
Положения, выносимые на защиту:
Специфика художественного и жизненного самовыражения Н.С. Гумилева связана с проявлениями феноменов «маски» и «пути», которые находятся в сложной внутренней взаимосвязи. С одной стороны, в творчестве поэта проявляется динамическая составляющая («становление», «путь»), которая может быть рассмотрена как стремление к постоянному личностному и художественному совершенствованию. С другой стороны, в многообразии форм авторского самовыражения, с нашей точки зрения, доминирует форма «маски», что было вызвано игровой атмосферой серебряного века, театрализацией, перешедшей с театральных подмостков в повседневную жизнь интеллигенции. Связующим звеном между этими сторонами является феномен «жизнетворчества».
Акмеистическая установка Гумилева, которая утверждалась одновременно с появлением драматических произведений поэта, была основана на игровых возможностях слова, его семантической многоплановости, что отчетливо запечатлелось в поэтическом театре акмеиста, определяя его жанровую специфику.
Жанровое своеобразие драматургии Н.С. Гумилева заключается в наличии скрытого диалога между героем, которому принадлежит первый план драмы, и авторской позицией, в отличие от классической драмы, проявляющейся здесь достаточно очевидно. Рефлексирующее сознание лирического героя, представленное как «путь», противостоит маскам-персонажам с заданными стереотипами поведения.
Особенностью драматических произведений Гумилева является использование условий пространства и времени для передачи подвижной структуры сознания героя, которое направлено на осмысление самого себя и своего существования в мире. Это, в свою очередь, является основой для выделения типов персонажей и их иерархии. Последняя проявляется в системе поэтических речевых жанров, которыми они пользуются, - индивидуально-авторских (обольщение, сон-воспоминание, заклинание) и канонических (баллада, газель, пантун, поэтическое состязание, путешествие).
«Жизнетворчество» Вяч. Иванова и акмеистическая поэтика Н. Гумилева
Взаимоотношения Вяч. Иванова и Н. Гумилева описаны на страницах мемуарной прозы, отражены как в личной переписке, так и в письмах к другим адресатам, например, Л. Рейснер, а также запечатлены в рецензиях поэтов на творчество друг друга. Их взаимоотношения во многом предопределили рождение акмеизма как литературного направления.
В становлении акмеизма во многом сказался факт расхождения Н. Гумилева и Вяч. Иванова по вопросу о мифе (см. работы Н. Богомолова [32], М. Баскера [14], О. Кузнецовой [ПО]), а именно, о мере свободы обращения писателя с мифологическим сюжетом. Исходя из исследований О.А. Кузнецовой и И.В. Корецкой [105], в которых каждая приходит к выводу, что выпад против «парнассизма» направлен против Гумилева, следует обратить внимание на последнюю фразу высказывания Вяч. Иванова.
Он пишет: «Парнассизм имел бы, впрочем, полное право на существование, если бы не извращал - слишком часто - природных свойств поэзии, в особенности - лирической: слишком склонен он забывать, что лирика, по природе своей, - вовсе не изобразительное художество, но - подобно музыке - искусство двигательное, не созерцательное, а действенное, и, в конечном счете, не ико-нотворчество, а жизнетворчество» [110;207].
Различие, как следует из высказывания, между ним и Гумилевым лежит в области противопоставления: иконотворчества жизнетворчеству. Приверженность Гумилева ницшеанству отмечалась многими исследователями (Ю. Зобнин [88], В. Десятов [80]), тем острее звучал упрек Вяч. Иванова. Почему лирику парнасцев Вяч. Иванов называет иконотворчеством? Если мы переведем данное утверждение в плоскость театральной концепции, то придем к тому, что разногласия пролегают между двумя типами масок.
Маски Вяч. Иванова - это маски реальной жизни прошлых эпох, когда они не расходились с жизненными установками обряда. Вяч. Иванов не приемлет современный театр вследствие «утомления иллюзионизм»): «На иллюзии зиждется весь современный театр: не на внешней только иллюзии, но на внутренней. Триумф актера, автора и режиссера - создание такой иллюзии, которая произвела бы на зрителя гипноз отождествления с героем драмы; зритель должен пережить часть жизни героя, он должен быть на один вечер сам герой» [91;161].
Идеальную форму существования театра Вяч. Иванов видит в хоровом искусстве: «В хоровой драме все было не так: зритель был участником действа тем, что отождествлялся не с героем - протагонистом, а с хором, из которого выступил протагонист» [91; 161 ].
Именно в хоровом искусстве воздействие искусства было громадным, привнося очищение каждому участнику действа: «он причащался жертве, в хороводе празднующих жертву, и поистине очищенным возвращался он из округи Дионисовы, пережив литургическое событие внутреннего опыта» [91; 161 ]. Маска обладала здесь поистине священной ролью, а игра (обряд) действительно была жизнью.
Маска Гумилева - это маска статичная, посмертная, так как, по мнению Вяч. Иванова, он оперирует образами умерших героев. Такой метод приближается к иконотворчеству, в котором миф творится после смерти святого, подчас имея мало общего с жизнью. Следуя концепции Вяч. Иванова, индивидуальное должно растворится во всеобщем, которое только и имеет божественную сущность. В понимании Н. Гумилева индивидуальное должно преодолеть всеобщее, приобрести лик, стать именем.
По утверждению О.А. Лекманова, «старший поэт сыграл в его становлении и образовании ту же роль, которую сам Гумилев сыграл в судьбах многих участников «Цеха поэтов» [116; 18]. Разрыв в отношениях Н.Гумилева с Вяч. Ивановым, по свидетельству мемуаристов, происходит на Башне после прочтения будущим акмеистом стихотворения «Блудный сын». Однако «увертюрой к спору» [116;19] явилась рецензия Н. Гумилева на книгу Вяч. Иванова «Cor Ardens». В ней сосредоточены те положения, которые выросли в акмеизм.
Гумилев отказывает Иванову в принадлежности к поэтам: «Если верно, -а это, скорее всего, верно, - что пламенно творящий подвиг своей жизни есть поэт, что правдивое повествование о подлинно пройденном мистическом пути есть поэзия, что поэты - Конфуций и Магомет, Сократ и Ницше, то - поэт и Вяч. Иванов» [63;580]. Заметим, что имя Вяч. Иванова будущий акмеист ставит в один ряд с философами и пророками, основателями новой идеологии, религии.
Поэзию Вяч. Иванова Гумилев противопоставляет поэзии Пушкина, Лермонтова, Брюсова, Блока - поэтов «линий и красок». Особенность его творчества состоит в том, что для него «все слова равны, все обороты хороши; для него нет тайной классификации их на «свои» и не «свои», «он не хочет знать ни их возраста, ни их родины» [63;581]. В понимании Гумилева Вяч. Иванов - филолог, виртуозно владеющий разными жанрами, но оттесняющий образы, которые есть «только одежда идей».
Именно образ станет для Гумилева первейшим элементом поэтики, образ «самодостаточный», имеющий «возраст» и «родину», включающий в себя и пространство обитания, и стереотип поведения. Отсюда такая непоследовательность в использовании различных поэтических структур и кажущаяся поверхностность отношения к различным теоретическим построениям. Все сказанное во многом определяет поэтику драматургии Н.С. Гумилева.
Драматические произведения Н.С. Гумилева, составившие так называемый театр поэта, создаются в акмеистический период творчества, на что указывает Д.И. Золотницкий: «Идеи Гумилева - драматурга начали воплощаться одновременно с идеями Гумилева-акмеиста» [89; 14]. М. Баскер, проводя исследование пьесы «Актеон» (1913), приходит к выводу, что «Актеон» представляет необыкновенно подробную формулировку программы акмеизма» [14;116]. Однако принципы творчества, легшие в основу программы, разрабатывались Гумилевым с самих ранних поэтических сборников, в чем убеждает исследование того же М. Баскера. Поэтому его выступление в печати следует рассматривать как манифест, ставший итогом творческой работы поэта, вступающего на новый этап творчества. Рассмотрим основные положения его статей.
Гумилев с Вяч. Иванов, как было замечено выше, расходились по отношению к мифу, к вопросу о «пределах той свободы, с которой поэт может обрабатывать традиционные темы» [116; 17]. Заведование критическим отделом «Аполлона» явилось своеобразной точкой отсчета в публичных выступлениях Н.С. Гумилева, направленных против теории Вяч. Иванова.
«Путь» В. Брюсова в представлении Н.С. Гумилева
«Ученичество» Гумилева и роль в нем В. Брюсова отмечалось многими исследователями: самим В. Брюсовым, а также Е.Б. Тагером [184], Вяч. Вс. Ивановым [90], О.А. Павловским [156], М.Л. Гаспаровым [53], Н.А. Богомоловым [32], О.А. Лекмановым [116], и было обусловлено отношениями двух поэтов, прежде всего их перепиской. Брюсов оказался чуть ли не единственным из маститых символистов, «мэтров», кто откликнулся на письмо неизвестного еще никому в ту пору поэта Н. Гумилева и следил за развитием его таланта.
Так, в 1906 году Н. Гумилев признавался в письме к В. Брюсову, что ничего не пишет: «Я объясняю это отсутствием людей, обращенье с которыми дало бы мне новые мысли или чувства. Уже год, как мне не удается ни с кем поговорить так, как мне хотелось бы. Я пишу это для того, чтобы Вы не отчаялись во мне, видя мою лень, тем более что Ваше участие ко мне - единственный козырь в моей борьбе за собственный талант» [73; 415].
В 1908 году Гумилев пишет В. Брюсову: «Не думайте, что я соблазнился ересью Вяч. Иванова, Блока или других. По-прежнему я люблю и ценю больше всего путь, указанный для искусства Вами» [73;426]. В 1910 году Гумилев посвящает «Жемчуга» В. Брюсову и пишет ему по этому поводу: «Жемчуга» -упражненья - и я вполне счастлив, что Вы, мой первый и лучший учитель, одобрили их. Считаться со мной как с поэтом придется только через много лет» [73;437].
Но в 1912 году Гумилев уже провозглашает новое направление в поэзии -акмеизм. Этот факт рассматривается Н.А. Богомоловым как «стремление вырваться из-под опеки Брюсова», «желание почувствовать себя наконец-то самостоятельным, главой школы, а не подчиненным» [32;64]. В статье, напечатанной в журнале «Гиперборей», Гумилев отмечал, что творчество Брюсова видится ему законченным: «Полное овладение техникой делает из него мэтра русского стиха» [63;650].
Приведенные примеры наглядно демонстрируют развитие отношения Н. Гумилева к В. Брюсову от робкого наблюдения над стихотворной техникой старшего символиста до факта провозглашения вершинного положения поэзии В. Брюсова, затвердения этой техники.
Идея «пути» возникла в сознании Н.С. Гумилева в связи с увлечением философией Ф. Ницше и подразумевала поступательное движение личности в направлении ее самосовершенствования. Наиболее отчетливо идея «пути» была представлена в книге Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», особенно ценимой молодым Гумилевым.
Ю. Зобнин подчеркивает, что «именно поэтика «Заратустры» Ницше -прозрачная символика «низин» и «высот», легкая стилизация, способная вызвать смутные ассоциации с неким условным «средневековьем» - отразилась в стихотворениях «Пути конквистадоров» [88;20].
Нужно заметить, что «жизнетворчество» и другие идеи немецкого философа разрабатывались также в кружке «аргонавтов» в 1903-1906 гг. и находили отражение в творчестве А. Белого. Им выдвигались две важнейшие цели их (аргонавтов) объединения: «Цель экзотерическая - изучение литературы, посвященной Шопенгауэру и Ницше, а также их самих; цель эзотерическая - путешествие сквозь Ницше в надежде отыскать золотое руно» [115;141].
Сама идея «путешествия», «странствия», «пути» пользовалась большой популярностью у писателей конца XIX - начала XX века. Не случайно название первого сборника стихов Н. Гумилева «Путь конквистадоров» включает в себя слово «путь». Но выбор «пути» определял образ писателя, становился важнейшей составляющей его мифа о себе. Именно В. Брюсов утвердил образ Андрея Белого, поэтому авторитет старшего символиста был необходим Н. Гумилеву на первом этапе его «пути».
В увлечении идеей пути не последнее место занимали масонство и оккультизм, столь популярные на рубеже веков. По выражению М. Йовановича, масонская символика была воспринята Гумилевым через Брюсова. Подчеркнем, что масонская символика, по мнению исследователя, нашла отражение в драматургических произведениях Н. Гумилева - прежде всего, в «Актеоне» и «Гонд-ле». Кроме того, отмечает он, «поэтическая программа позднего Гумилева задумывалась как-то параллельно масонским положениям, и последний «Цех поэтов» в данном отношении должен был напоминать «поэтическую ложу», возглавляемую «совершенным мастером» Гумилевым» [98;35].
Традиционно рассматриваются три ипостаси поэта Н. Гумилева: поэт, путешественник, воин (А. Давидсон [76]). Говорилось о творческом развитии Гумилева как о пути поэта (Ю. Верховский [45]). Ю. Зобнин пишет: «Нетрудно заметить, что семантическая система, определяемая знаками «начала движения», «пути» и «цели», оказывается определяющей для стилистической и поэтической специфики очень широкого круга произведений Гумилева разных лет творчества» [87;8].
В этом параграфе мы будем говорить о «пути» поэта в связи с реализацией им масок «учитель» - «ученик». Особая роль в их создании принадлежит В. Брюсову. В то время, когда Гумилев обратился к Брюсову в поисках признания своего таланта, последний находился на пике славы, был признанным мэтром: «Брюсов был для нас единственным «мэтром», бойцом за все новое, организатором пропаганды; так в чине вождя и борца подчинялись ему...» [140;408], - писал А. Белый.
Маски ученика и учителя, являясь типичными образами на фоне повального обращения к средневековой культуре, предвосхищали рождение «Цехов поэтов», «мастерских», где эти отношения канонизировались и строились на прохождении данного пути самим Гумилевым. Маска ученика включала в себя овладение знаниями и умениями на пути к маске мэтра. Маска мэтра - оборотная сторона первой маски. Основываясь на терминологии М.М. Бахтина, можно сказать, что маска мэтра - это «Я для других», маска ученика - «Я для себя».
«Ученичество», следуя воззрениям Н. Гумилева, знаменует собой процесс становления, незавершенности, отдаляет от смертельной закостенелости собственного развития. Исходя из логики рассуждения, можно заключить, что пока я - ученик, я жив. Однако трудно обозначить при этом позицию автора, возможно, поэтому существует так много разноречивых толкований произведений Н. Гумилева, что накладывает свой отпечаток и на прочтение драматургии поэта. «Я для других» при этом также не имеет единого образа, ибо демонстрирует постоянный поиск автора, который примеряет на себя разные образы, играет с ними.
Реминисценции символистов (В. Соловьева, В. Брюсова, Ин. Анненского) в поэтическом театре Н.С. Гумилева
Проблему взаимоотношения символизма и акмеизма рассматривает О.А. Клинг: «Гумилев искал «твердую почву» в отлете от символизма, полемизируя с ним, но символизм оставался в составе его «поэтической крови», в том числе в самой «акмеистической» книге - «Чужое небо» [101;125].
И. Делич выделяет три точки зрения на вопрос о месте символизма в творчестве Н. Гумилева. Первую представляют Жирмунский [79], Поджиоли, которые признают за Гумилевым акмеистическую установку. Вторую точку зрения, по мнению исследователя, представляют критики, считающие истинной музой Гумилева музу мистическую. Третья точка зрения признается большинством и состоит в признании промежуточной позиции Н. Гумилева: «последний период рассматривают как «возврат» к символизму, от которого Гумилев отошел в годы увлечения акмеизмом (1911-1914)» [78;490].
Мы будем опираться на мнения тех исследователей, которые не проводят резкой грани в акмеистическом и символистском периодах творчества Гумилева. То, что было впоследствии провозглашено как акмеизм, созревало еще в раннем творчестве Гумилева (особенно показательна в этом отношении книга М. Баскера «Путь к акмеизму») и органично вливалось в общий ход развития литературного процесса 1910-1920-х гг. По мнению О.А. Лекманова, стержнем акмеизма следует считать особую, домашнюю, атмосферу «компании друзей» [116;15]. Именно это качество определило диалогическое начало акмеизма [47], в котором реминисценции явились характерной чертой поэтики.
Опираясь на исследование М.М. Бахтина, мы можем говорить о пародии и стилизации в драматических произведениях Н.С. Гумилева. «Стилизация стилизует чужой стиль в направлении его собственных заданий. Она только делает эти задания условными ... . Иначе обстоит дело в пародии. Здесь автор, как и в стилизации, говорит чужим словом, но, в отличие от стилизации, он вводит в это слово смысловую направленность, которая прямо противоположна чужой направленности. Второй голос, поселившийся в чужом слове, враждебно сталкивается здесь с его исконным хозяином и заставляет его служить прямо противоположным целям» [19;224].
В обоих случаях речь идет об «условном слове». Различие между стилизацией и пародией проходят в области смысловой заданности. Выступая с акмеистическим манифестом, Н.С. Гумилев заявлял, что «символизм был достойным отцом». С одной стороны, он принимал его наследие, с другой - утверждал необходимость нового взгляда на старые ценности. Это новое заключалось в синтезе реального и ирреального, в приоритете земных ценностей над туманными и неясными предчувствиями символизма.
Поэтому естественно будет предположить, что Гумилев с иронией воспринимал «отца символизма» В. Соловьева и противопоставлял ему «отца акмеизма» Ин. Анненского. Опора акмеистов на имя Анненского росла по мере отдаления их от символистов [187,180]. Сложнее обстоит дело с В. Брюсовым. Ученик Брюсова, Н.С. Гумилев во многом еще следовал его темам в поэзии, но в большинстве случаев он трактовал эти темы, придавая им иную смысловую направленность.
Заметим, что о пародии как необходимой установке каждого нового литературного направления говорит Ю. Тынянов: «Нет продолжения прямой линии, есть скорее отправление, отталкивание от известной точки - борьба. А по отношению к другой ветви, другой традиции такой борьбы нет: их просто обходят, отрицая или поклоняясь, с ними борются фактом своего существования ... . Пародия вся - в диалектической игре приемом» [192;226].
Концепции М.М. Бахтина и Ю. Тынянова формировались приблизительно в одно и то же время - в 20-е годы. При всем различии их подходов к пониманию пародии следует подчеркнуть общее внимание к этой проблеме, которая становится актуальной в период быстрой смены одного ведущего литературного течения другим. Игровая основа пародии и для первого, и для второго ученого очевидна. Именно игровая установка будет преобладать в работе Н.С. Гумилева над драматическими произведениями. Рассмотрим первую пьесу поэта -«Дон Жуан в Египте».
Воскресив Дон Жуана именно в Египте, Гумилев намекал на самого «отца» символизма - В. Соловьева, которому его внутренний голос, жаждущий в то время видения Софии, сказал: «В Египте будь!». Именно там он написал стихотворение «Три свидания», с которым перекликается вступительный монолог главного героя. Позволим себе несколько цитат.
В. Соловьев «Три свидания» У Гумилева герои восклицает, по рі я уснул, когда ж проснулся чутко, - являясь на сцене: Дышали розами земля и неба круг Как странно! Где я? Что за бред? И в пурпуре небесного блистанья Что наконец я вижу свет Очами полными лазурного огня Ага! Я ставлю три червонца, Глядела ты, как первое сиянье Земного ласкового солнца (с. 40) Всемирного и творческого дня. (с. 92)
Аналогия между двумя этими отрывками просматривается на трех уровнях. Во-первых, на ритмическом - оба написаны ямбом. Во-вторых, лексико-семантическом: в обоих случаях основное семантическое поле - свет, но у Соловьева речь идет о божественном свете, сиянии, у Гумилева - свет земной, обычный солнечный свет. В-третьих, на стилистическом, и именно здесь особенно показательна пародийная установка акмеиста: В. Соловьев пишет стихотворение в высоком стиле, Гумилев употребляет слова со стилистически сниженной окраской (бред, червонец; междометие «ага»).
Приведем еще один пример: «О лучезарная! Тобой я не обманут. / Я всю тебя в пустыне увидал. / В моей душе те розы не завянут, / Куда бы ни умчал житейский вал». [62;92]. Поэтическая картина выстраивается из слов с неконкретной семантикой: и роза, и вал, и пустыня - все имеет здесь символическое значение. Тем ярче подчеркивается конкретность земного мира в речи Дон Жуана: «Теперь на волю! Через вал / Я вижу парус чьей-то лодки /Я так давно не целовал / Румянца ни одной красотки. / Есть лодка, есть и человек, / А у него сестра, невеста... / Привет, земля, любовных нег / Очаровательное место!» [62;40-41].
Функция хронотопа в драматургии поэта
Исследование хронотопа в драматургическом творчестве Н. Гумилева приводит к выделению двух ценностно-ориентированных пластов сознания. Первый пласт сознания, смеховой, наглядно представлен в предыдущей главе. Он восходит к акмеистическим установкам автора на игровое отношение к слову, прежде всего к слову символистов, затем - романтиков. Следует заметить, что пушкинское слово в сознании Гумилева ближе к романтическому восприятию, наконец, поэт-акмеист рассматривает «зарождение» слова, его сознание направлено на первичные образы - именно так можно обозначить мифологические реминисценции.
Смеховой пласт сознания связан с масками, так как именно они, во-первых, обозначают застывший характер, игровую основу любой роли, во-вторых, являют собой воспоминания об этой роли, утверждаю ранние, народные формы театра.
Второй план, серьезный, включает в себя рефлексирующее сознание героя. Этот герой стремится воплотить свою волю (Дон Жуан, Граф, Актеон), выполнить предназначение, которым, по его мнению, наделил его Господь Бог (Гондла, Факир, Трапезондский Царь), или сам олицетворяет собой высшую возможность, демонстрирует собственную силу (Тремограст) и власть (Гафиз).
Ценности героев драматических произведений Гумилева лежат в плоскости религиозно-мифологической: вера, подвиг, любовь, признание. Герой Гумилева верит и несет свою веру как высшую ценность, независимо от того, к чему устремлена его вера - к Богу, к поэзии, к мечте. Это выделяет его среди других персонажей пьес, лишь формально выполняющих свою роль. Они -только маски, стереотип их поведения определялся веками, поэтому персонажи пьес поэта-акмеиста приближены к маскам средневековым и ренессансным. Стремление героя к подвигу ведет героя к открытости, к духовному совершенствованию, к жертвенности. Подвиг ставит героя над другими персонажами пьесы, что дает ему доступ к обозрению большего пространства и знаменует большее знание о себе и мире уже изначально. Факир, Гондла, Трапезондский Царь предсказывают переход в другой мир, судят о происходящих событиях с иных позиций.
Любовь в художественном мире Гумилева - это тот самый проводник, который помогает переместиться герою с одного места на другое. Любовь Дон Жуана, Графа, Актеона прежде всего связана с телесным влечением, у Гондлы, Факира, Трапезондского Царя она получает христианское осмысление и освобождает их от тягот телесной жизни. Гафизу любовь дается как высшая награда мудрецу, который умеет соединить оба начала - телесное и духовное.
Конечный этап устремлений героя в драматургии Гумилева - это признание его другими людьми. Дон Жуан - признанный всеми любовник. В то же время Граф и Актеон - неудавшиеся любовники. Гондла приносит себя в жертву ради обращения язычников в христианскую веру. Жертвоприношение происходит у них на глазах, что помогает принять решение. То же самое (жертвенный поступок на глазах народа), совершает Трапезондский Царь, что позволяет говорить о любви к нему других людей, «суровых каменщиков», как называет их Гумилев.
Признание Гафиза «первым из людей» происходит сказочным образом -при помощи Соломонова кольца и единорога. Факир получает доверие демона Астарота. Тремограст, наоборот, не пользуется доверием племени, объявляется изгоем. Однако в любом случае герой, получает он признание или нет, переходит в иной план существования. Само испытание дает ему право на возвышение, так как происходит самоутверждение, проявление его духа.
Данная категория испытания имеет большое значение в художественном мире Николая Гумилева и связана с проявлением внимания автора к самой человеческой сущности: тело - душа - дух. Становящееся бытие осознается благодаря категории «пути». Она оформляет, с одной стороны, устремление героя, факт его странствия, с другой стороны, - категория пути сопряжена с религиозной проблематикой и подчеркивает религиозно-эстетические искания автора. Поэтому дальнейшее исследование драматических произведений Н.С. Гумилева видится нам плодотворным в аспекте выявления специфики хронотопа пути. «Путь» указывает на пространственное видение автора, в связи с чем образы пространства играют ведущую роль в структуре драматических произведение Гумилева.
Изображение человека в драматургии Гумилева обусловлено пространством в большей мере, чем временем, так как время в этих произведениях - игровое. Особенно пристальное внимание поэт уделяет Средневековью. Оно становится не просто временем обозначения игрового действия пьесы. Герою Гумилева свойственны ценности средневекового героя: поэзия, религия, подвиги, любовь.
Рассмотрим подробно особенности хронотопа в пьесах Н.С. Гумилева. В пьесе «Дон Жуан в Египте» события разворачиваются вокруг гробниц египетских царей. С одной стороны - это место общения живых с мертвыми, в результате последние как бы оживают, с другой - музейный экспонат, предрасполагающий к беззаботному, веселому времяпрепровождению. От того, насколько читатель готов воспринимать оба этих обстоятельства, зависит понимание пьесы в целом.
Если учитывать только пародийный подтекст «Дон Жуана в Египте», который выражен с наибольшей яркостью, что и позволяет исследователям говорить о пьесе как о «маленькой комедии», фарсе, мы не сможем проследить глубинного пласта этой пьесы, ее мифологического основания, в котором трагическое и комическое тесно переплетены, переходя в жизнеутверждающее качество.
Жизнь и смерть взаимосвязаны, они находятся в едином космическом пространстве. «Космичность» мифологического мировоззрения не раз отмечалась учеными. Установка на мифотворчество явилась негласным основанием для утверждения нового литературного направления. В противовес символизму мифотворчество Гумилева допускало вольное обращение с мифом, но космических границ восприятия мира оно не отменяло.
Образом Дон Жуана, возродившегося в Египте, воскресшего после смерти, подчеркивается особый, глубинный вид смеха. В традиционной интерпретации образа Дон Жуана последней чертой, приведшей героя к трагической развязке, становится вызов Дон Жуана статуе Командора, вызов живого мертвому. В пьесе Гумилева Дон Жуан, появляясь из-под плит, легко одерживает победу над моралистом Лепорелло, чья мораль отдает мертвечиной. Следует подчеркнуть, что амбивалентность образов является не показателем народного мироощущения, а утверждением нового взгляда на природу творчества, который приходит на смену старым понятиям. Здесь и понимание кратковременности каждой научной теории, ограниченности любой догмы по сравнению с жизнью.