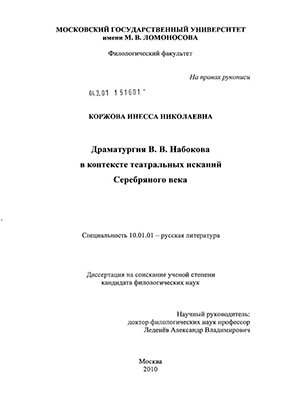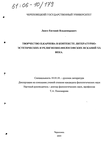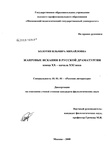Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Формирование авторского варианта метафоры «мир — театр» в пьесах В. В. Набокова 1920-х годов 14
1.1 Актуализация метафоры «мир - театр» на рубеже ХІХ-ХХ веков 14
1.2 Осмысление театральности Серебряного века в «Трагедии господина Морна» 32
1.3 Образ двойного театра в пьесе «Человек из СССР» 47
Глава 2. Театральная метафора в пьесах В. В. Набокова 1930-х годов 68
2.1 Изучение пародийного начала у В. В. Набокова в свете теории пародии 68
2.2 Стилизация и пародия в театральной практике Серебряного века 76
2.3. Пародийность как средство представления метафоры «мир - театр» в пьесе «Событие» 98
2.4 Имплицитное представление театральной метафоры в пьесе «Изобретение Вальса»: автореминисценции и пародичность 117
Глава 3. Монодраматические тенденции в пьесах В. В. Набокова 134
3.1 Теоретико-литературные основы исследования субъективизации драмы 134
3.2 Монодрама в театральной теории и практике Серебряного века 145
3.3 Возможности передачи точки зрения героя в ранней драматургии В. В. Набокова (пьеса «Смерть») 152
3.4 Система персонажей как основа субъективизации драмы в театре Серебряного века и зрелых пьесах В. В. Набокова 160
3.5 Дополнительные приемы монодраматизации в пьесах В. В. Набокова 177
Заключение 187
Библиография
- Осмысление театральности Серебряного века в «Трагедии господина Морна»
- Образ двойного театра в пьесе «Человек из СССР»
- Пародийность как средство представления метафоры «мир - театр» в пьесе «Событие»
- Возможности передачи точки зрения героя в ранней драматургии В. В. Набокова (пьеса «Смерть»)
Введение к работе
Актуальность работы определяется двумя группами фактов. Во-первых, в 2008 г. была впервые издана на русском языке пьеса Набокова «Человек из СССР» -оригинальный текст восстановил недостающее звено изучения эволюции драматурга. Во-вторых, возвращение наследия одних драматургов начала XX века и переоценка творчества других поставили перед литературоведением задачу создания концептуально обновленной истории драматургии. Пьесы Набокова демонстрируют тот вариант модернистского театра, который мог бы сложиться в России, не будь литературный процесс насильственно управляем. Обратным светом они высвечивают не всегда очевидную общность в творческих исканиях предшественников Набокова.
Поэтика Набокова-драматурга не оставалась неизменной: при создании каждой из пьес подключалась новая ветвь традиции. Поэтому в работе выявление исканий Серебряного века, продолжаемых Набоковым, сопутствует изучению его драматургии как целостного феномена, претерпевшего эволюцию. Использование фундаментальной метафоры «мир - театр» роднит четыре крупные пьесы писателя. Эта модель мира объединяла поверх стилистических и даже направленческих барьеров театральную культуру Серебряного века и была воспринята молодым Набоковым во всей совокупности сформированных значений.
Изучение театра Набокова и театральной метафоры в его прозе долго составля-
1 Набоков В. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. - М, 1990. - С. 87.
2 Преемственность Набокова по отношению к русской классической литературе выявлена в работе
А.В. Злочевской.
ло раздельные, не пересекающиеся направления исследований. Балаганный мир «Приглашения на казнь» привлек внимание Д. Бабича, а также С. Сендеровича и Е. Шварц. В работах Я. Погребной, Н. Кафидовой, Н. Корневой образ мира, воссозданный по модели театра, рассмотрен в рамках более широкой категории - «театральности» творчества писателя. Но главным основанием для признания этой метафоры средством моделирования мира стало высказывание о театре самого Набокова: «Если, а мне сдается, что так и есть, единственным допустимым дуализмом является непреодолимая преграда, отделяющая "я" от "не-я", то мы можем сказать, что театр дает хороший пример этой философской фатальности» .
Модель «мир - театр», претерпевшая в драмах Набокова структурные и смысловые изменения, исследуется в двух первых главах работы, параллельно выявляется влияние поэтики отдельных авторов и течений. В третьей главе мы обращаемся к еще одной линии преемственности, заданной мировоззренческой общностью Набокова и представителей раннего модернизм. Преломление мира сквозь призму индивидуального сознания было воспринято ими как гносеологическая неизбежность. Отображение личностного взгляда на реальность привело Набокова, как и его предшественников, к субъективизации драматической структуры и в итоге к созданию монодрамы.
Главная цель настоящего исследования - выявить направления театральных поисков Серебряного века, развитые в драматургии Набокова. Она конкретизируется в следующих задачах:
выявить актуальные для культуры Серебряного века основания метафоры «мир - театр»;
рассмотреть драматургию Набокова как целостную систему, основанную на мировоззренческой метафоре «мир - театр»;
исследовать трансформацию модели «мир - театр» в драмах Набокова;
выявить связь театральной эстетики Набокова с теорией жизнетворчества;
исследовать влияние театрального традиционализма на поэтику модернистского театра;
раскрыть приемы и истоки пародичности в набоковских пьесах;
выявить способы субъективизации драматической структуры, наследуемые Набоковым у театра Серебряного века.
3 Набоков В. В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. - СПб., 2008. - С. 499.
Объектом диссертации стали русские драматургия и театр первой трети XX века; предметом - направления художественных поисков в театре Серебряного века, получившие развитие в драматургии Набокова.
Методологическая основа работы. При исследовании модели «мир - театр», реализованной в пьесах, мы опирались на идеи Ю. М. Лотмана о моделирующей функции искусства и на категорию «художественный мир произведения», разработанную Д. С. Лихачевым, В. Е. Хализевым, Л. В. Чернец. Цель исследования предполагает совмещение этого подхода с сопоставительным анализом, выявляющим контактные и типологические связи Набокова с предшественниками. Изучение приемов взаимодействия с чужими текстами делает важной опорой работы идеи М. М. Бахтина, Ж. Женетта, Н. А. Фатеевой, Н. Пьеге-Гро и исследования Ю. Тынянова, А. Морозова, В. Новикова, посвященные одному из видов межтекстового взаимодействия - пародии. Изучение субъективизации структуры драмы основано на трудах по теории авторства М. М. Бахтина, Б. О. Кормана, нарратологических исследованиях Б. А. Успенского, Н. Д. Тамарченко, В. Шмида, М. Баль, М. Пфистера, Ш. Риммон-Кенан, Р. Фигута.
Положения, выносимые на защиту.
Четыре многоактные пьесы В. В. Набокова воссоздают единый образ мира, организованный метафорой «мир - театр». Варианты и способы представления модели не остаются неизменными, определяя эволюцию драматургии писателя. Многообразие вариантов метафоры, проходящих сюжетную проверку в «Трагедии господина Морна», сменяется воплощающей жесткую биспациальность (термин Ю. Левина) моделью «двойного» театра в «Человеке из СССР» и «Событии». В «Изобретении Вальса» образ театра не эксплицирован и восстанавливается благодаря автореминисценциям и содержательному единству приемов.
На образ мира в пьесах Набокова влияет актуализованное и артикулированное Серебряным веком осмысление жизни как сцены и рецепция жизнетворческих проектов предшественников. Высокий вариант метафоры опирается на экзистенциальное основание (осознание уникальности жизни-спектакля), низкий - на критерий неподлинности. Введенное символистами эстетическое основание применимо к обоим уровням бытия. Но если высокий театр жизни обнаруживает ее гармоничное устройство, то низкий подчинен штампам и трафаретам низкопробного искусства.
Пьесы опираются на широкий интертекстуальный пласт преимущественно модернистской литературы и театра. Аллюзии, реминисценции, скрытые цитаты соседствуют с освоением поэтики предшественников. Главный источник заимствований - творчество символистов А. Блока, Ф. Сологуба, А. Белого; влияние на поэтику пьес Набокова оказала также модернистская драматургия Л. Андреева, реалистические пьесы А. Чехова и М. Горького, театральные искания Н. Евреинова, Вс. Мейерхольда, Г. Крэга, М.Чехова.
В пьесах 1938 г. «Событие» и «Изобретение Вальса» образ низкого театра воссоздан средствами пародичности (термин Ю. Тынянова), использующей пародийные приемы в непародийной функции. Источниками таких средств, как синтетическая пародия, параллельные реплики, обнажение «грамматики» приема, исполнение актером нескольких ролей, пародирование семиотизированных сфер жизни, стали театры малых форм, прежде всего «Кривое зеркало».
Мировосприятие эпохи Серебряного века отразилось в субъективизации текста, проникновении в драму конфликта «герой - внеличностный порядок вещей», воссоздании релятивистских идей; эти тенденции соединились в жанре монодрамы, к которому обращались Н. Евреинов, Б. Гейер, Л. Андреев, Г. Крэг, М. Чехов. Набоков-драматург совершенствует способы передачи точки зрения персонажа, открытые театром начала XX в. К субъективизации структуры он прибегает в пьесах «Смерть» и «Событие», а в «Изобретении Вальса» воплощает жанр монодрамы.
В пьесе «Смерть» опробованы возможности субъективизации с помощью метатематического сюжета и прямого слова героя. В драмах 1938 г. Набоков, опираясь на открытия театра Серебряного века, развивает специальные средства субъективизации: контраст способов моделирования образов главного и второстепенных героев, интерференцию текста персонажа в текст ремарок, перераспределение функций между ними, применение занавеса и специфическое мизансценирование.
Теоретическая значимость диссертации связана с установлением вариантов основания метафоры «мир - театр»; с показом продуктивности исследования выявленного Ю. Тыняновым приема пародичности; с доказательством возможности и перспективности нарратологического подхода к драме.
Практическое значение исследования состоит в том, что его результаты могут использоваться при составлении курсов по русской литературе XX века и литературе
русского зарубежья, формировании спецкурсов по поэтике драматургии Серебряного века и драматургии Набокова. Материалы исследования могут составить часть курсов, посвященных приемам межтекстового взаимодействия и нарратологическому подходу к драме.
Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены на IV Научной конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей «Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, ЧГАКИ, 2005), Итоговой научно-практической конференции преподавателей и студентов ОГТИ (Орск, ОГТИ, 2006), Российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики. Вопросы филологического образования» (Орск, ОГТИ, 2006), XIV, XV, XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ, 2007, 2008, 2009), Третьей международной конференции «Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения» (Москва, МГУ, 2008), IV Международном конгрессе исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» (Москва, МГУ, 2010).
Осмысление театральности Серебряного века в «Трагедии господина Морна»
Осознание смены ролей порождает у героя аналогию с судьбой Моцарта: «Вы как тот неизвестный, который пришел к Моцарту и заказал ему Реквием и больше не являлся, а Реквием звучал над Моцартом, над Моцартом» [Андреев, 1990, Т. 5]. Таким образом, «Реквием» дает лишь нисходящую линию обычного сюжета бунта. Пьеса раскрывает и новые основания для уподобления жизни театру. Ведущим критерием остается несвобода, принудительную силу которой олицетворяет заказчик, Его светлость. Впервые устроитель действия был уподоблен пушкинскому герою в трактате Сологуба: «Единый ровный и бесстрастный голос "человека в черном" ведет все театральное действие» [Сологуб, 2008, с. 157].Темные одежды героя Андреева и соотнесение с Черным человеком сочетаются с титулом по принципу оксюморона и служат способом изобличения злой сущности якобы светлого господина жизни.
Новые, мало задействованные ранее основания метафоры выявляет перечисление особенностей грядущего представления. Актеры играют перед несочувствующими, нарисованными зрителями. Единственный живой взгляд, направленный на них, — взгляд Его светлости, факт, снова отсылающий к трактату Сологуба. Явно отталкиваясь от мифов вокруг Людвига Баварского, Сологуб так представляет Единую волю: «Один в драме волящий - автор, один выполняющий действие — актер, один бы должен быть и зритель. В этом отношении прав был тот безумный король, который один в своем великолепном театре слушал игру своих актеров, таясь за тяжелым штофом в тишине и темноте королевской ложи. В трагическом театре каждый зритель должен чувствовать себя этим безумным королем, утаившимся ото всех. И никто не должен видеть его лица» [Там же, с. 161]. Напомним, что в «Реквиеме» Его светлость носит маску, кроме того, из разговоров понятно, что маска скрывает не просто высокопоставленное лицо, а августейшую особу.
Замену зрителей раскрашенными истуканами Директор назовет «предательством», и справедливо, ведь она уничтожает всякую возможность живого сочувствия жизни-игре. Идея жизни «на позорище» благодаря наличию фигур зрителей не исчезает, но делается особенно жестокой. Его Светлость также не намерен следить за спектаклем, он прямо говорит, что придет к моменту, когда застрелится актер. Тем самым отвергается мысль о воздаянии за хорошо сыгранные роли, актуальная для средневекового варианта метафоры. Особо подчерки-
вается, что все герои умирают по ходу действия, таким образом спектакль полностью исчерпывает их судьбу, не оставляет надежды на иное завершение. Информация, что представление будет дано лишь однажды, делает прозрачным еще одно основание, которое мы будем называть экзистенциальным. Неповторимость оказывается веским основанием для сопоставления жизни и спектакля. Коварный обман театра жизни кроется в том, что Директор долго воспринимает происходящее только как репетицию завтрашнего представления. И намек таинственного гостя: «Директор. Здесь нет еще актеров. Его светлость. А мы?» [Андреев, 1990, Т. 6] - сначала кажется лишь шуткой. Вторым сигналом о понижении Директора до роли актера служит появление среди персонажей будущей постановки умершей жены героя. Окончательно же становится ясным, что спектакль уже идет, когда директор остается один на освещенной сцене, лицом к нарисованной публике, выговаривая свою тоску и, разумеется, не встречая сочувствия. Одинокая фигура героя, склонившегося с криком «Милосердия», выдает такое отчаяние, что невольно вспоминаются слова Его светлости, что главный актер должен застрелиться в финале. Название пьесы также заставляет предугадывать трагический исход.
Таким образом, в пьесах Андреева метафора обнаруживает свою исконную прочную связь с проблемой свободы воли. Бунтующие герои претендуют на роль автора жизни и актерскую независимость. Игра же ассоциируется не с притворством, а со своеволием. Пьесы демонстрируют структурную важность образа Бога. Хотя у Андреева миром правит внелич-ностная сила, не сулящая ни награды, ни справедливого возмездия, театральная метафора предопределяет необходимость персонификации властного начала. Носитель высшего порядка является, как правило, отрицательным образом. Наиболее последовательно драматург возрождает разновидность метафоры, актуальную для христианства и опирающуюся на наличие указующей авторской воли. В зрелой пьесе «Реквием» выдвигается экзистенциальное основание сравнения - уникальность жизни-спектакля.
Перейдем к рассмотрению наполнения метафоры у тех художников, которые считали возможным построение собственной жизни по законам искусства. В произведениях символистов старшего поколения, приверженцев идеи автономности искусства (Бальмонта и особенно Брюсова) мы сталкиваемся с новым основанием уподобления. Театр становится той самой художественной формой, которую приглашали творить из своей жизни символисты.
Молодой Брюсов, только собирающийся сделать свой смелый шаг в литературу, наряду с оттачиванием стихотворной техники заботится и об эстетическом совершенстве своего образа, выстраиваемого по декадентской модели. Он жаждет непременной театральности жизни как свидетельства достижения ею желанного художественного совершенства. Во время болезни Е. А. Красковой он делает в своем дневнике циничную, но очень показательную запись: «Но если она умрет, разрубится запутывающийся узел наших отношений, распутается красиво, театрально и с честью для меня. О! Каково будет мое отчаяние. Я буду плакать, я буду искать случая самоубийства, буду сидеть неподвижно целые дни!.. А сколько элегий! Дивных элегий! Вопли проклятий и гибели, стоны истерзанной души... О! Как это красиво, как это эффектно» [Из дневника, 2004, с. 202]. Последующие записи свидетельствуют, что сценарий был реализован с экстатической силой. В имеющем несомненную автобиографическую подоснову венке сонетов «Роковой ряд» (сонеты «Маня» и «Лила») зрелый Брюсов подтверждает признанием свои былые стремления построить личные отношения по законам театра. Эстетическая направленность поступков обнаружена прямо: «Мне жизнь казалась блещущей эстрадой» [Брюсов, 1974, Т. 2. с. 304].
Оправданность театра жизни через привносимое эстетическое измерение очевидна и в стихотворении «Сонет» («О ловкий драматург, судьба, кричу я "браво"»). Хотя герой не избавлен от телеологического подхода к жизни («Одно желание во мне, в пыли простертом, // Узнать, как пятый акт развяжется с четвертым» [Брюсов, 1974, Т. 1, с. 321]), он смиряется со своей судьбой, постигая художественную необходимость происходящего: кричит «браво» «той сцене выигрышной, где насмерть был сражен», признается, что любит «красоту нежданных поражений» [Там же, с. 147]. Еще один поэтический текст, реализующий метафору, «Вот вновь мои мечты ведут знакомый танец», посвященный Наполеону, вполне бы подошел как иллюстрация к положениям апологета театральности Евреинова, не раз обращавшегося к личности французского императора за подтверждением своей теории. В образе Наполеона Брюсов подчеркивает именно внешне эффектное, поднятое до профетического: «Умел согласовать с Судьбой ты жест и Слово! // Актер великий!» [Брюсов, 1974, Т. 2, с. 184]. Таким образом, в реализации метафоры у Брюсова человеку отведена роль гениального актера, образ автора при этом либо отсутствует, либо заменен безличными судьбой и роком, воля которых не управляет актером, но угадывается им.
В стихотворении Бальмонта «Кукольный театр» (цикл «Художник-дьявол») представление марионеток служит желанным образцом для театра жизни. И хотя воплотимость идеала ставится под сомнение (неудовлетворенность художника вызывает призрачность, отсутствие онтологической укорененности его творений), тем не менее характеристика идеала говорит о новом прочтении метафоры. Резюмируют подчеркнутое восхищение изяществом и гармоничностью представления строки: «Но что всего важнее, как черта, // Достойная быть правилом навеки, // Вся цель их действий — только красота. // Свободные от тягостной опеки // Того, чему мы все подчинены, // Безмолвные они "сверхчеловеки"» [Бальмонт, 1989, с. 250]. Очевидно, преимущество марионеток — в отсутствии практических интересов и полном воплощении красоты в жизни-представлении.
В теории младосимволистов театр приобретает особый статус. С театром, вернувшимся к своим первоосновам, вновь поднявшимся до места ритуального действа, связывал свои жизнетворческие проекты Вяч. Иванов. Его статьи «Предчувствия и предвестья», «Вагнер и Дионисово действо» и др. предложили новое понимание преобразующего воздействия театра на жизнь. «Поворот театрального сознания к утопии был предопределен и обусловлен многими причинами. Однако совершился этот поворот благодаря Иванову, и, если бы его не было как поэта и философа, то общее движение театрально-утопической мысли, возможно, пошло бы по другому пути» [Стахорский, 2007, с. 88]. Однако в работах Иванова слово «театр» всегда сохраняет свое прямое значение.
В таком случае жизнь человека - это данная ему роль, и от него зависит понять эту роль и осветить ее творчеством. Но жизнь, освещенная творчеством, прекрасна. Стало быть, жизнь в творчестве побеждает рок. И потому-то назначение драмы - изобразить борьбу человека с роком - есть схема к творчеству жизни» [Белый, 1994; с. 153]. » Представленная в статьях «Формы искусства», «Песнь жизни», «Искусство» метафора у Белого опирается на несколько оснований. Во-первых, жизнь подчиняется искусству, оцениваемому, правда, скорее не по проявлению красоты, а по степени самоактуализации личности: «Созидание гармонической личности, т.е. личности сильной (героя), есть необходимое условие жизни, здесь жизнь — драма, личность - ее герой: здесь жизнь, как творчество, здесь искусство, как жизнь» [Белый, 1994, с. 168]. Во-вторых, автор видит в жизни повторение трагического конфликта рока и человека, но верит в непременную победу над обстоятельствами. Хотя в работах Белого человек уподобляется герою, по логике метафоры, личности, изменившей сценарий жизни, должна отводиться функция автора. И эта логика вербализуется во фразе: «И смутное закрадывается в душу предчувствие, что жизнь не жизнь, и что мы, как драматурги, ее творим» [Белый, 1994, с. 154].
Образ двойного театра в пьесе «Человек из СССР»
Во втором действии Ольга Павловна встречается с мужем в чужой комнате, за что тот ее бранит. Позже Кузнецов обещает зайти к жене, чтобы отдохнуть. Таким образом, за сценой существует еще одно, более личное, свое, пространство.
Впервые на особенность организации действия обратил внимание сын писателя Дмитрий Набоков. Он считает, что большинство деталей «создают иллюзию, что подлинное действие происходит где-то в другом месте» [Набоков Д, 2008, с. 522]. «Если же рассмотреть, как это воплощается в структуре пьесы, мы увидим, в двух действиях, удивительный контраст между тем, что происходит у нас на глазах, и куда более масштабными но незримыми событиями, которые развиваются за пределами сцены ... : громкие аплодисменты, сопровождающие неслышную лекцию на невидимой кафедре; съемочная площадка, орущий мегафон, бесконечные дубли одного и того же эпизода - восстания - за пределами заваленной декорациями сцены» [Там же, с. 522-523].
Д. Набоков видит задачу данного приема в том, «чтобы внимание зрителя или читателя отскочило рикошетом от сомнительной реальности за сценой, вернулось обратно и с новой силой сосредоточилось на зримом микрокосмосе пьесы» [Там же, с. 523-524]. Нас же интересуют не остраняющие возможности такого приема, а его включение в систему оппозиций пьесы. Коррелируя с представленной выше системой противопоставлений, оппозиция «закулисье - сцена» переходит из области пространственной в концептуальную, а спектакль оказывается на более ценностно значимом полюсе, поскольку принадлежит к той же внесце-нической сфере, что и Родина, полнота жизни, подлинность чувств.
По тем приготовлениям к съмкам, которые происходят в пространстве сценны, можно заключить, что картина явно принадлежит к лубочной продукции, собравшей все клиширо 58 ванные представления о России. Недаром Кузнецов, увидев декорации, замечает: «Фольклор у вас того, густоватый» [341]. В справедливости его слов убеждают костюмы: мужчины с бородами и женщины в сарафанах. В авторской ремарке, открывающей действие, атмосфера охарактеризована как «балаганные будни» [340]. Эти детали, казалось бы, отбрасывают отсвет иронии на сферу внесценического. Но мы предлагаем разделять организацию пространства пьесы, ее двуслопность, подразумеваемое наличие второй ячейки пространственной и концептуальной структуры, которая заполняется за счет подтекста, аллюзий и символов, и конкретный фильм, в котором участвуют герои и который, собственно, тоже принадлежит миру неподлинного.
Следует сказать, что и образ самого фильма двойствен. Выстраивать его только по фрагментам, представленным в четвертом действии, — значит не дочитывать пьесу до конца. В пятом акте, когда съемки завершены, образ фильма окончательно перемещается на положительный ценностный полюс. В рассказ Марианны о картине Набоков внедряет характерную для него метафору изнанки и лица действительности. Используется образ той семантической группы, которая обычно выражает представление об удачном собирании разорванной жизни в эстетически совершенное целое. Метафоры собирания жизни из кусочков событий неоднократно появляются в набоковских текстах. « ... И просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые так и сяк скрещивающиеся нити неразборчивых звуков — не что иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне» («Дар») [Набоков, 1990, Т. 3, с. 281]). «Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение Мнемозины: мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей партитуре былого» («Другие берега») [Набоков, 1990, Т. 4, с. 131]). « ... Фарфоровый иверень, и где-то ведь непременно должны были быть остальные, дополнительные к нему части, и я воображал вечную муку, каторжное задание, которое служило бы лучшим наказанием таким как я, при жизни слишком далеко забегавшим мыслью, а именно: найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот соусник, ту супницу ... » (Ultima Thule: [Набоков, 1990, Т. 4, с. 387]). В «Человеке из СССР» Марианна повторяет: «Сейчас еще, конечно, трудно говорить о фабуле, так как, знаете, снимают по кусочкам» [330], «Конечно, о нем трудно еще судить, так как он снимается ... по кусочкам» [333]. Тот же образ возникает и в авторской ремарке при описании киноателье: «Все это напоминает зрителю разноцветную складную картину, небрежно и не до конца составленную» [340]. Таким образом, обозначая на уровне структуры присутствие второго пространства, сам фильм в конкретике своего содержания выступает как текст в тексте, сначала, в момент съемки, утрированно воспроизводя нескладицу повседневности, а затем обнаруживая возможность ее творческого монтажа. Таким образом, театральная метафора расслаивается: есть балаган, штамп, пародия, которые представлены в действии, и намек на что-то настоящее, происходящее за сценой. Важно, что и это настоящее ассоциируется с фильмом — младшим братом театра.
Но театральная метафора возникает не только в связи со съемкой фильма. Герои часто определяют в театральных терминах повседневные события, внедряя метафору в жизнь. Время открытия кабачка называется «открытием сезона» [318], обстановка — «бутафорией» [318], в помещении не включают электричество, а «дают полный свет» [322], позже лекция названа «дивертисментом» [336].
Театральные законы распространяются и на поведение героев. И здесь театр выступает как сфера штампов. Кузнецов, желая сказать Таубендорфу, что тот романтизирует его и не видит реального дела, спрашивает: «Ты бы, вероятно, хотел меня видеть с опереточной саблей, с золотыми бранденбургами?» [319]. Но гораздо больше, чем статист Таубендорф, поддалась стереотипам театра фильмовая дива Марианна. Заметим, что фильм, в съемках которого она участвует, - ее первая роль, она еще не видела себя на экране. Вероятно, в жизни этой не юной дамы съемки в фильме - занятие случайное, и тем не менее, она восклицает: « ... Для меня искусство — это выше всего. Искусство — святое. ... Меня ничего в жизни не интересует, кроме искусства» [329]. С ролью актрисы, положившей жизнь на алтарь творчества, она соединяет амплуа роковой женщины. Эксплицирует источник поведения Марианны Кузнецов, когда на ее вычурную фразу: «Когда мне надоедает любовник, я бросаю его, как увядший цветок. Но сегодня ты мой, ты можешь меня любить сегодня. Отчего ты молчишь?» [332] отвечает: «Забыл реплику» [Там же: 322]. В четвертом действии Марианна, раненная холодностью Кузнецова, не хочет отказываться от лестного для себя амплуа. Это вносит в драматическое объяснение комические черты. Воображая себя большой актрисой, она говорит: «Я брошу сцену. Я забуду свой талант» [344]. А после холодного отказа, она, защищаясь от правды, продолжает «цитировать»: «Не смей мне писать. Нет, все равно, я знаю, ты напишешь... Но я буду рвать твои письма» [345]. В данном случае театр жизни — синоним самообмана. Для оформления образа использован уже не театр — храм искусства, а театр — скопище клишированных сюжетов и фраз.
Театр-фальшивка, мешающий пробиться к пронзительному ощущению бытия здесь и сейчас, лишь одна ипостась театральности жизни. Если на одном уровне играет только Марианна, а герой остается серьезен, то существует и другой. О нем говорят указания в тексте, позволяющие распространить метафору на все действие.
Пародийность как средство представления метафоры «мир - театр» в пьесе «Событие»
В первой и самой известной модернистской пьесе о замкнутости человека в ложном пространстве вечного лицедейства — «Балаганчике» Блока — еще нет обнажения механизма собраний, прием только зреет. Сцены поисков подлинного за бумажными декорациями замкнуты в рамки двух собраний - заседания мистиков и бала. Относительно объекта паро-дии при изображении мистиков написано немало : здесь называются и метерлинковские герои, и вполне реальные вчерашние товарищи Блока соловьевцы. Однако, допуская такую широкую направленность полемического выпада, необходимо обратить внимание, что обсуждение выморочных идей заключено у Блока в предписанную форму. Зарегулированность происходящего подчеркивается наличием председателя, заменой естественного разговора короткими вопросами и ответами, которые действуют как ритмический повтор и подчеркивают упорядоченность происходящего. В постановке Мейерхольда отсутствие в поведении мистиков живой спонтанности откровенно выставлялось напоказ. Достигалось это горизонтальным расположением фигур вдоль сцены и демонстративной скованностью движений персонажей.
В последнем эпизоде картины Блок разоблачает марионеточность мистиков: « ... Все безжизненно повисли на стульях», «Кажется, на стульях висят пустые сюртуки» [Блок, 1971. Т. 4, с.Л 1]. Эта сцена была решена Мейерхольдом особенно эффектно: «Когда входила Коломбина, лица перепуганных мистиков сразу исчезали, и вдруг оказывалось, что за столом — одни туловища без голов и без рук. Сапунов выкроил эти фигуры из картона и мелом по картону небрежно нарисовал сюртуки, манишки, манжеты» [Рудницкий, 1981, с. 116]. Если неподлинность нормированного бытия мистиков обозначало их исчезновение за костюмами, то искусственность бала подчеркивали взвившиеся декорации. Хотя действо обозначено просто «бал», на сцене веселятся фигуры в масках. Это не воспроизведение маскарада, просто посетители бала, те же самые мистики, как следует из ремарки, не имеют своего лица. И все же «Балаганчик» меньше всего говорит о машинерии собраний.
Гораздо детальней их механизм показан в третьем видении «Незнакомки». В качестве маркеров семиотизированной ситуации выступает необходимость развлекать гостей, которую хозяева дома натужно выполняют; обсуждение «высоких тем»; декларирование правил приличия, которым руководствуется общество. Здесь подробно перечислены все знаки, которые свято помнит хозяйка, желающая, очевидно, прослыть респектабельной. В ее доме, как положено, угощают чаем с бисквитами, молодежь собирается, чтобы вести разговоры об искусстве. Не забывают и старшее поколение, в ознаменование чего место с хозяйкой зани 32 Детально этот вопрос исследован в работах Т. М. Родиной [Родина, 1972 и А. В. Федорова [Федоров, 1980]. мает глухой резковатый дядюшка. Показателем утонченности должны служить чтение стихов и исполнение романсов. Чтобы гарантировать признание бонтонности, хозяйка при всякой неловкости подчеркнуто демонстрирует свою непричастность к вульгарной выходке: «я увела мою дочь» [Блок, 1971. Т. 4, с. 91], «стараясь замять разговор, кричит» [Там же, с. 90], «хозяйка краснеет и обращается к одной из дам» [Там же, с. 92]. Описание внешности хозяйки сразу задает тему искусственности, отсутствия человеческой гибкости: «дама как бы проглотившая аршин» [Там же, с. 90], ее муж «деревянным голосом кричит» [Там же, с. 90]. Эти нюансы настраивают на восприятие происходящего как представления, даваемого марионетками. Мотив механической повторяемости задает и глагол с нехарактерным для драмы значением имперфекта в ремарке: «каждому сначала кричит "А-а-а!", а потом говорит пошлость» [Там же, с. 90]. При том что параллель с первым действием выстроена, чтобы показать случайность любой формы, все-таки именно разговор в гостиной воспринимается как эхо того, что уже было. Ремарка «как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке» [Там же, с. 94] легко может быть отнесена не только к необъяснимой параллели ситуаций. Она разоблачает бесконечный круговорот светских бесед. Поэт, услаждая публику стихами, тоже оказывается в границах ситуации. Явной искусственность собрания делает присутствие персонажа, не вписывающего свои поступки в схему, - Незнакомки. Особенно важно ее исчезновение как реакция на тотальное подчинение всех законам ситуации. Так в «Незнакомке» пародийное изображение кода поведения в светской гостиной, основанное на разоблачении мнимой уникальности событий, становится одним из способов представления лживости, неподлинности жизни.
Сцена бала в «Жизни человека» Л. Андреева решена с плакатной выразительностью. Конечно, резкое соединение восхищения богатством хозяина и зависти, как и саморазоблачение потуг на культурную утонченность, вовсе не принадлежат сфере предписанного поведения, но очень точно вскрывает механизм реальной практики. Код, как было упомянуто, смешивается со своей реализацией. Основное внимание сосредоточено на фигурах угодничающих гостей. Реплики не соотнесены с именами персонажей, что позволяет рассмотреть гостей как коллективный субъект. Подчеркивают шаблонность ситуации механистичность поз персонажей и реплика-рефрен «Как пышно! Как богато!». Мотив театральности происходящего проходит в ремарках красной нитью. Снова, как и у Блока, герои лишены пластики живого человека: он сидят «застывшие в чопорных позах» [Андреев, 1990, Т. 2, с. 467]. Авторское замечание «так же туго говорят .. . только те слова, что вписаны в текст» [Там же, с. 467], конечно, не предписание актерам, играющим гостей. Ибо в современном театре, откуда давно ушла импровизация, такое предупреждение излишне. Фраза характеризует именно персонажей, чьи речи в буквальном смысле предписаны и как элемент знакового поведе 95 ния, и как роль в театре жизни. Обнажение схемы в воссоздаваемой действительности тесно переплетено с нарочитым обнажением художественного языка. Так, разделив свиту Человека на Друзей и Врагов, Андреев пометил их броскими знаками - белой и желтой розой и отразил во внешности строй души.
Поэтический театр М. Цветаевой, в частности цикл «Романтика», существует в пространстве условно романтическом. В «дилогии» о Казанове, пьесах «Приключение» и «Феникс», несмотря на документальный источник сюжетов, воскрешен не сам век, а представления о нем: галантные ухаживания, напоминающие сражения, где любовь достается самому остроумному, бесконечная череда авантюр и исполненные тончайшего флирта балы. Бал в «Приключении» и обед у графа в «Фениксе» — самые «массовые» сцены пьес, в них эпоха говорит многими устами. Здесь комплименты и изящная лесть необходимы, как бальный наряд, а искусству (музыке и поэзии) отводится роль гастрономического угощения. Характерно, что герои таких сцен обезличены, список гостей составлен из национальных масок: Посол французский, Посол испанский, Французская гостья, Польская гостья, Венская гостья — но даже национальная специфичность в поведении сглажена или отсутствует вовсе. Деинди-видуализация гостей обоих собраний продолжена и в характеристике. Они «представлены» автором как «марионетки», «куклы», «автомат». В «Фениксе» сцена бала имеет несомненные аллюзии на третье действие «Горя от ума»: Казанова, увлекшись рассказом о первом поцелуе, не замечает, что нарушил неписаные правила светской беседы, разрешающей только легкие темы, и что гости постепенно покинули его и отправились танцевать менуэт. Свои слова он заканчивает в одиночестве. Но если в «Горе от ума» жестоки оказывались все-таки гости, наделенные яркой характерностью, то здесь злую шутку с Казановой играет сам закон поведения в свете.
Театр Серебряного века не только сумел приспособить художественные языки ушедших эпох для воплощения современной проблематики, сделав, например, довольно примитивные маски площадной commedia dell arte средством воплощения раздвоенной, изломанной души человека рубежа веков (как в «Шарфе Коломбины» или в «Балаганчике»), устойчивые коды текста жизни также стали использоваться как готовая форма. Язык повседневности обнаружил возможность отрыва от содержания. В двух пьесах, «Царе голоде» Андреева и «Неизменной измене» Евреинова, происходит остранение форм социального поведения и перенос в другую сферу.
Возможности передачи точки зрения героя в ранней драматургии В. В. Набокова (пьеса «Смерть»)
Ремарки в пьесах Набокова по типу значительно отличаются от андреевских. Они крайне скупы и в основном информируют о перемещениях героев. Следует констатировать отсутствие у Набокова психологической [Ивлева, с. 81], или характерологической [Сперан-тов, с. 13], ремарки: выраженное в голосе чувство, читаемое по лицу и жестам настроение крайне редко передаются во вспомогательном тексте. У Андреева, напротив, вспомогательный текст столь пространен, что лишается всякой возможности полного воплощения. А в пьесе «Океан» символическое наполнение образа стихии (« ... Из хаоса, из океана, объемлющего наш сознательный мир, из игры сил, находящихся за порогом сознания, может родиться новый свет, какой-то новый огонь, имени которому никто не знает» [Козловский, 2002, с. 59]) обеспечивает именно ремарки. Подобный текст не рассчитан на полное сценическое воспроизведение и не дублируется в репликах героев, но именно он несет важную эстетическую нагрузку. При восприятии таких ремарок как вспомогательного текста смысл пьесы останется закрытым от интерпретаторов, ибо именно близостью к данным в ремарках символам проверяются позиции героев.
Набоков не эмансипировал текст ремарок в той же мере, что и Андреев. Об учете Набоковым андреевского опыта по трансформации вспомогательного текста можно говорить только применительно к монодраме. Впервые он привлек для передачи персональной точки зрения вспомогательный текст в пьесе «Смерть»65. Во втором действии очнувшийся Эдмонд не сразу понимает, где он находится и кто перед ним: «А там в углу - в громадном кресле — 4 кто там сидит, чуть тронутый мерцаньем?» [85] Авторский текст проникнут недоумением героя: собеседник Эдмонда сначала назван «Человеком в кресле» [85] и лишь после узнавания снова обретает имя «Гонвил». Эдмонд частично «присваивает» и функции субъекта ремарок. В первом действии кабинет Гонвила не был описан в ремарке. Очевидно, войдя в знакомую комнату, не стал осматриваться и Эдмонд. Но во втором действии, осваивая новую, как ему кажется, обитель, Эдмонд подмечает все: «... Но как же, Гонвил: вот комната... Все знаю в ней... Вон — череп // на фолианте; вон - змея в спирту, // вон — скарабеи в ящике стеклянном, вон - брызги звезд в окне, - а за окном, — чу, слышишь, — бьют над городом зубчатым // далекие и близкие куранты ... » [86]. Перед нами чистый случай замещения функций ремарки текстом героя.
Если в драме «Смерть» описанный прием соседствует с представлением точки зрения с помощью традиционных средств (организации диалога, характера конфликта), то в поздней пьесе «Изобретение Вальса» прием включен в целую систему новаторских средств. В третьем действии к Вальсу приводят красавиц, набранных в гарем. В ремарке они обозначены просто как пять женщин. Вальс не только не знает, как их зовут, но сначала не различает их внешности. Две женщины, к которым первоначально обращается Вальс, обозначены «Та» и «Вторая» [473], и только представившись правителю, они обретают имена в ремарках. Перед нами случай отражения перцептивной точки зрения героя. В авторском тексте сказывается та же ограниченность знания, которая присуща и центральному персонажу. Именование двух других женщин отражает не только уровень знания героя, но и его фразеологическую точку зрения. После того, как Вальс спрашивает: «Почему... почему она такая толстая?» [474], в авторском тексте появляется соответствующее имя — «Толстая». Обозначение для второй подсказано репликой другого персонажа — Сона: «Ну, знаете, не все же развлекаться с худышками. А вот зато сухощавая» [474]. Наименование «Сухощавая» остается за ней, потому что с этой характеристикой она попала в фокус внимания Вальса. Как и у Андреева, прием влияния речи персонажа на вспомогательный текст соединяется с перераспределением функций между двумя видами текста. Нарратор отказывается от ремарок, описание внешности героинь передоверяется Вальсу. Вместе с героем читатель не сразу узнает о явных изъянах приведенных женщин. Но отражение знания героя в ремарках вовсе не постоянно. Так, идентичность персонажей, исполняющих роль чиновников, генералов и нового штата прислуги Вальса, задается только именем, указанным в авторском тексте. И хотя герой этой повторяемости лиц не замечает, ремарки предупреждают нас об этом.
Отсутствие описания женщин не единственный случай «перераспределения функций». Вальса постоянно преследует детская машинка, которую он видит в руках то одного, то другого героя. Поскольку о существовании машинки мы узнаем только из реплик Вальса, а прочие отрицают ее наличие, наше восприятие снова ограничено кругом знаний героя. В данном случае отказ от ремарок позволяет не только передать видение героя, но и представить двойную мотивировку. Заставив нарратора упомянуть о появляющемся предмете в ремарках, автор упростил бы ситуацию, сделав персонажей, отрицающих это, просто обманщиками. Вместо возможности прямо упомянуть, что предмет - плод галлюцинаций героя, автор организует сообщение о машинке таким образом, что избирает для читателя и героя сходную ситуацию сомнения. Этот прием намеренной непроясненности можно считать собственным изобретением Набокова.
Как мы уже отмечали, Набоков крайне скуп на ремарки. Отдельные жесты, передвижения героев не упоминаются, если они могут быть восстановлены из реплик других персонажей. Конечно, изобилие подобных мест в пьесе «Изобретение Вальса» тоже добавляет сновидческие черты ее атмосфере. Но отличие проанализированных сцен от этого скупого на ремарки фона несомненно. Если обычные передвижения по сцене не значимы для развития конфликта, то в сцене с гаремом субъективная точка зрения освещает ключевой момент, когда потаенная мечта Вальса должна вот-вот осуществиться. Машинка же указывает на некую болевую точку в сердце героя еще тогда, когда все его комплексы не раскрылись для зрителей. В то же время эта не до конца понятная деталь намекает не только на случай ущемленного самолюбия, но и на пережитое персонажем горе.
Статус самого простого, по крайней мере, ожидаемого прежде всего средства должно иметь воспроизведение субъективных особенностей видения центрального героя, включение фрагмента его бреда или мечтаний. Здесь под видением мы подразумеваем особенность визуального ряда, спровоцированную сознанием героя. Этот прием предполагает как изменение предметов, так и внешнюю трансформацию персонажей или введение новых. Именно подобные фрагменты (появление тени отца Гамлета в третьем действии трагедии Шекспира) Евреинов приводил как образец монодраматизации. К воссозданию того, что видно лишь герою, прибегал и Сологуб, когда выводил на сцену Недотыкомку или изображал танец карт. В «Незнакомке» Блока сцена с исчезающими стенами кабачка может быть воспринята как экс-териоризация видения реальности подвыпившим поэтом.
Разумеется, монодрама в строгом смысле слова должна стать непрерывной интроспекцией. Но при обращении к условности и гротеску, которыми авторы стремятся подчеркнуть преломленное, не тождественное данности восприятие, такое постоянное искажение может восприниматься зрителем как черта авторского стиля и не соотноситься с особенностями чьего-то конкретного видения. Эффектней выглядят субъективные врезки. Отдельные зримые интроспекции в мечты героев давал в своем «Ревизоре» Мейерхольд. Одной из самых запоминающихся была сцена с городничихой. «Распрощавшись наконец с городничихой, Добчинский отчаянной походкой, как бы заколдованный Эросом, уходил, но - не в дверь, а в шкаф. Тотчас загремели пистолетные выстрелы. И из шкафа, из-под кушетки — отовсюду - грянули красавцы офицеры в блестящих мундирах. .. . Офицеры находились за гранью реальности, воспринимались как эротическое видение Анны Андреевны» [Рудницкий, 1981, с. 342-343].