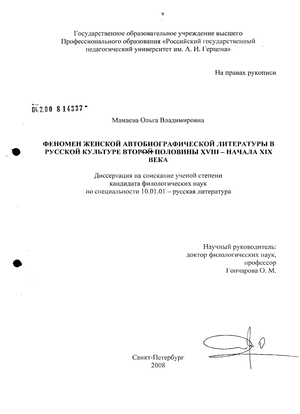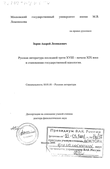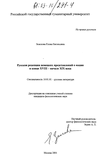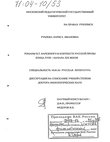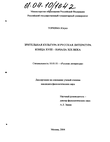Содержание к диссертации
Введение
Глава I Теоретико-методологические предпосылки исследования женских мемуарных текстов XVIII - Начала XIX века 21
1. Женский дискурс: история интерпретации 21
2. Современные интерпретации дискурса о женском 32
3. Традиционные формы самоопределения личности в русской культуре допетровского времени 40
4. Человек в петровскую эпоху 46
5. Житие, автожитие и мемуарная традиция 50
Глава II Идеальная женская личность в «своеручных записках» Н. Б. Долгорукой 56
1. История восприятия и интерпретации «своеручных записок» н. Б. Долгорукой 57
2. Специфика образования текста и его семантики в «своеручных записках» н. Б. Долгорукой 67
Глава III Путь «Истинной христианки» в мире земных страстей в «Воспоминаниях» а. Е. Лабзиной 92
1. Агиографическая традиция в «воспоминаниях» А.Е. Лабзиной 97
2. Масонская религиозная мистика и «воспоминания» а. Е. Лабзиной по
Глава IV Универсальная женская личность в «Записках» е. Р. Дашковой 138
1. Дискурсивные потенциалы ^-повествования в «записках» Е.Р.Дашковой 142
2. Строительство, творение, возделывание: религиозно- философская утопия е. Р. Дашковой 157
Глава V Женская героиня и русская история в «Записках» Екатерины II 180
1. «Записки» екатерины ii как исторический источник 183
2. «Записки» екатерины ii как текст культуры 196
3. Творение текста и «сотворение истории» в «Записках» Екатерины II 202
Заключение 228
Библиография 233
Литература 234
- Женский дискурс: история интерпретации
- История восприятия и интерпретации «своеручных записок» н. Б. Долгорукой
- Агиографическая традиция в «воспоминаниях» А.Е. Лабзиной
- Дискурсивные потенциалы ^-повествования в «записках» Е.Р.Дашковой
Введение к работе
В конце XX века в гуманитарных науках наметилась тенденция к интенсивному изучению периферийных и маргинальных историко-литературных явлений. Такие явления в прежней научной традиции исследовались мало, поскольку порождены на границе литературы и внелитературных форм речевой деятельности — быта, который, по определению Тынянова, «кишит рудиментами разных интеллектуальных деятельностей» [Тынянов 1993: 130]. Примером могут быть исследования в области современного городского, детского фольклора, «наивной», «провинциальной» и массовой литературы А. С. Архиповой, В. В. Барановой, С. Б. Борисова, О. Вайнштейн, А. П. Минаевой, И. Л. Савкиной, И. В. Утехина и других ученых.
Одним из самых интересных «маргинальных» явлений культуры, долгое время не привлекавших к себе подлинно научного интереса, является женское письмо и особенно «женский» дискурс о женском. Речь идет в данном случае не просто о творчестве женщин-писательниц, а о таких текстах, в которых в форме .#—повествования смоделирована сюжетная ситуация автопрезентации женской личности (автобиографические записки, дневники, воспоминания). Русские женские автобиографии изучены пока мало и неполно, они практически не известны широкому кругу читателей, а между тем могли бы стать настоящим «открытием» в познании истории русской личности, русской культуры и литературы. Однако любое намерение к такому познанию (и научное, и читательское) сталкивается с целым рядом трудностей и проблем. Если читатель может лишь посетовать на малочисленность изданий женских мемуаров (в первую очередь — текстов давнего времени), то исследователь русской культурной и литературной традиции оказывается в странной ситуации «отсутствия в присутствии». Сегодня в науке проявляют себя и интерес к мемуарам, и тенденции к их изучению и интерпретации, но при всем этом пока еще не сложилась система
общепризнанных и общезначимых исследовательских парадигм и стратегий в понимании и описании этого культурного феномена.
«Недооценка мемуаров в литературоведческой науке, — по мнению Е. Л. Шкляевой, — во многом объясняется сложным, неоднозначным отношением к ним различных художников (А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. Ахматовой и др.). Другая традиция идет от В. Г. Белинского, ценившего в мемуарной литературе достоверность, а потому считавшего ее "последней гранью в области романа"» [Шкляева 2002: 3]. К настоящему времени исследователям мемуарного жанра (теория которого находится пока на стадии формирования и обсуждения) удалось определить только несколько параметров, в соответствии с которыми происходит отграничение жанра от других литературных форм и его внутренняя дифференциация. Это прежде всего хронологическая «точка» становления мемуарного текста и его структурообразующее ядро, то есть описываемое историческое событие и личность автора. Однако в подходе к интерпретации конкретного мемуарного текста этих, как считается — основных и основополагающих, критериев оказывается явно недостаточно. Ведь любые "-'записки, автобиографии, воспоминания — в первую очередь повествовательные письменные тексты, так или иначе, связанные с законами наррации, с дискурсивными стратегиями культуры и существующими в ней механизмами текстообразования.
Тем не менее современные теоретические концепции, связанные с определением специфики нарративных текстов и функции дискурсивных практик, пока не нашли своего применения в анализе автобиографического повествования. По всей- видимости, мемуарная проза, считающаяся строго документальной и «прикладной», не представляется современным исследователям материалом, адекватным теориям текста. Но именно в связи с ними выявляется самая серьезная проблема в понимании мемуаров, являющаяся даже своеобразным теоретико-методологическим казусом. Это так и не сформированное, несмотря на нарративную природу
6 автобиографических текстов, отношение к двум дискурсивным уровням, характерным для любого повествования: референтному и коммуникативному (см. об этом: Ссшорукова 2002, Тюпа 2002, Genette 1980, Lejeime 2001). Чаще всего в мемуарах видят только уровень референтный, то есть рассказ об истории жизни или о каких-то реальных происшествиях. Внимание к этому уровню настолько велико, что им, по сути, и исчерпывается содержание текстов, а сами тексты обретают характер «документа». При этом организация рассказа об истории или историях, структурированная Я— повествованием, то есть собственно коммуникативное событие нарратива (дискурс по поводу истории, случая и т. д.), остается вне поля зрения при интерпретации мемуарного текста. Как справедливо отмечают некоторые исследователи жанра, мемуары «стали кладовой для историка, который время от времени прихватывал оттуда то факт, то черты быта, то какое-нибудь суждение, сами же они предметом исследования не стали» [Чайковская 1980: 209]. И различные научно-филологические школы, «не уделяя внимания мемуарам как самостоятельному жанру <...>, рассматривали их в качестве историко-культурных и прочих источников» [Шкляева 2002: 3].
Действительно, исследования автобиографических текстов (например, классические работы К. И. Чуковского о «Воспоминаниях» А. Панаевой-Головачевой), многочисленные вступительные статьи, предваряющие публикацию мемуаров, отличаются именно тем, что рассматривают их как исключительно документально-исторический источник сведений о достоверных и конкретных биографических и исторических фактах. Введенные русскими формалистами в научный обиход понятия «литературного быта» и «литературного факта» лишь отчасти изменили общее состояние проблемы. - Показательно в этом плане отношение исследователей к «Запискам» Е. Р. Дашковой. Например, М. М. Сафонов считает, что этот текст — «важнейший источник биографических сведений» об авторе и содержит «ценный материал для того, чтобы составить
представление о ее личности, нарисовать психологический портрет» [Сафонов 1996: 14]. И действительно «Записки» Дашковой, которым посвящен целый ряд работ, рассматриваются только в этой перспективе, о чем свидетельствует, например, и солидный научный сборник «Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы» (СПб., 1996).
Аналогичное отношение к мемуарам различных эпох высказывают и другие ученые-филологи и историки: общим местом современных гуманитарных наук стал рассказ о той или иной личности, о тех или иных событиях только на основе материалов, содержащихся в воспоминаниях или дневниках. Это, например, сведения и факты биографии А. С. Пушкина, М. И. Глинки и их современников, почерпнутые в «Воспоминаниях» А. П. Керн и ставшие общеизвестными. Они никогда не подвергаются сомнениям и активно используются в научных работах и концепциях. Однако внимательный анализ текста позволяет увидеть наличие в нем особых моментов. Е. Л. Шкляева рассмотрела эти «Воспоминания» как текст, подверженный «вторичному моделированию» и показала, как влияют на текст «литературные модели» даже в описаниях, казалось бы, сугубо конкретных и реальных фактов. Керн, считает исследовательница, «мифологизирует тех, о ком вспоминает, переводит из реального плана <...> в план художественный». Например, «облик Глинки воссоздан <...> по ассоциации с пушкинским персонажем из "Египетских ночей", или во всяком случае под его впечатлением» [Шкляева 2000: 143, 139]. Отмечает исследовательница и другие литературные мотивы и образы в «Воспоминаниях» Керн, которая в угоду литературным сюжетам идет осознанно или неосознанно даже на искажение подлинных событий. Так, мемуаристка пишет, что Глинку отпевали в той же церкви, что и Пушкина, и она плакала на одном и том же месте. Однако Глинку отпевали в Александро-Невской лавре, и «"одно то же место" они занимали только в душе и памяти мемуаристки», а не в реальности [Шкляева 2000: 142-143]. О нарративной сложности автобиографического жанра говорят в своих
исследованиях и другие авторы. Так, «автобиография, — по замечанию Б. В. Дубина, — воплощение самостоятельности и осознанной позиции индивида, его гражданской, политической, моральной зрелости, его эстетической ответственности. Это форма крайне сложная, даже изощренная, почему она и появляется в истории культуры так поздно, фактически одновременно с тем, как в литературной жизни кристаллизуется полноценная фигура автора» [Дубин 2000: 110].
Действительно, мемуары и дневники — это тексты, устроенные и построенные более сложно, чем принято считать. С точки зрения Ю. Н. Тынянова, в одной системе они могут быть фактом литературы, а в другой — внелитературным явлением. Ученый, проявляя особое внимание к такого рода «документальным» текстам в культуре, подчеркивал, например, «огромное значение в литературной эволюции <...> эпистолярной литературы XIX века», а ее «статическое обособление», по его мнению, «вовсе не открывает пути к литературной личности автора и только неправдоподобно подсовывает вместо понятия литературной эволюции и литературного генезиса понятия психологического генезиса» {Тынянов 1993: 124-126]. Для Ю. Н. Тынянова письмо XV11I века — явление особого рода: когда-то «бывшее документом» со временем оно «становится литературным фактом» [Тынянов 1993: 130-132]. Точка зрения Ю.Н.Тынянова вполне применима и к характеристике другого типа текста — мемуаров и автобиографий, функционально аналогичных жанру письма.
Двойственность определения мемуарного жанра и его границ видели и другие представители русской формальной школы. Например, Л. Я. Гинзбург рассматривала мемуары и как безусловный факт литературы и как феномен того, что формалисты называли «бытом». В ее работах можно встретить довольно условную дифференциацию мемуарных жанров, которые в авторской концепции названы «промежуточной прозой»:
«Мемуары, автобиографии, исповеди — это уже почти всегда литература,
предполагающая читателей в будущем или настоящем, своего рода сюжетное построение
9 образа действительности и образа человека; тогда как письма или дневники закрепляют еще не предрешенный процесс, процесс жизни с еще неизвестной развязкой. Динамика поступательная сменяется динамикой ретроспективной. Мемуарные жанры сближакяся таким образом с романом, с ним не отождествляясь» [Гинзбург 197Г. 12].
Пытаясь установить типологию «промежуточной прозы», исследовательница отмечала, что «типология мемуаров многообразна <...>. Иногда лишь самая тонкая грань отделяет автобиографию от автобиографической повести или романа» [Гинзбург 197 Г. 137]. Для Л. Я. Гинзбург в изучении мемуаров важна ориентация на подлинность и событийность, что должно отличать их от художественной автобиографической прозы. Тем не менее в своих работах Л. Я. Гинзбург так и не определила принципы такого отличия.
Более последовательно и детально типология мемуаров в их связи с генезисом жанра «романа-мемуаров» в западно-европейской литературе XVII — XVIII веков исследуется В. Д. Алташиной: . она отмечает доминирующее влияние мемуарной литературы XVIII века на создание романа как жанра и делает попытку вслед за Ф. Леженом и Ж. Женеттом рассмотреть именно художественные средства, используемые в мемуарах и автобиографиях, от хроникализации до романтизации действительности [Алташина 2007].
Однако в отношении русской мемуаристики, как пишет М. Я. Билинкис, посвятивший отдельное исследование мемуарным текстам и документальной прозе XVIII века,
«следует учитывать, что определение текста как мемуарного или автобиографического связывается обычно с интуитивным восприятием его как такового (главные критерии здесь — я думаю, мне так кажется) или с традицией. Отсюда естественны и неопределенность в дефинициях русской мемуаристики, которые мы обнаруживаем в разных справочниках, и весьма расплывчатое заключение о том, что мемуарная литература — '"явление, исторически складывающееся, истоки которого находятся очень далеко"» [Билинкис 1995: 11].
Как представляется, проблема в данном случае заключается все-таки не в том, чтобы, наконец, найти четкие дефиниции, границы или специфические черты мемуарной прозы1, а в том, чтобы определить и сформулировать новые принципы и подходы к пониманию ее дискурсивной и нарративной природы. Современное гуманитарное знание и появившиеся в нем новые теоретические концепции осмысления феномена «речеповедения» в культуре позволяют определить такие принципы. Как отмечает И. П. Смирнов, сегодня «нарратология увлечена постижением той логики действий, которая в одинаковой мере релевантна и для эстетически отмеченного повествования, и для социального поведения, и для описания исторических событий» [Смирнов 2001: 226]. Если нарратология занимается постижением логики коммуникативных действий, то те категории и понятия, которые так настойчиво ищутся сегодня исследователями мемуаров, оказываются, по сути, факультативными для постижения такой логики и для понимания семантики текста: Можно сказать, что представления о том, что перед нами — жанр мемуаров или автобиографический роман — абсолютно не достаточно для понимания семантики текста: строгие жанровые определения -не только факультативны, но и не дают никакого инструментария или «ключа» к адекватному прочтению и истолкованию текста. В этом случае более продуктивными оказываются другие основания для подхода к анализу автобиографического текста, опирающиеся на сформулированную еще М. М. Бахтиным идею о «речевых жанрах» или «речевых практиках» культуры. С этой точки зрения, определенный жанр является и определенным типом или формой «речевого общения» конкретной культурно-исторической ситуации или эпохи, то есть одной из форм системы, дискурсивных практик в общем коммуникативном пространстве культуры. Недаром А. Я. Гуревич, рассматривая монографию историка Н. 3. Дэвис
Подобное «решение» проблемы предлагается в ряде современных исследований, посвященных автобиографиям в широком понимании—см., например, в: Бронская 2001; Михеев 2006, Савина 2002.
11 «Women on the Margins. Three Seventeenth-Century Lives» (1996), посвященную трем женским автобиографиям XVII века, определяет тот особый метод «культурной антропологии», согласно которому «Fiction и History решительно разграничены, и ни в коей мере не смешиваются. Таков метод, которого придерживается Дэвис и какому <...> надлежало бы следовать любому историку» [Гуревич 2005: 627].
Мемуарные тексты, таким образом, следует рассматривать как тексты, порожденные общими коммуникативными стратегиями культуры, то есть как виды речевой деятельности и тип речевой практики. При таком подходе на первый план выдвигается проблема построения данного высказывания как отдельного проявления речемыслительной деятельности человека данной эпохи2. Следовательно, самым важным и, действительно, основополагающим направлением в исследовании мемуаров оказывается не то, о -чем они--рассказывают, а то, как они об этом повествуют, как проявляет себя в способе рассказывания личность повествующего, обусловленная*^ 'своей, эпохой, и определенными ментальными установками, и характером своей «речевой деятельности»3. Эта личность не только пишущая, но и «языковая» (в терминологии Ю. Н. Караулова), обладающая не только навыками письма и стиля, но и своей «речемыслью» (в терминологии В. В. Колесова).
Но и на этом пути перед исследователем женской мемуаристики возникает ряд серьезных препятствий. Речь идет о популярном сегодня «гендерном подходе» к изучению и интерпретации литературных произведений. Сторонники «гендерного» взгляда на историю литературы склонны выделять женский дискурс и дискурс о женском в отдельную и
2 Ср., например, со сходным утверждением Б. В. Дубина о том, что биография и шире — автобиография в
XV11I веке — «как синоним исходной полноты самореализации становится в конечном счете микромоделыо
культуры, понимаемой в духе кантовского Просвещения» [Дубин 2001: 104].
3 Следует отметить, что отчасти решение проблемы описания автобиографии как речевого жанра (с позиций
коммуникатологии и нарратологии) представлено в учебном пособии Николиной П. Л. «Поэтика русской
автобиографической прозы» [Николина 2002]. Более подробно о проблемах исследования
автобиографической литературы в современном литературоведении см, в: [Гречаная 2003].
специфическую область, отличную от общего историко-литературного процесса (см. об этом, например: Савкина 2007; Розенхолъм 1995: 151). В работах исследователей, активно занимающихся женским дискурсом, оформился и особый тендерный подход к текстам со своими методологическими принципами, которые зачастую противопоставляются традиционным литературоведческим. Такая спецификация представляется несколько надуманной, поскольку развитие культуры и ее речевых практик подчинено общим механизмам словотворчества. Женское письмо в этом случае является одним из закономерно обусловленных типов общего речевого потока культуры. Конечно, оно имеет свои отличительные признаки и характеристики, но именно эти отличия и ставят перед заинтересованным исследователем вопросы о том, как женские тексты участвовали в историко-литературном процессе, что привнесли в него, чему способствовали"!! от чего отказались. И, поскольку женщины выразили себя в повествовательном слове, при любых подходах к изучению феномена женского- игнорировать предложенный самими авторами способ автопрезентации — литературный
ТеКСТ, НеВОЗМОЖНО И НЄ НуЖНО. i',:k.
Существует еще одна, актуальная именно для исследователя текстов XVIII века, проблема. Это — отсутствие общепризнанной концептуализации специфики бытования текста в русской культуре второй половины XVIII века. Сложность решения этой проблемы состоит в том, что пока обобщающих работ по русскому XVIII веку очень мало, хотя о специфике этой культурной эпохи, ее многогранности и актуальности дальнейших углубленных и всесторонних научных разысканий уже не раз говорили авторитетные специалисты (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, В. Н. Топоров, В: М. Живов, А. Л. Зорин, О. М. Гончарова- и др.). К тому же, для отечественного литературоведения в целом характерно «пренебрежение» прозой и мемуарами XVIII века. Как отмечает М. Я. Билинкис,
«нетрудно заметить, что в исследованиях о русской литературе XVIII века прозаическим произведениям традиционно отводилось и отводится второстепенное место.
13 Чаще всего им посвящаются отдельные статьи или узко специальные диссертационные сочинения. Современные монографии, главным героем которых становился проза первой половины XVIII столетия, выпускаются по преимуществу за пределами России. Однако и в них прозаические жанры возникают как некая экзотика, комментирующая процессы на "магистральной линии" — в русской поэзии этого периода» [Билинкис 1995: 3].'
Действительно, русская проза XVIII века, несмотря' на наличие целого ряда интересных работ (Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Т. Е. Автухович, М. Я. Билинкиса, М. В. Иванова, Ф. 3. Кануновой, Н. Д. Кочетковой, Г. Н. Моисеевой, Е. А. Суркова,), изучена пока не в той мере, которая могла бы обеспечить достоверное и полное описание общих ее характеристик, особенностей и путей развития. Причиной этого являются прежде всего те историко-литературные схемы, сквозь которые принято рассматривать литературу XVIII столетия в целом. О догматическом характере таких схем, об их несоответствии реальному положению дел уже не раз говорили авторитетные ученые, но исключительный интерес и привязанность к «магистральным» линиям литературы определяют и современные представления о русском XVIII веке. Однако эти, уже не раз и основательно описанные «магистральные» линии, связанные в основном с развитием поэзии (классицизм - сентиментализм - предромантизм), практически не затрагивают таких текстовых потоков русской культуры второй половины XVIII века, как мемуары и автобиографические записки, несмотря на то что «XVIII век предстает периодом утверждения мемуарного жанра» [Хренов, Соколов 2001: 329].
Особенно невнимательна современная наука к женским мемуарам этой эпохи. Показательно, что даже в специальном исследовании М. Я. Билинкиса речь идет только о мужских мемуарах, которые .оказываются примечательными именно потому, что их авторы активно участвовали в государственной деятельности или были офицерами русской армии, а потому оставили много интересных свидетельств о своем времени. Рядом с такими текстами и в соседстве с вершинными явлениями русской словесности XVIII
века женское письмо представляется явлением факультативным, спонтанным и единичным.
Таким образом, можно говорить о том, что научная традиция, исследующая специфическое женское творчество и тексты, созданные женщинами-авторами XVIII века, пока находится в России на стадии становления. Актуальны для современной науки и поиски обоснованных теоретико-методологических стратегий изучения женских мемуарных текстов. Существующая система подходов к анализу и интерпретации мемуаров в целом позволила создать ряд историко-литературных описаний и классификаций, расширивших наши представления о текстовой специфике русской культуры и литературы. Но нельзя не видеть, что эти описания, исчерпав возможности, предоставленные исследователю уже освоенными аналитическими методами, не позволяют литературоведческой мысли развиваться дальше. Очевидно, что теперь необходимо, идти не только к дальнейшей систематизации мемуарной прозы, к поискам новых источников и обнаружению новых текстов, но прежде всего — к углубленному осмыслению своеобразия автобиографического повествования, его сущности как особого культурного феномена, имеющего и воплощающего свои дискурсивные задачи. Особенно это касается именно женских мемуаров и текстов отдаленных эпох, например русского XVIII века.
Проблема в данном случае состоит и в том, что общепринятая система оценок, по сути, не учитывает в подходах к мемуарам целого-ряда значимых и существенных факторов: таких, например, как специфика культурно-исторической реальности. Ведь для каждой культурной эпохи показательна своя четкая и строгая система «координат», моделирующая в сознании современников семантику той категориальной матрицы, сквозь которую воспринимается, понимается и, главное — создается какой-то тип текста. Каждая культурная эпоха диктует и свои правила оценки личности человека, которая и становится главным предметом авторской рефлексии в Я— повествовании. Следовательно, в исследовании мемуарных текстов XVIII
века одной из самых значимых методологических установок должно быть
особое внимание к культурному и историко-литературному контексту этой
эпохи, к специфике общего дискурсивного пространства и
коммуникативными стратегиями культуры данного времени. Другой
важной характеристикой предлагаемых исследовательских стратегий
является подход к мемуарному тексту как тексту нарративному, что
предполагает необходимость и возможность анализа мемуаров как
организованного и структурированного повествования не только с точки
зрения жанровой формы, но и семантики произведения. Так, по мнению
крупнейшего исследователя автобиографического жанра, Ф. Лежена, «у
автобиографического жанра свои правила структурирования» [Лежен
2000]. В этом плане особого внимания заслуживает фигура Я—
повествователя, поскольку именно в автобиографическом повествовании
этот субъект речи обладает особой значимостью для интерпретации всего
произведения в целом: - <1- -,г"~
«This perhaps authorizes us to organize, or at any rate to formulate, the problems of analyzing narrative discourse according to categories borrowed from the grammar of verbs, categories that I will reduce here to three basic classes of verb determinations: those dealing with temporal relations between narrative and story, which I will arrange under the heading of "tense"; those dealing with modalities (forms and degrees) of narrative "representation", and thus with the "mood" of the narrative; and finally, those dealing with the way in which the narrating itself is implicated in the narrative, narrating in the sense in which I have defined it, that is, the narrative situation or its instance, and along with that its two protagonists: the narrator and his audience, real or implied ... voice»4 [Genetic 1980: 30-31].
'* «Что, вероятно, заставляет нас классифицировать или, во всяком случае, сформулировать проблемы анализа повествовательного дискурса согласно категориям, заимствованным из грамматики глагольных форм, категориям, которые я сокращу здесь до трех основных морфологических признаков глаголов: те, что имеют соотносятся с темпоральными отношениями между нарраіивом и историей, я назову «временными»; что имеют дело с модальностью (форма и степень) нарративной «репрезентации», а следовательно, имеюі отношение к «модальности» нарратива; и, наконец, те, благодаря которым повествование само по себе имплицировано в нарративе, то есть то, что я определяю как ситуацию повествования, собственно повествование, соединяющее две составляющие: автора и аудиторию, действительное и выдуманное, ... "залог"» (здесь и далее перевод мой — О. М).
Главное внимание исследователя должно быть сосредоточено в-этом случае не на реально-историческом авторе записок или воспоминаний; а на образно-речевой организации текста, за которой и стоит фигура «говорящего» или «повествующего», kw ^'Опыт современных гуманитарных наук, таким образом, определяет новые возможности и исследовательские стратегии в изучении автобиографических текстов, особенно — женских текстов XVIII века, которые пока не привлекали к себе пристально внимания. Необходимость такого исследования, настоятельно ощущаемая сегодня, определяет актуальность диссертационной работы. Основной ее целью является изучение женских мемуаров второй половины XVIII - начала XIX века как культурного феномена, порожденного своим временем и определенного своеобразием его дискурсивных практик и текстообразующих механизмов. Щавный предмет исследования — специфика текстовой организации женских мемуаров и их роль в русской культуре второй половины XVIII -начала XIX века. Этим обусловлены и основные задачи диссертационного исследования:
.,,., 1. определить теоретико-методологические основания и аналитические j-hf<- стратегии изучения текста женской автобиографии второй половины XVIII - начала XIX века;
2. выявить систему культурных и историко-литературных факторов,
влиявших на интерпретацию категории женского, и основные
%'}\'- механизмы текстообразования, формировавшие женское мемуарное
( *
о .
письмо;
3. проанализировать конкретные, наиболее репрезентативные для
мемуарной прозы второй половины XVIII - начала XIX века тексты и
охарактеризовать специфику их повествовательной структуры и
образно-речевой организации;
4. определить семантические параметры автобиографического
женского текста.
Основным материалом для изучения являются автобиографические тексты Н. Б. Долгорукой («Своеручные записки»), А. Е. Лабзиной («Воспоминания одной благородной женщины»), Е. Р. Дашковой («Записки»), императрицы Екатерины II («Записки»), а также произведения русской и европейской литературы XVIII - XIX веков, образующие историко-литературный контекст. Выбор основного материала для исследования обусловлен тем, что, во-первых, эти четыре текста объединяют и время, и автобиографическая направленность,-но, во-вторых, они различны по своей текстовой семантике и цели, написаны женщинами разного общественного положения и известности, что позволяет получить представление о мемуарной женской прозе эпохи и основных ее тенденциях в целом. Рассмотрение этих материалов в их системном- единстве с привлечением теоретически и логически обоснованных подходов к анализу текста обеспечивает наибольшую достоверность: результатов диссертационного исследования.
Общей теоретико-методологической базой исследования является
историко-литературный и типологический подходы к изучению
художественного произведения в сочетании с современными методиками
анализа, представленными в нарратологии и коммуникативном подходе.
Особое значение для решения поставленных исследовательских задач имеют
концепции М. М. Бахтина, А. Я: Гуревича, Ю. М. Лотмана, В. М. Живова,
В. Н. Топорова, А. Л. Зорина, О. М. Гончаровой, В. Проскуриной,
И. П. Смирнова, Ю. Н. Тынянова, В. И. Тюпы, Б. А. Успенского,
И. В. Саморуковой, Ю. Н. Караулова, В. В. Колесова, связанные с разными областям гуманитарного знания (история, комму ни катология; нарратология, теория дискурса, семиотика, философия, лингвистика).
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. В XVIII столетии формируется один из феноменов новой русской
культуры и словесности — женский автобиографический дискурс.
2. Женские мемуары второй половины XVIII-начала XIX века
являются частью общего дискурсивного и текстового пространства
культуры, поскольку используют базовые коммуникативные стратегии
и механизмы, характерные для русской литературной традиции.
3. Женские автобиографические тексты — это сложно
организованная повествовательная модель, ориентированная на
актуальный для русской культуры второй половины XVIII-начала XIX
века процесс самореализации женского и осознание женской
идентичности.
4. Женский повествовательный текст строится на использовании
различных речевых практик и жанровых традиций (житийный канон,
философский и историософский дискурс Просвещения, масонский
религиозно-мистический дискурс, светские тексты конца XVIII -
начала XIX века), что позволяет рассматривать это явление как
закономерно включенное в историко-литературный процесс1 своего
времени.
5. На уровне образно-речевой организации женского
автобиографического текста выделяются два плана, существенных для
его понимания: образ Л-героини и речевая структура Л-повествования.
Я— героиня женского письма является моделью самоидентификации,
речевая сторона текста призвана интерпретировать такую модель как
идеальную.
6. Организованные общими механизмами текстопорождения
женские мемуары второй половины XVIII - начала XIX века имеют
типологически сходные черты. Авторская индивидуальность и
специфика высказывания проявляют себя на уровне семантики:
женская идеальность может представать в текстах эпохи в образах
агиографической героини, мистической женственности, универсальной
женской личности или женщины в истории.
Поставленные по отношению к женскому автобиографическому дискурсу
цели и задачи исследования, которые в своем комплексном виде никогда не применялись в качестве исследовательских стратегий, определяют научную новизну диссертационного исследования. В научной традиции принято рассматривать автобиографический текст как подлинное свидетельство происходящего, своего рода исторический документ, источник знания о той эпохе, в которую он был написан. Женские мемуары XVITI века как специфически организованные повествовательные тексты, имеющие свою особую образно-речевую структуру и семантику, связанные с общими культурными закономерностями эпохи и историко-литературным контекстом, до сих пор не были предметом научного литературоведческого исследования.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что в нем были теоретически обоснованы новые стратегии в изучении автобиографического дискурса; использованы теоретические дефиниции, существенно меняющие подход к мемуарной литературе* в целом, и к женскому автобиографическому письму в частности; охарактеризованы основные теоретико-методологические подходы к анализу .женских автобиографических текстов, особенностей их поэтики, семантики и нарративной структуры. Одновременно в диссертационном исследовании обосновывается необходимость признания женской автобиографии объектом научной историко-литературной рефлексии, связанной с такой сферой современного гуманитарного знания как историческая антропология.
Научно-практическая значимость диссертации. Результаты и материалы исследования могут быть использованы для включения в учебно-методический комплекс по изучению русской литературы и художественной прозы XVIII века, в построении курсов истории литературы, спецкурсов, а также при подготовке к изданию и комментировании текстов женских мемуаров второй половины XVIII - начала XIX века.
Апробация работы. Материалы и результаты диссертационного исследования в виде докладов были представлены на научных конференциях
и научно-практических семинарах: международной конференции «Идеология и риторика» (Санкт-Петербург, 2002); международной конференции «Восток—Запад» (Волгоград, 2004), IV межвузовской конференции молодых исследователей «Гендерные отношения в современном обществе: глобальное и локальное» (Санкт-Петербург, 2004); международной конференции «Коды русской классики. Проблемы обнаружения, считывания и актуализации» (Самара, 2005); V межвузовской конференции молодых исследователей по тендерным проблемам «Гендерные практики: традиции и инновации» (Санкт-Петербург, 2005); межвузовской конференции, посвященной 75-летию проф. В. А. Западова, «Проблемы и перспективы изучения русской литературы XVIII века» (Санкт-Петербург, 2005); международной конференции «Духовность в русской литературе XVIII века», (ИМЛИ РАН, Москва, 2005); межвузовской конференции «Герценовские чтения» (Санкт-Петербург, 2005); научно-теоретическом семинаре «Теоретические аспекты повседневности» в рамках международной конференции «Повседневность как текст культуры» (Киров, 2005); международном семинаре по психологии семьи (Санкт-Петербург, 2006), VIII международной конференции -молодых филологов (Таллинн, 2006); межвузовской конференции «Герценовские чтения» (Санкт-Петербург, 2007).
Женский дискурс: история интерпретации
История становления женского дискурса и вариантов его интерпретации, которая самым существенным образом влияет и на современное отношение к женским мемуарам, сегодня нуждается в своем «прочтении». Именно оно позволит четко разграничить разные временные пласты, значимые в их отношении к семантике автобиографического повествования. С одной стороны, это та культурная эпоха, в которой возникает текст и его специфические характеристики. С другой — более поздние периоды истории культуры с присущими им своими чертами, особенностями, способами понимания, которые «накладываются» на восприятие предшествующего времени и его текстов. Чем более отдаленным будет то время, на которое направлено внимание исследователя, тем чаще он будет сталкиваться со своеобразным «искажением» исторического объекта: с его идеализацией, мифологизацией или, напротив, исключением из числа значимых культурных фактов, забвением и т. д. Особенно активно, в силу специфики культурно-исторического развития России, мифологизация касалась именно сферы оісенского и женского творчества, что было связано, так или иначе, с идеологически детерминированными парадигмами разных эпох (например, «женский вопрос» 1860-х годов). Менялось со временем и отношение к таким эстетическим категориям и понятиям, как «слово», «письма», «текст».
Русский женский дискурс имеет ряд отличительных особенностей в сравнении с общеевропейской традицией. В Европе женщина-писательница к XVTII веку стала явлением привычным. Французский философ и общественный деятель Ж. де Лябрюйер (1645-1696) в «Характерах» (1688) обобщает представления своего времени о женском дискурсе:
«Се sexe va plus loin que le notre dans ce genre d ecrire; elles trouvent sous leur plume des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont l effet que d un long travail et d une peneble recherche ; elles sont heureuses dans le choix des termes qu elles placent si juste, que tout connus qu ils sont, ils ont charme de la nouveaute, et semblcnt etrc faits sculement pour l ouvrage ou elles les mettent; il n appartient qu a elles de faire lire dans un suel mot tout un sentiment, et de rendre delicatement une pensee qui est delicate; elles ont un enchainement de discours inimitable qui se suit naturellenient, et qui n est lie qur par le sens»5 [La Bruyere 1696 : 17-18].
Начиная с середины XVIII века, женское творчество формально оценивается как равное мужскому «письму», то есть как имеющее право заниматься не только и не столько сферой исключительно женских переживаний:
«Великий переворот в умах, начавшийся во Франции еще в начале XVIII века и кончившийся громовым переломом жизни в конце столетия, коснулся громадным крылом и участи женской. Женщина была официально признана существом, равным мужчине. Конечно, это сделалось не сразу и не без сопротивления. Даже Руссо ... все-таки еще не был в состоянии понять новых, начинавших раздаваться около него требований» [Стасов J 899].
В неопубликованных работах Ж.-Ж. Руссо можно найти идеи о женском равноправии и высокую оценку женского творчества, несколько противоположные взглядам, изложенным в «Новой Элоизе», но в целом не меняющие картину. Несмотря на прогрессивные взгляды мыслителя, женщина для него остается «прекрасным созданием», примером самоотверженности и любви:
«Je le repete, toutes proportions gardees, les femmes auroient pu donner de plus grans exemples de grandeur d ame et d amour de la vertu, et en plus grand nombre, que les hommes n ont jamais fait, si notre injustice ne leur eut ravi, avec leur liberte, toutes les occasions de les manifester aux yeux du monde»6 [Rousseau 1905 : 204-205].
Известный современник Ж.-Ж. Руссо — барон де Гримм (1723—1807) также уделял внимание женскому творчеству, анализируя произведения современных писательниц. Так, например, он подробно разбирает тексты мадам Деламбер. При этом «положительными» характеристиками ее опытов оказываются элегантность стиля, вкус, женский взгляд на вещи, но отмечает Гримм и стилистическую монотонность, продиктованную ограниченностью женского взгляда на мир:
«Les lettres qui sont de Mme de Lambert sont bien tournees, ecrites avec liberte et avec
elegance. L on у voit cette modestie de femme bel esprit qui ne veut pas etre soupconne d ambitionner le titre de savante, ce cetee reserve a prononcer sur les ouvrages d autrui, qui est une preuve d un bon cocur et d un bon esprit»7 [Grimm 1968: 147-148].
В этих конкретных суждениях и оценках можно видеть проявление общего для европейской культуры отношения к женскому творчеству и женскому дискурсу, которое отчасти повлияло и на представления русских просветителей. Но именно — отчасти, поскольку просветительские декларации в России XVIII века, инспирированные увлечением европейской философией, в общем и целом не соответствовали реальному положению дел, обусловленному своими национальными традициями. Примером может быть довольно типичная для декларативного русского XVIII века ситуация с публикацией перевода книги Агриппы Неттесгеймского (1486—1535) «О благородстве и преимуществе женского пола» (СПб., 1784). Как считает Ю. Н. Солонин, это была русская версия приписываемой автору книги [Солонин 1997: 21]. В книге был сформулирован ряд положений-доказывавших «преимущества женского пола». Казалось бы, появление книги лишний раз свидетельствовало в пользу распространенного мнения о том, что «к середине XVIII века экономические и общественные отношения изменились настолько, что правосознание, да и чисто человеческие чувства, не мирились с ограничениями женщин» [Тишкин 1995: 32]. Однако такая концепция, представленная в целом ряде работ историка Г. А. Тишкина, не представляется ни убедительной, ни исчерпывающей. Специфика ситуации состояла в том, что книга «О благородстве и преимуществе женского пола» была встречена резко отрицательно, в том числе — в придворных кругах и самой императрицей. «Женский вопрос» в России второй половины XVIII века решался очень сложно и противоречиво: традиционные и устойчивые представления о месте женщины неожиданно и парадоксально сталкивались
История восприятия и интерпретации «своеручных записок» н. Б. Долгорукой
«Записки» Н. Б. Долгорукой были опубликованы только в 1810 году ее внуком — известным литератором своего времени И. М. Долгоруким. С 1810 по 1913 год (дата последнего предреволюционного издания, после чего «Записки» напечатают только в 1992 году) мемуары Долгорукой переиздавались неоднократно и были своего рода бестселлером, во многом благодаря той роли, которую на них и его автора возложили сначала декабристы, а затем сторонники «женской эмансипации» 1860тХ- годов. Большинство очерков и статей о «Своеручных записках» демонстрируют удивительную стройность в оценках: они считаются документальным свидетельством о биографии мемуаристки, а также о ее «подвиге»; подчеркивается и удивительный характер языка этого текста —- «наивный» рассказ о частной жизни обыкновенной женщины:
«Примеры такой благородной самоотверженной любви, какую обнаружила княгиня Долгорукова, во все времена и во всяком обществе встречаются не часто; но, как бы ни были они редки, их необходимо принимать во внимание для оценки женщины данной эпохи и измерения глубины и свойств ея сердца. Даже более: такие примеры должны быть приняты, как правило, как историческое свидетельство, верно определяющее уровень нравственных идеалов взятой эпохи» [Михпевич 1895: 146].
Однако исследователи в подавляющем большинстве пренебрегают художественной ценностью материала «Записок» или не видят его. Так, еще в начале XX века в исследовании Е. Н. Щепкиной [Щепкина 2005], которое было посвящено истории женской личности в России и детальному рассмотрению женской литературы XVIII - XIX века, «Своеручные записки» Н. Б. Долгорукой были оставлены без внимания. Тем не менее, образ Долгорукой вошел в историю русской культуры:
«Записки княгини впервые были опубликованы внукОіМ Натальи Борисовны, известным поэтом и мемуаристом конца XVIII — XIX века Иваном Долгоруковым в журнале "Друг юношества" в 1810 году. Уже первая публикация вызвала яркую эмоциональную реакцию, в том числе и в писательской среде: С. Н. Глинка создает рассказ на основе "Своеручных записок", Долгоруковой посвящены одна из дум К. Ф. Рылеева ("Кольцо") и поэма И. Козлова ("Княгиня Наталья Долгорукова")» [Улюра 2002: 7].
Писатели и поэты поколения декабристов сделали личность Долгорукой легендарной, превратив факт личной биографии в литературный романтико-героический сюжет, тем самым породив целую традицию его восприятия и предопределив поведение жен декабристов. Ю. М:Лотман отметил в этой связи:
«Биография Натальи Долгоруковой стала предметом литературной обработки до думы Рылеева в повести С. Глинки "Образец любви и верности супружеской, или Бедствия и добродетели Наталии Борисовны Долгоруковой, дочери фельдмаршала Б.П.Шереметьева" (1815). Однако для С. Глинки этот сюжет — пример супружеской верности, противостоящий поведению "модных жен". Рылеев поставил ее в ряд "оісизиеописаиий великих муэюей России". Этим он создал совершенно новый код для дешифровки поведения женщины. Именно литература, наряду с религиозными нормами, вошедшими в национально-этическое сознание русской женщины, дала русской дворянке начала XIX в. программу поведения, сознательно осмысляемого как героическое» [Лотман 1994: 316]
Однако сама Наталья Борисовна Долгорукая, по словам известного историка А. Б. Каменского, «конечно, не была первой такой женщиной.
Вспомним хотя бы жену протопопа Аввакума» [Каменский 200J: 120], не была она и единственным примером подобного «духовного подвига»:
«Следование за ссылаемыми мужьями в Сибирь существовало как вполне традиционная норма поведения в нравах русского простонародья: этапные партии сопровождались обозами, которые везли семьи сосланных в добровольное изгнание. Это рассматривалось не как подвиг и даже не в качестве индивидуально выбранного поведения — это была норма. Более того, в допетровском быту та же норма действовала и для семьи ссылаемого боярина ... . В этом смысле именно простонародное (или исконно русское, допетровское) поведение осуществила свояченица Радищева, Елизавета Васильевна Рубановская, отправившись за ним в Сибирь. Насколько она мало думала о том, что совершает подвиг, свидетельствует, что с собою она взяла именно младших детей Радищева, а не старших, которым надо было завершать образование. Да и вообще отношение к ее поступку было иным, чем в 1826 г.: никто ее не думал ни задерживать, ни отговаривать, а современники, кажется, и не заметили этой великой жертвы -— весь эпизод остался в пределах семейных отношений Радищева и не получил общественного звучания» [Литман 1994: 314].
История восприятия и интерпретации «своеручных записок» н. Б. Долгорукой
Если «Своеручные записки» Н. Б. Долгорукой были известны широкому кругу читателей и, начиная с середины XIX века, стали предметом историко-литературоведческих описаний, то воспоминания, написанные Анной Евдокимовной Лабзиной (1758—1828) в 1810 году, были впервые напечатаны только в 1903-м в приложении к журналу «Русская старина» (№1—3) и до сих пор, за редким исключением, остаются за пределами внимания исследователей. Например, в работе Е. Н. Щепкиной «Из истории женской личности в России» воспоминания «оригинальной и способной Анны Лабзиной» служат только источником для воссоздания картины провинциального быта второй половины XVI11 века и описания судьбы «простой деревенской дворянки» [Щепкина 2005: 143].
Можно сказать, в целом превалирует представление о том, что мемуары А. Е. Лабзиной — простодушный рассказ наивной провинциалки о своей юности. А потому существующие немногочисленные их трактовки ограничиваются, как правило, комментированным пересказом, опирающимся на мнение о «наивно-"фотографическом" воспроизведении реальности» в тексте записок Лабзиной [Лотман 1994: 300]. Более серьезные попытки историко-литературного описания этого текста приводят к представлению о том, что в нем можно все-таки усмотреть сложную структуру: например, элементы эклектичного житийного повествования. Так, в работе А. А. Улюры характер поступков -героини Лабзиной именно в этой связи объясняется «следованием жизненному примеру особенного человека», которым, по мнению исследовательницы, «для девушки была мать» [Улюра 2001: 60]. В. М. Бокова во вступительной статье к переизданию «Воспоминаний» отмечает, что произведение Лабзиной занимает в русской мемуаристике особое место, и ограничивается утверждением, что «записки А. Е. Лабзиной обращены не столько на внешние события, сколько во внутренний мир. мир души. ... . Душевные движения у нее изначально заданы и на протяжении всей книги неизменны. Обращение к духовной сфере необходимо ей для того, чтобы показать полную драматизма борьбу души за то, чтобы не изменяться, сохранить и отстоять себя. Собственная жизнь для Лабзиной — это арена постоянных искушений и нравственных и физических мук, которые она переносит для того, чтобы в итоге сберечь верность идеалу духовной чистоты и добродетели. В этом отношении ее "Воспоминания" восходят к стариннейшей традиции русской литературы — к литературе "житийной"» [Бокова 1996: 5].
Такой подход к тексту первым предложил Ю. М. Лотман в «Беседах о русской культуре». Ученый рассматривал «Воспоминания» как продолжение средневековой агиографии, а саму Лабзину как мемуаристку, претендующую на создание жития:
«Мемуары Анны Евдокимовны Лабзиной ... правильнее было бы назвать "житием, ею самою написанным". Такое название сразу высвечивает..определенную традицию, в перспективе которой этот текст следует понимать. Читатель, конечно, вспомнил "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное". В еще большей мере в памяти возникает образ боярыни Морозовой. Реальная же судьба мемуаристки, хотя и перенесшей ссылку за свои убеждения, даже приблизительно не напоминала судеб мучеников "старинного правоверия". Однако в подобных случаях самооценка, то, каким человек видит мир, не менее существенна, чем "объективная" оценка постороннего наблюдателя. Лабзина видела свою жизнь как длинное, мучительное испытание, "тесный путь" нравственного восхождения сквозь мир греховных искушений к святости. Развратный муж, проводящий жизнь в греховных мерзостях, не лишенный природной доброты, но слабый, и утопающий в бездне плотских наслаждений, — таков один сюжетный центр ее рассказа. Другой — .она сама, твердо шествующая по пути добродетели сквозь душевные страдания и физические муки. И если муж — воплощенный искуситель, то на другом полюсе неизменно находится! Учитель, руководящий ею, подчиняющий себе ее дурную волю лаской и нравоучением» [Лотман 1994: 300].
Таким образом, «Воспоминания» А. Е. Лабзиной воспринимаются как довольно обычный, ничем не примечательный реально-биографический текст, который отчасти может рассматриваться в связи с агиографической традицией и с темой нравственного «пути» женщины в стремлении «сохранить» и отстоять себя рядом с «развратным мужем». Такая трактовка, к сожалению, во многом лишает это произведение его истинной оригинальности и значимости, отодвигает на литературную периферию и включает в линию заурядных автобиографических записок того времени, так мало интересующих исследователей русской литературы и истории. При этом вполне очевидна зыбкость, позиции интерпретаторов записок. Во-первых, все они склонны к неразличению жизненного пути автобиографической героини мемуаров Лабзиной и ее собственной реальной биографии, о действительных фактах которой в описываемое мемуаристкой время- мы ничего не знаем, кроме того, что пишет она сама. Во-вторых, до сих пор практически неучтенным в понимании семантики текста остается время создания «Воспоминаний», связанное уже со вторым браком мемуаристки — с А. Ф. Лабзиным, тогда как. в записках воссоздано совсем другое время.
События и жизненные обстоятельства, описанные в мемуарах Лабзиной, относятся к периоду ее первого брака с А. М. Карамышевым. Это был профессиональный ученый, инженер, образованный человек, обладавший универсальными знаниями, характерными для ученого петровской эпохи. Е. Н. Щепкина (несомненно, под влиянием текста мемуаров) характеризует его как «приверженца грубого сенсуализма, возводимого им в основной принцип жизни» [Щепкина 2005: 143]. Контраст героя-циника, в котором трудно узнать реального просвещенного Карамышева, и наивной девушки, только что вышедшей за него замуж, зачастую становится главным основанием для размышления ученых-филологов над «фактографией» книги Лабзиной. В эти же размышления включается естественное сопоставление Карамышева со вторым мужем мемуаристки, хотя он не имеет видимого отношения к повествованию и ни разу в нем не упомянут. Тем не менее, фигура А. Ф. Лабзина оказывается чрезвычайно значимым для понимания текста «Воспоминаний».
Дискурсивные потенциалы ^-повествования в «записках» Е.Р.Дашковой
Очевидно, что «Записки» Дашковой определены ...уникальной для русской культуры личностью мемуаристки и дискурсивной практикой ее времени — эпохи Просвещения, просто временного отрезка русской и европейской истории, совпадающего с биографией Дашковой. Она -была активным участником реализации просветительских идей и практик в России и испытала на себе самое сильное влияние интеллектуальных устремлений и идеалов своих современников, философов-просветителей. Именно в трудах просветителей XVIII века рождается новое представление о человеческой личности: родоначальником новой философской антропологии стал Ж.-Ж. Руссо, идеи которого, как и антропологическая модель «нового человека», были чрезвычайно популярны в России. Как представляется, именно в рамках просветительской антропософии Дашкова создает в своих «Записках» образ личности нового времени русской культуры. Даже авторское намерение к самооправданию, опровержению «клеветы» вполне соотносимо с антропософскими концепциями времени: Дашкова во многом следует философским «рецептам» и «рекомендациям» своей эпохи. Так, например, из обращаясь к идеально конструируемому человеку, А. Н. Радищев писал:
«Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения ... . Пребудь незыблем в душе твоей ... . Старайтесь паче всего во всех деяниях ваших заслужить собственное свое почтение, дабы, обращая во уединении взоры свои вовнутрь себя, не токмо не могли бы вы раскаяваї ься о сделанном, но взирали бы на себя со благоговением» [Радищев 1988: 93].
Описывая основные составляющие концепции новой личности в культуре XVIII века, исследователи говорят об образе «благородного российского дворянина», сложившемся в дискурсивной практике эпохи как отражение этических идеалов нового времени. Основные концепты, определяющие этот образ, начали складываться в русской культуре очень рано, еще в первой половине XVIII века (например, в сатирах А. Кантемира и А. П. Сумарокова). К концу столетия в сознании современников этот идеальный образ, интенсивно обсуждавшийся в литературе и публицистике, устойчиво соотносился с идеями или концептами гражданственности, служения и любви к государству, благородного воспитания, добронравия, долга и чести. Наиболее яркое выражение этот образ нашел в литературных текстах: основные положения, определяющие его семантику и идеологию, были хорошо знакомы русскому читателю по произведениям А. П. Сумарокова, Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, А. Н. Радищева, М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина. Естественно, что эта концепция нашла свое отражение и в мемуарных текстах эпохи. Г. Г. Елизаветина пишет в этой связи:
«Для мемуарно-автобиографических жанров оказалось чрезвычайно важным то, что ... одной из главных задач классицистического искусства стала задача воспитательная, причем охвачены были все сферы жизни: от гражданского служения до личных, интимных отношений Взгляд на жизнь с точки зрения долга становился для мемуаристов одним из главных принципов построения повествования» [Елизаветина 1982:241].
Конечно, в сознании человека XVIII века высокие представления о долге, служении, чести соотносились с культурой и поведенческими нормами элитарных кругов. Потому и одним из важнейших составляющих концепции «нового человека» оказывается его «благородство». Под «благородством» понималось не только и не столько «высокое рождение, дворянское происхождение», сколько гарантированные благородством «добронравие» и следование образцам гражданского служения, принятым в семье, чем, собственно, и гордился «род», и определялось «благородство». Неслучайно этим идеальным построениям противопоставлялись в литературных текстах «зависть», «гордость» и «злонравие» («О благородстве» А. Кантемира, «На зависть и гордость дворян злонравных» А. П. Сумарокова, «Недоросль» Д. И. Фонвизина и др.). Именно с такой позиции повествуют о «благородстве» и мемуары XVIII — начала XIX века, среди которых даже «выделилась особая группа текстов, авторы которых рассказывают о своем роде, своей жизни, своей службе» [Билинкис 1995: 50].
И, напротив, в сатирических произведениях находим прямо противоположный образ «рода» и «дворянина»: например, в таком тексте Н. И. Новикова «Следствие дурного воспитания», опубликованном в журнале «Живописец» в 1773 году и написанном в форме «записок», автор-повествователь которых не может гордиться своим благородным происхождением. Например:
«Отец мой дворянин ... был человек простого нрава ... ; а жена его, мать моя, была сложения тому противного, отчего нередко происходили между ними несогласия, и всегда друг друга не только всякими бранными словами ... ругали, но не проходило дня, чтобы, они между собою не дрались или бы людей на конюшне не секли» [Новиков 1951: 208].