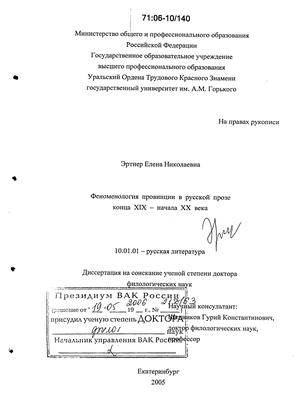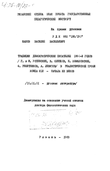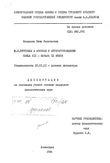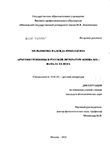Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Художественное пространство в теософии 36
1.1. Феноменология пространства и места в геофилософии 36
1.2. Пространственная образность русской литературы в интерпретации геокультурологии 56
Глава 2. «Территориализация» провинции в русской прозе XIX века 71
2.1. Экстериоризация провинции в русской классике XIX века 71
2.2. Образ русской земли в романе 60 - 70-х годов XIX века 98
Глава 3. Метафорическая интенция (персонификация места) в натуралистической прозе конца XIX - начала XX века 131
3.1. Москва как провинция в романе П.Д.Боборыкина «Китай-город» 131
3.2. Феноменология края в романах Д.Н.Мамина-Сибиряка «Без названия» и «Хлеб» 177
3.3. A.M. Федоров «Степь сказалась»: субъективация степи 208
Глава 4. Сибирь как интенциональный предмет в литературе Тюменского края XIX - начала XX века 237
4.1. Методологические аспекты изучения провинциальной литературы .. 237
4.2. Литература в процессе освоения Тюменского края: «свое» и «чужое» 248
4.3. Сибирский город в русской прозе рубежа веков 274
Глава 5. Ретерриториализация пространства провинции в прозе рубежа XIX-XX веков 300
5.1. Метафизика провинции в прозе Л. Андреева: игра с пространством. 300
5.2. «Глухая Русь» как «исток художественного творения» в повести И.А. Бунина «Суходол» 320
5.3. А.Белый «Серебряный голубь»: художник в пространстве русской провинции 345
Заключение 409
Библиография 417
- Феноменология пространства и места в геофилософии
- Экстериоризация провинции в русской классике XIX века
- Москва как провинция в романе П.Д.Боборыкина «Китай-город»
- Методологические аспекты изучения провинциальной литературы
Введение к работе
В литературе XIX - начала XX века русское пространство предстает в трех ипостасях: столичный город Петербург, «древняя столица Руси» Москва и вся остальная страна — русская провинция. По замечанию М.Фазолини, провинция - «третья действительность русской культуры» [Фазолини, 2000: 177]. Однако если оставить в стороне «центристский» взгляд, скорее, первая, основная, а в аксиологическом аспекте - ведущая, доминирующая: именно с этой «территорией» России во многом связана история отечественной культуры.
Другое дело, что исследовательница имеет в виду и иное: сложившуюся в науке семиотическую традицию изучения пространства. В этом смысле «провинция» оказывается именно «третьей» в ряду «текстов» русской культуры, после «петербургского» (методологических работ Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, В.Н.Топорова по изучению «петербургского текста») и «московского» (исследований Т.В.Цивьян, М.Б.Плюхановой, М.Л.Спивак и многих других, представленных в сборниках «Московский текст» русской культуры» // Лотмановский сборник - 2, 1997; «Москва и «московский текст» русской культуры», 1998; «Москва в русской и мировой литературе», 2000 и других).
Выстраивание «текстов» имеет своим основанием один из интересных и продуктивных подходов к исследованию литературы «места» - концепцию ее восприятия как локального текста [Лотман, 1992: 178-179; Гаспаров, 1996: 324]. Как подчеркивает В.Н.Топоров, «...пространство есть текст (т.е. пространство может быть понято как сообщение)» [Топоров, 1983: 227].
'Анализ взаимодействия мира и человека в художественном тексте привел к осмыслению пространства в качестве универсальной текстовой категории. Основы подхода разработаны М.Бахтиным, ДЛихачевым, ЮЛотманом, В. Топоровым, Б.Успенским и другими. Особенности пространственного мышления и его репрезентация в языке и тексте глубоко исследуются в коллективных академических монографиях «Логический анализ языка. Языки динамического мира», 1999; «Логический анализ языка. Языки пространств», 2000; «Логическими анализ языка. Семантика начала и конца», 2002; монографиях И.Никитиной, 2001; Д.Щукиной, 2003 и других.
4 Современная культурная ситуация отличается динамикой процессов глобальной интегративности и все более решительно заявляющими о себе регионалистическими тенденциями. Культурологическое понятие текста и находится на «границе», «пересечении» этих явлений: содержательно восходит к интегративной поэтике, расширяя традиционное представление о «тексте», и в то же время выступает инструментарием, с помощью которого вербализуется локальное своеобразие русской культуры.
Возможно, актуализация изучения локальных текстов русской культуры и определяется необходимостью преодоления кризиса культурной идентификации. В русле этого быстро развивающегося направления в филологии выполнен целый ряд исследований. Первым следует назвать основополагающую работу В.В. Абашева «Пермь как текст». Обосновывая свою позицию, автор справедливо замечает: «Локальный текст оказывается живой и действенной инстанцией, организующей отношения человека и среды его обитания. Его символические ресурсы включаются в процесс самоидентификации» [Абашев, 2000: 14]. Среди других можно выделить исследование «петрозаводского текста» И.А.Разумовой [2000, 2004], «крымского текста» русской культуры А.П. Люсого [Люсый, 2003] и другие. Таким образом, нетрудно заметить, что современная наука, история, филология, культурология, одним из своих важнейших «объектов» выдвигает провинцию: сегодня разнообразные локальные «тексты» рассматриваются как репрезентативный фактор культурного сознания русской провинции.
Однако в науке все более утверждается направление, исследующее образ провинции в русской культуре в его целостности. Оно представлено концептуальными научными проектами последнего времени (научными форумами и сборниками трудов): «Русская провинция. Культура ХУ111 - XX вв.». [1993]; «Мир русской провинции» [1997]; «Русская провинция: миф -текст - реальность» [2000]; «круглым столом», состоявшимся в Перми, «Провинция: поведенческие сценарии и культурные роли» [2000]; сборником
5 «Пространство России. Русская провинция. Отечественные записки» [2002] и другими.
Достаточно продуктивным оказывается «геопанорамный» подход к русской культуре, предложенный учеными Москвы, Перми, Петербурга. Научно перспективная идея находит свое воплощение в коллективной монографии «Геопанорама русской культуры. Провинция и ее локальные тексты» [2004], ответственным редактором которой является Л.О.Зайонц, а составителями — В.В.Абашев, А.Ф.Белоусов, Т.В.Цивьян.
Наконец, новым направлением в отечественной науке выступает методология фронтира [Американские исследования в Сибири, 2001, Европейские исследования в Сибири, 2001 и др.], разрабатываемая филологами Томского госуниверситета А.СЯнушкевичем, Ф.З.Кануновой, Э.М.Жиляковой, А.С. Жиляковым, Е.Г.Новиковой и другими с привлечением широкого круга исследователей (Б.А.Чмыхало, К.В.Анисимов и другие). Трудно переоценить значение теории фронтира для гуманитарного знания в целом, особенно для регионалистики, так как эта концепция позволяет рассмотреть опыт освоения места, поставить вопрос о понятиях «границы» и «пограничья», по-новому высветить сложные отношения «своего» и «чужого» в процессе эстетического переживания пространства.
Таким образом, в последние годы к провинции как предмету социологического, культурологического и литературоведческого изучения обратились многие ученые. Сложились университетские научные школы изучения литературы провинции в Екатеринбурге, Твери, Перми, Томске, Новосибирске и других городах. Серьезный вклад в изучение проблемы внесли В.Абашев, М.Абашева, А.Белоусов, С.Борисов, И.Дергачев, Е.Дергачева-Скоп, Л.Зайонц, Б.Зингерман, В.Кривонос, О.Лавренова, А.Лазарев, В.Одиноков, Ю.Постнов, И.Разумова, М.Спивак, Г.Стернин, М.Строганов, И.Трофимов, Б.Чмыхало, Г.Щенников, А.СЯнушкевич и многие другие.
Обобщая результаты достигнутого, ученые замечают, что исследование провинции начиналось «с обсуждения объекта, далее шли к типологии тех текстов, которые репрезентируют это понятие, теперь встает проблема субъекта, сквозь которого реализует себя понятие провинции, поскольку нам хорошо известно, что быть провинциалом и считать себя провинциалом -это совершенно разные вещи» [Разумова, 2000: 43].
Как свидетельствует наука, «форм» присутствия провинции в русской литературе предостаточно: это и мифология провинции с положительной и с негативной коннотацией, и ее символика, структура образа, включающая губернский, уездный город, деревню, дворянскую усадьбу и русскую природу, и локальные «тексты», реализующие становление культурного пространства, «репутацию» места и др.
Кроме того, исследователи осуществляют попытку противопоставить пространству мифа провинцию как место: "sub specie семиотики - sub specie реалий" [Абашев, Белоусов, Цивьян, 2000: 10]. Однако, как отмечают и сами ученые, методологически проблема лишь заявлена и настоятельно требует своего изучения.
Обращение к локальному» тексту позволяет «вырвать» то или иное географическое место из «серого круга» провинции, дать ему имя, «лицо», наделить «необщей» судьбой и душой, но не «реабилитировать» саму русскую провинцию, не освободить ее от вечной роли вторичного культурного пространства, лишенного динамики, «ценностности» и креативности. Сделано это может быть исходя из теории «сверхтекста», предложенной Н.А.Купиной и Г.В.Битенской. Определение, данное исследователями: «... сверхтекст... совокупность высказываний, текстов, ограниченная темпорально и локально, объединенная содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной модальной установкой, достаточно определенными позициями адресанта и адресата, с особыми критериями нормального/анормального» [Купина, Битенская, 1994: 215], - и делает провинциальный текст по отношению к локальным «сверхтекстом».
7 Но что такое провинция как место? Не геопанорама «мифа» о провинции, царстве «скуки и ушедших времен», или мест, способных к продуцированию самостоятельных и самоценных «текстов», а конкретное место России, место, где живет русский писатель? И это, конечно, не только «провинциальные» уездный или губернский города, «усадьба» или деревня. Все вместе пространство провинции в этом случае называется русской землей, образ которой в фольклоре и древнерусской литературе [Лихачев, 1997, 1999; Демин, 1998, 2000] явлен необычайно ярко. Думается, и русская литература последующих столетий может быть осмыслена с этой точки зрения.
И в этом случае методологически актуальным окажется суждение В.Н.Топорова о природе традиционного русского видения мира, воссозданного классикой, которое «по преимуществу пространственно», более того, «географично». Вывод исследователя во многом основывается на отраженном русской литературой особом опыте общения с пространством. Так, А.С.Пушкин, размышляя об особенностях национальной поэзии, пишет: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии» [Пушкин, 1976: 238]. Удивительно, что первым в ряду перечисленного оказывается климат, важнейший фактор геопространства. Еще определеннее по этому поводу выскажется Н.В.Гоголь: «История изредка должна только озарять воспоминаниями географический мир. Протекшее должно быть слишком разительно и разве уже происходить из чисто географических причин, чтобы заставить вызывать его» [Гоголь, 1913: 256].
И в этом случае необходимо, как нам представляется, актуализировать вопрос о глубинных взаимосвязях человека и места, художника и его земли, постановку которого можно обнаружить в высказываниях русских писателей, и не только Пушкина или Гоголя, но и Гончарова, Тургенева, Лескова, Толстого и многих других. Для чего требуется проанализировать природу и функциональность «мифа» о провинции, своеобразие метафорической
8 интенции и структурирования пространственной метафоры провинции, «ямы» (Н. Лесков), «вселенской щели» (Гончаров), «пустого места» (Гоголь) и т.д., разворачивающейся в «художественный афоризм, репрезентируемый цепью устойчивых знаков в русской прозе XIX века» [Данилина, Эртнер, 1999: 77].
Равнодушному наблюдателю российской провинции сложно стать национальным писателем. Когда Н.В.Гоголь назвал "необдуманными", "незрелыми" все свои художественные произведения: "сочинения", в лексике писателя [Гоголь, 1993: 23], - вероятно, он мог иметь в виду как раз это: "яма" закрывает от писателя подлинную Россию, ту Россию, что всегда ждет своего художественного открытия. Но если это так, какой открывается русскому писателю земля в тот момент, когда ее «голос» он способен расслышать и претворить в «слово» русской литературы.
Между тем переживание провинции как места, можно предположить, становится тем общим началом, что сближает или разводит литературу классическую и региональную, собственно «провинциальную». Кроме того, репрезентация образа места, несомненно, обнаружит новые отношения прозы символизма и натурализма. Представляется, что изучение авторского сознания с позиции «втянутости» в него места, русской провинции, и форм его «языкового» воплощения в русской литературе поможет заново открыть ее художественное своеобразие.
И потому необычайно интересно высказывание Н.К.Пиксанова: «Русская культура — одна из самых провинциальных культур Европы» [Пиксанов, 1928: 47]. И здесь речь не идет о некой российской «отсталости» или «вторичности», но о великом потенциале культуры огромной страны. Тем самым Пиксанов хотел показать созидательную роль провинциальной России, выделенных им провинциальных «культурных гнезд в культурном процессе» [Пиксанов, 1928: 44]. Обращаясь к концепции Пиксанова, современная исследовательница подчеркнет: «...именно периферия
9 оказывается наиболее очевидным вместилищем национального общекультурного кода» [Загидуллина, 2000: 102].
Таким образом, актуальность данного исследования определяется назревшей в филологической науке необходимостью на современном методологическом уровне обобщить накопленный материал, связанный с разработкой темы провинции в русской литературе. Заполнение этой теоретической лакуны, очевидной при осмыслении «провинциального» текста русской культуры, призвано способствовать прояснению не только литературоведческих проблем, но и культурологических.
Кроме того, образ провинции выступает как конститутивный для поэтики русской прозы. Исследование его эстетической природы, структуры и функциональности позволит по-новому интерпретировать русскую литературу, обратиться к особенностям национального художественного мышления в динамике его форм от XIX века — к веку ХХ-ому.
Актуальна тема исследования и потому, что решается она на материале русской прозы конца XIX - начала XX в. — достаточно сложного и противоречивого периода в истории литературы. Взгляд на литературу рубежа веков из века XIX актуализирует проблему традиции и новаторства в постижении натуралистами и символистами русской провинции.
Изучение натуралистической прозы обусловливает постановку вопроса, касающегося таких понятий, как «классика» и «массовая литература». Проблема эта осознается современным литературоведением в качестве одной из важнейших. И в этом смысле следует согласиться с авторитетным суждением А.С.Янушкевича: «Диалектика массовой литературы и высокой классики (сколь ни условно было это деление) обозначает направление поиска... тупики и прорывы нового литературного мышления... проблема динамической системы, в которой глубинно взаимосвязаны «классика» и «беллетристика», требует дальнейшего теоретического осмысления» [Янушкевич, 1998: 93].
10 Вовлечение прозы «тюменского текста» в научный оборот с точки зрения поэтики места расширяет представление о провинции, дополняя его «сибирской модификацией». И если в русской литературе, как отмечает Б.А.Чмыхало, «фактор пространства напрямую проявляется через региональную специфику в форме региональных литературных «подсистем» [Чмыхало, 2001: 169], то исследование прозы «одного из культурных гнезд», в данном случае — урало-сибирского региона, поможет познать явление национального искусства через конкретное, «местное», своеобычное, а с другой стороны, - ввести региональное начало в литературный контекст времени, определить его место и значение в общенациональном и, главное, поставить вопрос о его художественной самостоятельности.
В объект данного исследования вошли наиболее значительные прозаические произведения русской классики XIX века (Н.Гоголя, С.Аксакова, И.Тургенева, Н.Лескова, И.Гончарова), в которых был представлен «миф» о провинции и образ русской земли; русская суггестивная проза начала ХХ-го века («Суходол» И.Бунина, «Серебряный голубь» А.Белого, рассказы и повести Л.Андреева) и проза натуралистическая («Китай-город» П.Боборыкина, «Без названия» и «Хлеб» Д.Мамина-Сибиряка, «Степь сказалась» А.М.Федорова), а также тяготеющий к натуралистической стилистике «тюменский текст» XIX - начала XX в. (произведения Г.Мачтета, М.Знаменского, Н.Лухмановой, М.Знаменского, Н.Чукмалдина и др.).
Избранные нами произведения Л.Андреева, И.Бунина, А.Белого,
П.Боборыкина, А.Федорова, Д.Мамина-Сибиряка достаточно
репрезентативно представляют литературу «переходной эпохи» рубежа XIX-XX вв. В ситуации «постреалистического» [Лейдерман, 2005] искусства концепция художественного синтеза определила движение к новым формам художественного мышления. Границы новых литературных течений оказываются весьма подвижны, «размыты». Так, в «неореализме» Бунина, исследователи отмечают особое взаимодействие натуралистической поэтики
и модернизма («Суходол»). Иные формы художественного эксперимента можно обнаружить в «Серебряном голубе» А.Белого (Н.Бердяев пишет о своеобразии «соединения» в произведении «реализма и символизма»), романе «Степь сказалась» А.Федорова и др. Природу произведений П.Боборыкина и Д. Мамина определяет синтез натурализма и импрессионизма. Экспрессионизм Л.Андреева также вырастает на основе диффузии эстетических возможностей разных литературных течений. Именно поэтому важно рассмотреть неомифологию русской провинции в этих произведениях.
Выбор авторских имен определялся талантом «спациализации» писателей, а также близостью направленности их художественного поиска с точки зрения «переживания» (биографического и эстетического) пространства или места, а произведений - многообразием форм репрезентации в них образа провинции. Основанием для включения произведения в объект исследования являлось и присутствие в нем образа художника или темы творчества (тексты Н.Гоголя, С.Аксакова, И.Гончарова, Н.Лескова, И.Бунина, А.Белого, Д.Мамина-Сибиряка, М.Пришвина и др.).
Постановка вопроса о феномене провинции и его художественной репрезентации в литературе отвечает феноменологическому подходу. Необходимость его применения осознается сегодня учеными1. Так, А.С. Янушкевич, выявляя методологические проблемы осмысления отечественной наукой на современном этапе понятия «история русской литературы», подчеркивает продуктивность таких исследовательских направлений, как «... «герменевтика», «нарратология», «феноменология», «рецептивная эстетика», «мифопоэтика» [Янушкевич, 1998: 84].
1 Феноменология все чаще находит сегодня свое применение и в отечественной филологии, подтверждение тому - появление целого ряда работ: А. Косарев «Феноменология мифа»» (2000), Н. Пращерук Феноменология И.А.Бунина: авторское сознание и его пространственная структура (1999), Е. Сознна «Сознание и письмо в русской литературе» (2001), ВЛехциер «Введение в феноменологию художественного опыта» (2002), Л. Миллер «Феноменологический подход и исследование природы художественного» (2003), О.Зырянов «Эволюция жанрового сознания русской лирики: феноменологический аспект» (2003), Л.Щенникова История русской поэзии 1880 - 1890 годов как культурно-исторический феномен (2002) и др. Названные работы, безусловно, опосредуют философскую традицию в филологической науке, но до сих пор нет исследования по феноменологии художественного пространства.
Как показала научная конференция «Провинция: поведенческие сценарии и культурные роли», проведенная в Перми с привлечением лучших ученых страны, «справедливо актуализируется наукой проблема субъекта как одна из наиболее перспективных» [2000: 12] .
Проблема осмысляется сегодня исследователями в русле восприятия темы провинции интерпретатором. В ходе дискуссии Т.Цивьян задается вопросом: «Для нас необыкновенно важно ощущение м е с т а, в котором мы находимся, причем место в большей степени относительно, чем абсолютно. Кто мы (конферанты)? Мы чужие, приезжающие в некий локус и смотрящие на него только извне, или мы становимся «жителями/персонажами» этого локуса?» [Провинция: поведенческие сценарии, 2000: 7].
И далее исследовательница замечает: «На рубеже веков в физике, а затем и в гуманитарных науках, которые стали применять методы точных наук, была установлена релевантность положения описывающего по отношению к описываемому, то есть релевантным оказалось соотношение с у бъектаиобъекта описания (притом, что раньше мы попросту считали, что описываем объект извне, и этого достаточно). Тогда и возникло понятие точки зрения, и оказалось важным то, к у д а помещает себя описывающий. В зависимости от этого у него меняется взгляд на пространство и соответственно, оценка пространства» (курсив и разрядка автора. - Т.Ц.) [Провинция: поведенческие сценарии, 2000: 8].
В связи с этим организаторами определяется проблематика «Круглого стола», осмысление которой должно идти в двух направлениях: с одной стороны, «рассмотреть «давление» м е с т а на сценарий и на роли, то есть давление места на сюжет... и второе — рассмотреть самоощущение, ощущение себя как «члена пространства», члена ноосферы, как субъекта, который потенциально влияет на ее формирование.... Итак, субъект/объект описания под давлением пространства, под давлением места» [Провинция: поведенческие сценарии, 2000: 9].
Действительно, феноменологическое понимание вроде бы налицо, но
только в ракурсе интерпретатора: рассказать о «своих наблюдениях над
провинцией», «наблюдениях не над «чужими» текстами, а интерпретации
*
собранного своими руками» [Провинция: поведенческие сценарии, 2000: 9]. Достаточно точно отметит Б.В.Кондаков: «Принадлежность к провинции -это, прежде всего, определенный тип самооценки, тип культурного самосознания и самоопределения» [Провинция: поведенческие сценарии, 2000: 26]. К суждениям методологического характера следует отнести и тезис Каухчишвили: «...человек давит на место, чтобы создать себе свое место, в данном контексте создать свое мировоззрение именно из своего угла, как Достоевский создавал свое мировоззрение из своего угла... И сегодняшние географические сближения кажутся мне очень важными в этом направлении, потому что они создают какую-то общую панораму индивидуально-провинциальной проблематики» (выделено автором. — Н.К.) [Провинция: поведенческие сценарии, 2000: 101].
Между тем, феноменологический взгляд на место буквально пронизывает русскую литературу, в том числе, и «провинциальную». Провинция именно такое место и не-место, что чаще всего только как объект восприниматься не может, в той или иной степени оно наделено «сознанием» и как символическое, мифопоэтическое пространство, и как территория. Поэтому писатель будет видеть в нем одновременно «я» и «не-я». Ярче всего феноменологическая природа места предстанет в романе о художнике и близкой ему форме- феноменологической прозе [Мальцев, 1994; Колобаева, 1998;Пращерук, 1999]1.
Феноменологический метод обоснован в трудах Э.Гуссерля, Ф.Брентано, М.Хайдеггера, М.Мерло-Понти, Р.Ингардена, Ж.Делеза и
1 Так, Л.Колобаева в качестве одного из феноменологических принципов изображения места (тайги) Б.Пастернаком называет ситуацию, когда «автор «Доктора Живаго» может свободно менять местами субъект и объект повествования. В романе есть удивительные места, где описание природы дается автором как бы от лица самой природы» (выделено автором. - Л.К.) [Колобаева, 1998: 164]. Таким образом, субъективируя место, писатель наделяет его сознанием, делает субъектом повествования.
14 Ф.Гваттари и др., а также русских мыслителей А.Лосева, С. Франка, Г.Шпета, П.Флоренского, Б.Энгельгардта, М.Бахтина и других. При этом следует подчеркнуть, что русская традиция вполне самостоятельна по отношению к европейской. Как утверждает А. Хаардт, западные философы (прежде других Э.Гуссерль) «играли роль равноправных собеседников в сложном диалоге русской философии начала века» [Хаардт, 1994: 57].
Известно, что феноменология имеет разные смыслы, трансформируясь в кантовскую, гегелевскую, или гуссерлианскую, или хайдеггеровскую философию. В своем исследовании мы ограничимся наиболее общими для феноменологии философским и филологическим основаниями. Феноменология - «термин означает исследование феноменов», то есть того, что является в сознании, того, что «дано»: «Не нужно исходить из кусочка воска для того, чтобы создать философию протяженной субстанции или философию пространства, a priori выстраивающую чувственность. Нужно представить, без всяких предпосылок, кусочек воска самому себе и описать его так, как он себя дает» [Лиотар, 2001: 7].
Главнейшая цель феноменологического подхода состоит в расширении и углублении пределов нашего непосредственного опыта. В данном случае опыта пространственного, получаемого в отношениях «я» и «место». Начиная с феноменологического манифеста Э.Гуссерля «Философия как строгая наука» корректировка непосредственных феноменов под лозунгом «К самим вещам» ("Zu den Sachen") служит лейтмотивом феноменологических исследований.
Концепция Э.Гуссерля оказывается весьма продуктивной для филологической науки, поскольку она, как свидетельствуют ученые, изначально ориентирована на художественное сознание. По этому поводу современный исследователь замечает: «В гуссерлианской трактовке феномена нередко видели скрытую ориентацию на художественное сознание» [Лехциер, 2002: 23]. Художественное сознание конституирует вещь и воспроизводит ее образ в слове. Об этом говорит М.Хайдеггер:
15 «Слово — даритель присутствия, то есть бытия, в котором нечто является существующее... Слово есть условие вещи как вещи» [Хайдеггер, 1993: 09].
В русской традиции А.Ф.Лосев продуцирует феноменологический подход к вещи: «Необходима эта первая встреча мыслящего сознания с мыслимым предметом, которая психологически должна выразиться в искательстве... подлинного смысла вещи, затуманенного и затерянного среди частностей его проявления...» [Лосев, 1990: 158]. Встреча вещи (феноменологическая сращенность) с ее собственным становящимся смыслом осуществляется, «когда к ней обращен вопрос». Такая вещь должна «заговорить» сама. Вопрошание актуализирует «слово» вещи, «окликнутая вещь» как бы начинает излучать «свой собственный смысл».
Феноменологической природой в известном смысле обладает образ. В философии Гуссерля в центре «находится... вопрос о противоборстве образного смысла и реального контекста восприятия образа» [Хаардт, 1994: 59]. В образе вещь предстает как двойственная: с одной стороны, объект (материальная вещь), с другой - его «фундированность в восприятии физического носителя образа».
Подобную интерпретацию можно обнаружить у русского поэта Вяч. Иванова, который на рубеже XIX - XX веков определяет художественный образ как «действенный прообраз творения в мысли творца» [Иванов, 1994: 231]. И сегодня теория образа строится все на тех же основаниях, которые были намечены Гете и Гегелем [см.: Лехциер, 2003: 137-140]. Образ трактуется как «единство общего и конкретного», «объективного и субъективного». Обратимся к определению образа, данному М.С.Каганом: «В каком бы конкретном виде мы ни взяли художественный образ, он функционирует в произведении не как объект среди объектов, а как своего рода субъект, то есть «существо», наделенное активностью, сознанием и самосознанием, свободой воли и уникальностью. Более того, даже тогда, когда искусство изображает природные явления или вещи, образы тоже становятся квазисубъектами» [Каган, 1988: 112]. Исследователь также
признает, что «диалогическое отношение связывает художника не только с персонажами его произведений как квазисубъектами, но и с самим материалом» [Каган, 1997: 293]. Парадигма субъект - объект не позволяет рассмотреть этот диалог, только образ, понимаемый как феноменологический «предмет», может стать инструментарием его постижения.
В целом, феноменологический метод направлен на то, как подчеркивает Г. Шпигельберг, «чтоб уделить феноменам наиболее полное и прямое внимание, чем было уделено им в традиционном эмпиризме, то есть обнаружение и намеренное устранение теоретических конструктов и символов для возврата к подлинным феноменам. Попытка нейтрализовать действие привычных моделей мысли и возвратиться к изначальной невинности первого видения» [Шпигельберг, 2002: 234]. Провинция в русском художественном сознании Х1Х-ХХ века может исследоваться в конфликте присутствия символических конструктов мифологизированного пространства и открытия «подлинного феномена» места.
Одним из принципов феноменологии становится положение: ничто не должно быть признано как данное, если оно не может быть приписано конкретному органу чувств (биологического организма) как его рецептору. Отрицание позитивистами «феноменологических данных», например, восприятия расстояния, обусловлено этим предрассудком - предубеждением органов чувств. Однако в художественном творчестве русские натуралисты Д.Н.Мамин-Сибиряк, П.Д.Боборыкин, А.М.Федоров и др., исповедуя философию позитивизма, отнюдь не всегда отбрасывают феноменологические данные, скорее, наоборот. Но отношения позитивистского и феноменологического опыта в их творчестве представляется нам важнейшей аналитической задачей.
Призыв «к самим вещам» предлагает обратиться к феноменам, которые были скрыты из виду опережающими их «теоретическими моделями». Что же явится «теоретической моделью», которую русскому или
17 «провинциальному» писателю следует опровергнуть? Очевидно, это «миф» о провинции во всей своей художественной силе, закрепленный в нем «взгляд» стороннего наблюдателя, обусловленный центристским снобизмом. Что может опровергнуть, или демифологизировать, миф? Феноменологически понятые пространство и место включают в себя «я», в котором я познаю свое «я», - тезис, нуждающийся в развернутой системе доказательств. В творчестве каждого писателя то или иное место русской провинции, русская земля, «захолустье», «край» и т.д. должны предстать в опровержении старого опыта.
Многие термины феноменологии окажутся для нас необходимыми, например, «феноменологическая дескрипция» или «интуирование», «интенция», «феноменологическая установка» и другие. Думается, в той или иной форме, разрушая «миф», территориализируя место, писатели интуитивно используют «дескрипцию». Авторское сознание также «исследует» частные феномены: интуитивное постижение феноменов, рефлексия, а их описание - своего рода «феноменологическая дескрипция» русской прозы.
Задача писателя в момент «нового открытия «места» — концентрация на интуированном объекте. Но субъект не должен быть поглощен объектом, чтобы не утратить критическую позицию. Для этого «раскрой свои глаза», «держи их открытыми», «не ослепляй себя», «смотри и слушай» и т. д. -феноменологические метафоры в данном случае и создают для художественного сознания ситуацию «феноменологической установки». «Формы» ее претворения в текстах Н.Гоголя, И.Тургенева, С.Аксакова, И.Бунина, А.Белого, П.Боборыкина и региональных писателей Н.Лухмановой, Н.Чукмалдина и т.д. будут весьма разнообразны. Тем не менее исходная «ситуация» вслушивания в «место» будет присуща всем. Более того, почти все из перечисленных авторов прямо скажут об этом, раскрывая творческий замысел своих произведений или рассуждая о
18 проблемах творческого «я» [см. подробнее о персональной идентичности писателя: Абашева, 2001: 217-312].
Но земля во всех формах своего существования все-таки объект, «вещь», а не «субъект»? Является ли она феноменом нашего действительного опыта? Да, поскольку человек испытывает на себе «силу», воздействие земли (на простейшем уровне: холод, тепло, сыро и т.д.). Стало быть, референт есть. Если можно удариться камнем, то можно и «удариться» о землю. Свидетельство явлению - множество пословиц и поговорок: «грянуть о земь», «не ударить лицом в грязь», «уйти под землю на вершок» (по колени, по пояс вгоняют в землю русских богатырей) и др. Метафорический смысл будет отсылать к падению. Это сила, по законам физики, притяжение в буквальном значении слова, но это же понятие имеет множество метафорических нюансов в литературе, например.
Эта ситуация будет осуществляться в контексте «опыта нашего тела». Тело, в котором локализован опыт, - предмет феноменологии, описывающей тело, данное сознанию. На этом уровне проявятся новые понятия, необходимые нам: «захваченность», «втягиваемость», «отчуждение» и т. д., вполне в духе феноменологического.
Так ограничивается ли феноменология только субъективными феноменами? В последние годы Э.Гуссерль обозначал свою феноменологию как учение о трансцендентальной субъективности. Тем не менее гуссерлианская феноменология субъективности включает попытку обнаружить сущностные, - т.е. объективные, абсолютные - структуры, которые в противном случае были бы нашими субъективными феноменами. «В начале феноменологического движения сказывался определенный антисубъективизм», - утверждает Г.Шпигельберг [Шпигельберг, 2002: 134]. Однако М.Мерло-Понти поставил под сомнение само различие между субъективными и объективными феноменами, настаивая, что «феноменология преодолевает различие» [Мерло-Понти, 1999: 234].
19 Феноменологический анализ - это анализ феноменов. Такой анализ включает выделение конститутивных элементов феноменов и исследование их отношений и связей со смежными феноменами. Писатель не подвергает впрямую анализу феномен, именно интуитивно он «схватывает» его конститутивные черты. «Конституирование» - один из ключевых терминов феноменологии Гуссерля. Задачей такого исследования является выявление своеобразия конституирования провинции посредством интуитивного постижения ее сущности. Очень часто для описания феноменологического постижения феноменологи избирают именно «схватывание пространства», что кажется нам особенно важным.
Важнейшей категорией феноменологии становится категория опыта. Чрезвычайно интересно, с нашей точки зрения, рассмотреть отношения позитивизма и феноменологии, поскольку место, край, «новые углы России» чаще всего в искусстве XIX века становятся предметом изображения натуралистов или «областников», тяготеющих к «эмпирическому» опыту и, главное, в какой-то мере исповедующих позитивизм. Позитивисты предлагали принцип простоты в возвращении к позитивным данным опыта, что, несомненно, оказывается близко феноменологическому подходу (геофилософия И.Тэна). В позитивистский принцип возведена поговорка: «бритва Оккама», - принцип, согласно которому «не следует умножать сущности сверх необходимости». Этот принцип феноменология дополнила положением: «не следует отбрасывать феномены, данные интуитивно». При этом Э.Гуссерль настаивал на устранении чужеродных наслоений и обновлении подлинных феноменов, не отрывая их при этом от своих корней. Традиционно опыт (experience) трактовался в гносеологическом контексте как чувственное познание, обеспечивающее непосредственную данность объекта. Такой смысл ему был дан эмпиризмом и сенсуализмом (Локк, Беркли, Юм). Рационализм отводил опыту в процессе познания подчиненную роль (Декарт, Спиноза, Лейбниц). В философии И.Канта понятие опыта тождественно познанию, «сообразно которому могут быть
20 даны предметы» [Кант, 1994: 19]. И в этом смысле у Канта опыт - «продукт чувств и рассудка».
Но опыт и одно из фундаментальных понятий феноменологии и герменевтики. Э.Гуссерль, В.Дильтей, М.Мерло-Понти, М.Хайдеггер рассматривали опыт как «код постижения бытия» [Хайдеггер, 1999: 136]. С ним сопрягались понятия: «переживание», «экзистенция», «сознание» и другие. Опыт в этом случае — это переживание,.взятое онтологически, то есть способ жить (или быть).
Природа опыта рассмотрена Х.Г. Гадамером в книге «Истина и метод. Основы философской герменевтики» (1988). Обращаясь к философии Э.Гуссерля, Гадамер замечает: «Присоединясь к картезианскому определению «мыслящей вещи» (res cogitans), он (Гуссерль) определяет понятие переживание через рефлексию, через внутреннее бытие» [Гуссерль, 1999: 106]. Уже в этой работе проводится четкое разделение феноменологического и популярного понятия переживания. Единица переживания понимается не как частица реального потока переживания некоторого «Я», а как интенциональное отношение. Переживание как смысловая единица здесь также теологично.
Переживание у Гадамера связано с биографическим опытом писателя, что для нас особенно важно. Исследователь отмечает, что переживание как термин становится привычным только к 70-м гг. XIX века, и его «полное введение совпадает с его применением в биографической литературе [Гадамер, 1988: 104]. И если «пережитое - это всегда пережитое самостоятельно» [Гадамер, 1988: 105], то оно открывается и в опыте творчества. При этом «самостоятельное» переживание не забыто писателем, не изжито, оно не стало прошлым навсегда. Момент дления есть здесь и сейчас.
Вообще, как представляется, опыт возможен только как «биографический»: «Сущность биографии, и в особенности биографии художников и писателей XIX века, состоит в том, чтобы исходя из жизни
21 понимать творчество» [Гадамер, 1988: 105]. Переживание русской земли, ее постижение в себе, а таковым оно явится не только у Бунина или Тургенева, но и у натуралистов, и «областников», только в образе «сибирской земли», для писателя обладает особой ценностью, придающей ему непреходящее значение, значение теологическое.
Автобиографическое начало в произведении может выступать в различных формах, определять жанровую природу и стиль произведения, как, предположим, русские автобиографии. Но может и быть загадкой, как это происходит с художественными вещами Бунина - «Суходолом» и «Жизнью Арсеньева». Дистанция может быть и разительнее, то есть «автобиографического», кажется, там нет вообще, как, например, в романах П.Боборыкина «Китай-голод» или «Хлеб» Д.Мамина-Сибиряка и др. Но как только в произведении речь зайдет о географии, то есть о месте и его феноменальной сущности, писатель «наградит» героя или другого субъекта речи своим биографическим опытом, чувственным, интуитивным и рефлексивным.
И тогда, как пишет В.В.Химич в статье «Провинциальный топос» в процессе самоидентификации личности», «глубокая провинция» неожиданно «мыслится... как уникальный топос, в котором складывается особая ментальная сущность... Мемуарный дискурс, субъективный по самому своему существу формирует особого рода энергетическую ауру. Складываясь в рамках индивидуального сознания и кругозора, он дает возможность человеку строить некое новое пространство... позволяя осуществлять эту операцию, «как психотерапевтическую процедуру (Ю.Лотман)» [Химич, 2004: 222].
И потому «переживание» в художественном опыте обретает свой бытийный статус. Такой опыт определяет русского писателя, поскольку его биографическая рефлексия в обращенности к феномену русской земли постоянна, она отражает сущностные отношения художника и его земли. Подобно тому, как место в произведениях русских писателей: Суходол в
22 повести И.Бунина, Оренбургская губерния С.Аксакова, земля в Васильевском И.Тургенева («Дворянское гнездо») и т.д. - «поглощает» человека и авторское сознание наделяет этим переживанием субъекта речи, произведение воздействует и «захватывает» «я» читателя. Проблема «схватывания» пространственного опыта для русской литературы представляется особенно важной.
Кроме того, русский художник прекрасно распознает тему русской земли и переживание места в творчестве других писателей. Он готов воспринять их опыт и вступить в диалог, пожалуй, не отменить предшествующий, а использовать его как «чужое слово» в произведении, но и «опровергнуть», дополнить его своим опытом. Такой подход оказывается методологическим для данного исследования.
Пере - живание имеет свою топологическую структуру. Современный русский исследователь интерпретирует это так: «Проживать - прочно занимать место в жизни, быть у - местным. Жить в модусе «про». Жизнь знает свою физику в модусе «пере» и «мета» - свою метафизику» [Лехциер, 2003: 43]. Интерпретацию национального переживания пространства дает В.Подорога: «Пере - живание - это кочевье, бродяжничество, неприкрепленность к месту, вечная а-топия, неуместность, гений неуместности» [Подорога, 1995: 44].
Опыт бытия в творчестве становится художественным опытом. Русская география становится предметом осмысления в литературе. И именно здесь и происходит истинный опыт «встречи» писателей с русской провинцией. Наличие темы, проблемы, конфликта, связанных с пространством земли русской, подтверждает «власть» географии над русской душой и сознанием, причем власть «гипертрофированную» и «роковую», ту самую, о которой говорил еще Н. Гоголь в «Мертвых душах».
Феноменология пространства сегодня исходит из философствования М.Хайдеггера, которое совершенно невозможно вне географического пространства. Само понятие Dasein изначально пространственно: «Человек
23 неотделим от «своего» пространства, существование его в качестве Dasein "пространственно" [Хайдеггер, 2001: 237]. По Хайдеггеру, мысль сопричастна ландшафту. Как пишет В.Подорога, актуализируя рассуждения философа: «Образ ландшафта порождается скоростью самой мысли» [Подорога, 1995: 275]. И тогда само пространство — герой философствования [Подорога, 1995] или субъект художественного произведения (Колобаева 1998). В этом случае опространстливается само место. В работе место, земля понимается как сфера объективной человеческой субъективности. Такой образ места в художественном тексте выступает «неким полем или контекстом любой возможной или потенциально продуктивной, ориентированной на себя мысли» [Замятин, 2000: 259].
«Только тот, кто пережил подлинную растерянность, фрустрацию перед феноменами, пытаясь найти для них подходящее описание, знает действительное значение феноменологического взгляда», - тезис, который полностью может быть отнесен к художественному сознанию [Серкова, 2003: 341]. Может быть, и литературоведу стоит «пережить» растерянность» перед литературой «второго» ряда. Об этом говорит и М.Л.Гаспаров: «Классицизм в школе (и в вузе?) следовало бы изучать по Сумарокову, романтизм по Бенедиктову, реализм по Авдееву (самое большее - по Писемскому), чтобы на этом фоне большие писатели выступали сами по себе» [Гаспаров, 1997: 348]. В высказывании присутствуют два аспекта: освободить русских великих писателей от любого вида типологизации, но, с другой стороны, изучать как репрезентативные явления произведения малоизвестных художников.
В отечественной науке, обращающейся к исследованию пространства, вполне ощутим феноменологический подход1. Его обоснование
Сближение феноменологического анализа с некоторыми принципами филологической науки существует. Так, Джон Л. Остин говорил о «лингвистической философии, например, лингвистической феноменологии», основываясь в некоторой степени на концепции Людвига Витгенштейна [1929: 126]. Говоря о теории Гумбольдта, лингвисты отмечают, что «язык сплетается из пространства».
24 осуществляется М.М.Бахтиным. Работы исследователя могут пониматься как некое связующее звено между философской наукой и филологической. В какой-то мере это понятие хронотопа, предложенное ученым в работах 20-х годов. Именно им продуманы такие параметры пространства героя, как «кругозор» и «окружение» [Бахтин, 1994: 163-165]. Хронотоп как элемент поэтики, обычно определяемый жанром и «зависимый» от него, обретает у Бахтина и известную самостоятельность. По существу, хронотоп - понятие, фиксирующее «существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [Бахтин, 1975: 234]. В современный оборот оно вошло после публикации в 1975 году статьи Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе», написанной в 1937 году и донесшей до наших дней отзвук исследований 20-х годов, когда ученые искали пути к определению «коллективного бессознательного».
На сегодняшний день эта теория Бахтина все чаще оспаривается и потому, что акцент все чаще делается на пространстве, как наиболее универсальной для словесного искусства категории, и по причине «размытости» термина: «Хронотоп противоречит принципу диалогичности, выдвигаемому ученым, а также является слишком широким и даже абстрактным понятием, включающим в себя все» [Щукин, 1997: 37-38]. Но так ли это? Рассматривая хронотоп «провинциального городка», Бахтин обнаруживает его особую функциональность в творчестве Флобера, Гоголя, Щедрина, Чехова. Провинциальный город, замечает ученый, олицетворяет «циклическое бытовое время», «бессобытийное» и «липкое» [Бахтин, 1975: 396], но именно поэтому оно не может быть в произведении единственным и «служит контрастирующим фоном для событийных и энергических временных рядов» [Бахтин, 1975: 397]. И в этом смысле трудно говорить об отсутствии диалогичности в произведении, где этот хронотоп присутствует. Другое дело, что теоретический посыл Бахтина нуждается в своем дальнейшем изучении, ибо встает вопрос о «формах хронотопа», олицетворяющих «энергическое время».
25 Продуктивной для исследования оказывается и категория Другого, разрабатываемая ученым также с 20-х годов. Поэтика, в представлении Бахтина, основывается на поведении отдельного конкретного человека как субъекта сознания и речи. Эта позиция гуманитарного персонализма роднит Бахтина с его предшественниками В.Дильтеем и Г.Когеном. Она рассматривает жизненный мир и сознание в феноменологическом единстве «субъективного и интерсубъективного» (межличностного начала, в лексике Бахтина). Изучение феноменологии места может быть развернуто исходя из высказывания Бахтина: «... если лик события определяется с единственного места участного, то, сколько разных ликов, столько разных единственных мест» [Бахтин, 1994: 45] (курсив наш. - Е.Э.). В работах Бахтина разного времени проблема «голосов» и их «неслиянности» разработана настолько, что может лечь в основание исследовательского подхода феноменологии места.
Социологическая поэтика Бахтина способна дать ответ на вопрос, каким образом художественное высказывание связано с жизнью писателя как субъекта всеобщего диалога. Слово, по Бахтину, всегда «направленно». Оно служит не просто носителем информации, но и орудием осуществления намерения и оценки, с чем связаны его аксиологическая и интенциональная природа. В работе «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику» автор по существу обращается к «художественным интенциям романа» [Бахтин, 1994: 27-30].
Методологически актуальным для нашей работы оказывается и феноменологическое основание литературоведческого исследования, развернутое в трудах Бахтина «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа», «Из записей 1970-1971 годов», «К методологии гуманитарных наук» [Бахтин, 1979] и др. В этом качестве выступает концепция выстраивания диалога в художественном тексте, актуализирующегося, по мнению Бахтина, «объективацией субъективного» (детерминированность или объективация
26 человека, «вещность») и «субъективацией объективного» (персонификация)» (курсив наш. — Е.Э).
Возможно, теория Бахтина в этом случае восходит к феноменологии художественного творчества Г.Шпета. Именно процессы субъективации и объективации видит философ истоком феноменологического: «Мы имеем дело всякий раз... с объективированием субъективного, а вместе, следовательно, и с субъективированием объективного — в каждом произведении поэзии, как и во всех других областях творчества» [Шпет, 2003:179] (курсив наш. - Е.Э.). Думается, задача, выдвинутая Г.Шпетом: «Нужно найти способы, которыми вскрывалась бы эта субъективность в точном и строгом смысле» [Шпет, 2003: 179], — во многом реализуется в «эстетике словесного творчества» Бахтина.
Важной для М.М.Бахтина оказывается и идея Густава Шпета, в основе которой позиция «вещь — субъект» эксплицируется в процедуре субъективации — объективации: «... мы должны будем признать, что, будучи предметами... например, восприятия, эти вещи сами также воспринимают, вспоминают, фантазируют. Такие вещи называются субъектами» [Шпет, 2003: 177-178]. И тогда персонификация и, шире, метафоризация1 места образуют в художественном тексте «сферу» феноменологического, метафорическую интенцию. Присутствие провинции в разнообразии ее форм: уездного города, усадьбы, дороги, русской земли, сибирской земли и т.д. - явит субъекта, поскольку, как замечает Г.Шпет, размышляя о феноменологической сращенности образа, «объект всецело в недрах самого субъекта, или наоборот, потому что субъект всецело растворился в нем» [Шпет, 2003: 184-185].
Бахтин, заостряя при этом проблему «голоса», пишет: «Задача заключается в том, чтобы вещную среду, воздействующую механически на личность, заставить заговорить, то есть раскрыть в ней потенциальное слово
В феноменологическом понимании интерпретируют процесс метафоризации, коренящийся в опыте, Дж. Лакофф и М. Джонсон в работе «Метафоры, которыми мы живем» [2004].
27 и тон, превратить ее в смысловой контекст мыслящей, говорящей и поступающей (в том числе и творящей) личности» [Бахтин, 1979: 366]. В данном случае и проявляет себя интенциональность как конституирование объекта сознанием. «Смысловое преображение бытия», наделение его «смысловым потенциалом» [Бахтин, 1979: 367] обнаруживает ученый в каждом художественном произведении.
Таким образом, можно предположить, что всякое место русской провинции, оставаясь только объектом, не может воздействовать на субъекта; чтобы это случилось, место «должно раскрыть свой «смысловой потенциал», предстать в слове, «войти в словесно-смысловой контекст» русской литературы.
Одновременно с М.Бахтиным освоение феноменологии в отечественной филологической науке начинает Б.М.Энгельгардт в работе «Формальный метод в истории литературы» [Энгельгардт, 1927]. Исследователь предлагает свой объект филологической науки: «Объектом истории литературы является не история художественных произведений или мысли, выраженной поэтически и т.д., но история поэтического творчества и восприятия (процессов в сознании), рассматриваемых с точки зрения их внутренней теологии (т.е. нормативно). При таком определении история литературы: 1) занимает определенное место в системе исторических дисциплин, 2) приобретает полную самостоятельность» [Цит. по: Муратов, 1997: 8].
Исследуя наследие ученого, А.Б.Муратов осуществляет намерение систематизировать и обобщить феноменологические идеи Энгельгардта: «Это означает, что история литературы не может быть построена как историческая поэтика» (она не история мысли, выраженной поэтически). Изучению в истории литературы подлежат процессы творчества и восприятия, которые, в конечном счете, обусловлены свойствами сознания...» [Муратов, 1997: 8].
28 Таким образом, эстетический объект есть образ, построенный в субъекте. Объекты восприятия, в том числе и пространственные, обладают разной способностью производить эстетическое впечатление. Исходным для нас оказывается суждение А.Б.Муратова: «Если явления природы или культуры воспринимаются как самодовлеющие, т.е. как имманентно обоснованная структура, то они и могут легче восприниматься как самозначимые» [Муратов, 1997: 15]. Но у образа есть и еще одно «условие». Провинция, русская земля, край и т.д. как «объект» оказываются значимыми при «повышенной апперцептивности данного образования», т.е. в случае, когда оно «обладает способностью привлекать и сосредоточивать на себе внимание воспринимающего субъекта» [Энгельгардт, 1927: 47].
Важнейшим основанием методологии в работе становится феноменологическая концепция пространства В.Н.Топорова. Следует заметить, что методология мифопоэтического В.Топорова восходит к работам философов феноменологического направления, в частности Э.Гуссерля и М.Хайдеггера. Выдвигая тезис об освобождении от предубеждений в освоении пространства, В.Н. Топоров, по существу, говорит о его феноменологизации.
Действительно, если «пространство может быть понято как сообщение» [Топоров, 1983: 227], то тогда основной тезис Э.Гуссерля: «Фномены...«сами - себя - через - самих - себя - раскрывают»; и Хайдеггера: «...себя - в - самих - себе - обнаруживают» - впрямую связывается с художественным пространством.
По Топорову, пространственное переживание, субъективация места осуществляется на уровне создания мифопоэтических и символических образов: «В мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой пространства (оно «спациализируется» и тем самым как бы выводится вовне, откладывается, экстенсифицируется), его новым (четвертым) измерением [Топоров, 1983: 232].
29 При этом мифологизация пространства предстает как процесс. Его внутреннее движение обусловлено тем, что постепенно «многое в образе пространства демифологизируется, становится добычей времени, овеществляется и навсегда остается в своей эпохе, в породившем его локусе и ближайших его локально-временных окрестностях. Но...в наиболее значительных художественных текстах нового времени снова и снова генерируется подлинно мифопоэтическое и самодовлеющее пространство... Это усвоение себе, обживание, одухотворение пространства совершается в разных направлениях и разными способами» [Топоров, 1983: 272].
Далее, вслушиваясь в слово Хайдеггера о просторе (перевод Бибихина), Топоров описывает процедуру создания «нового пространства»: «Интериоризация пространства (мира) т. е. вбирание (в- тягивание, во -влечение) его в себя, когда уже внешний мир, проецируясь на человека, на Я, задает ему свою меру...человек ощущает себя в сильном пространственном поле, налагающем на него свою структуру, испытывает своего рода «социализацию»...При этом пространство как бы пресуществляется в экстатическое сгущение энергии субъекта» [Топоров, 1983:278]. Исследователь таким пространством видит пространство сна. Но нам кажется, что любое созерцание места или глубинная захваченность сознания местом (его объективация в какой-то мере), то есть место в значении опыта, или в значении «пере» (переживания), проявит себя в художественном тексте в процессе «интериоризации».
Но, возможно, кроме названного есть и другие «способы», и другие формы пространственного восприятия? Другой «способ» В.Н.Топоров обнаруживает в «произведениях искусства «среднего» уровня», тяготеющих «к известной объективации пространства, с чем, как с ее продолжением, и связаны попытки материализовать пространство, овеществить его, овнешнить... оторвать от субъекта, познающего пространство» (разрядка автора. - В.Т.) [Топоров, 1983: 229-230]. Какие произведения имеет в виду исследователь, из его работы не явствует, но
можно предположить, что они имеют отношение к натуралистической традиции или представляют провинциальную или массовую литературу. Высказывание ученого провоцирует постановку нескольких вопросов. Геометризировано ли географическое пространство? Можно ли интерпретировать «объективные» тексты, исходя из феноменологической парадигмы?
А если попытаться отойти от столь крайней оценочности, признать что «иная» пространственность строится на другом художественном основании? Может быть, именно феноменологическая установка позволит литературоведу заново «прочитать» литературу «повседневности», натуралистическую и региональную, ориентированную изначально на обыденное сознание, обыденный язык.
В какой-то степени сам В.Н.Топоров это и осуществляет в работе «Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд)» [Топоров, 1991: 200-279]. Исследователь предпринимает попытку рассмотреть «субъектный и объектный аспект порождения образа урочища» как результат «параллельной или параллелизирующейся работы природы и культуры» [Топоров, 1991: 200]. Феноменологическую нацеленность на изучение «городского урочища», то есть места, и видит ученый важнейшей задачей современной науки: «Поэзия, «разыгрывающая» пространство, и пространство, «разыгрываемое» поэзией poesia loci и locus poesiae - то целое, где граница между причиной и следствием, порождающим и порождаемым тяготеет к стиранию, - вот то "новое" единство, которому предстоит быть осмысленным и понятым как в макро -, так и в микроперспективе" [Топоров, 1991:201].
И здесь мы вряд ли сможем обойтись без обращения к истолкованию самих понятий «пространство» и «место». В.И.Даль определяет их так: «Пространство - состояние или свойство всего, что простирается, распространяется, занимает место; само место это: простор, даль, ширь и глубь, место по трем измерениям своим» [Даль, 1995: 515]. В свою очередь,
31 место: «Пространство, занимаемое каким-либо телом или предметом, известное вообще, занятое либо порожнее, ширь, простор, пустота» [Даль, 1995: 369]. Таким образом, по своим системным связям пространство и место в языке того времени — синонимы.
И лишь позднее новое пространственное состояние, космология, физика, астрономия, естественнонаучные достижения спровоцировали трансформацию синонимического значения пространства и места в родо -видовые: «Пространство - трехмерная протяженность во всех направлениях, измерениях»; место — «пространство, занимаемое каким-либо телом, а также свободное пространство, которое может быть занято кем-либо, чем-либо» [Словарь, 1982: 256]. К эпохе рубежа XIX - XX веков, то есть изучаемому нами периоду, складывается новая парадигматика пространства и места (насчитывает более 50 единиц): зона, сфера, воздух, поле и другие.
Таким образом, понятия «места» и «пространства» как самостоятельные становятся важнейшими и для русской литературы этого времени, в частности для натуралистической прозы, с одной стороны, и для модернистского мышления, с другой стороны. И если существуют историческая проза и исторический роман, терминологически закрепляющие историческое содержание и особенности подхода автора к историческому факту, то, соответственно, можно говорить и о географической прозе и географическом романе в русской литературе, то есть прозе и романе места.
В древнерусской литературе такую традицию откроют летопись, жанр хождения, в русской продолжит ее путешествие, очерк, позже развернет классический роман XIX века и утвердит, представит по-новому натуралистическая проза. В искусстве рубежа XIX - XX веков действительно будут противопоставлены друг другу пространство и место, воплощаясь в символистской поэтике как пространство и в натуралистической как место, но и получая сложные родо-видовые вариации в искусстве этих стилевых направлений. Поэтика места может открыть для нас заново «областную» литературу и натуралистическую прозу
32 П.Д.Боборыкина, Д.Н.Мамина-Сибиряка, Н.Г.Гарина-Михайловского и других.
Русская земля как ипостась провинции в литературе открывается, помимо прочего, в образе природы. Феноменологическую сращенность обретает пейзаж в интерпретации М.Эпштейна. Так, ученый замечает глубинную взаимосвязь художественного сознания и русской природы, взаимосвязь, воплотившуюся в поэтическом слове. Речь не идет о «подражании» или отражении в искусстве некой географической реальности. Напротив, по Эпштейну (хотя феноменологическая лексика и отсутствует), образ русской земли в поэзии глубоко интенционален: «Какие-то важнейшие свойства природы так сгущаются в слове, что превосходят свой прообраз... И поэзия как бы помогает природе стать самой собой ... Для поэта нет ничего важнее чувства или сознания, что, называя вещи, он дарит им обновленную, нетленную жизнь.... Мир заново творится словом» [Эпштейн, 1990: 18-19].
Но, возможно, это только свойство поэзии? Однако исследователь исходит из самого феномена природы, подтверждая, «что она не знает расчлененности на субъект и объект» [Эпштейн, 1990: 177]. И тогда не только поэзия, но и русская проза открывает читателю «книгу природы», учит «постигать поэзию в природе» [Эпштейн, 1990: 281].
Теоретическую и методологическую основу работы, как можно видеть, составил комплекс разноплановых исследований. Философские труды по феноменологии и геофилософии Э.Гуссерля, Ф.Брентано, М.Хайдеггера, Г.Марселя, П.Рикера, Ж.П.Сартра, М.Мерло-Понти, В.Дильтея, М.Фуко, Г.Башляра, Ж.Делеза и Ф.Гваттари, Р.Ингардена, Г.Шпета, Ж.Ф.Лиотара, М.Элиаде, И.Тэна; М.Мамардашвили, Б.Энгельгардта, М.Бахтина Н.Бердяева, П.Флоренского, В.Подороги, Д.3амятина, Tuan Yi-Fu (1987, 1990), Abler R. (1971), Adrian H. (1987), Board С (1979), Dtsai A. (1980), Hudson R., Pocock D. (1978) и др.
Важнейшей областью исследования географического образа стала геокультурология, методологию которой определяют работы К.Риттера,
33 Дж.Голда, А.Гумбольдта, Е.Зябловского, Н.Милюкова, Л.Мечникова, Ф.Ратцеля, В.Семенова-Тян-Шанского, Н.Трубецкого, П.Савицкого, Л.Карсавина, Н.Анциферова, И.Гревса, В.Каганского, О.Лавреновой, Ю.Веденина, Pevsner N. (1968), Glaser Н. (1971) и других.
Методологическую базу изучения пространства в художественном тексте определяют работы М.Бахтина, Н.Гуляева, Д.Лихачева, Ю.Лотмана, Б.Успенского, В.Топорова, А.Гуревича, Вяч. Иванова, М.Эпштейна, Д.Гачева, Н.Арутюновой, В. Гака, А.Шмелева, Ю.Тильман, Bachelard G. (1957), Malins Е. (1966), Rybczynski W. (1986), Boroditsky L. (2000), Taub S. (2001), Lakoff G., Johnson M. (2003) и других.
При изучении образа провинции в русской культуре и проблем регионалистики актуальными оказываются изыскания Н.Пиксанова, П.Сакулина, П.Куприяновского, Г.Стернина, И.Дергачева, А. Белоусова, Т.Цивьян, В.Щукина, М.Спивак, Е.Дмитриевой, Н. Комляк, О.Купцовой, А. Лазарева, В. Кривоноса, Л.О.Зайонц, Б.Чмыхало, В.Абашева, М.Абашевой, М.Одесского, Г.Данилиной, Н.Рогачевой и других.
Цель данной работы - на основе исследования форм и способов поэтологической репрезентации провинции в прозе рубежа XIX - XX веков выявить природу изучаемого феномена, его роль в опыте самопонимания русского писателя. Этим и определяется постановка задач, обусловливающих структуру диссертации:
- рассмотрение общенаучных, в том числе и философских, предпосылок изучения смысловой структуры художественного пространства в рамках феноменологического подхода; разработка методологии и инструментария, позволяющих исследовать природу интенциональности провинции в произведениях, принадлежащих к разным направлениям XIX -начала XX века (неореализм, символизм, экспрессионизм, натурализм и т.д.), а также общерусской и региональной литературам;
- исследование процесса мифологизации и демифологизации русской
провинции в прозе XIX века (Н. Гоголь, С.Аксаков, М.Салтыков-Щедрин,
И.Тургенев, Н.Лесков, И.Гончаров и др.);
- выявление художественного опыта метафорической
интенциональности (персонификации) и «переживания» места - города, края,
степи и т.д. - в русском натуралистическом романе П.Боборыкина,
Д.Мамина-Сибиряка, А.Федорова;
- раскрытие художественного содержания региональной прозы,
определяемого дискурсом места, Тюменского края (Н.Лухманова,
Н.Чукмалдин, М.Знаменский и другие);
- осмысление природы ретерриториализации пространства провинции
и ее важнейших типов в суггестивной прозе начала XX века (Л.Андреев,
И.Бунин, А.Белый). Анализ произведений И.Бунина «Суходол» и А.Белого
«Серебряный голубь» как «романа о художнике».
Новизна исследования обусловлена тем, что в работе осуществляется попытка использования феноменологического подхода к изучению образа провинции на материале русской прозы рубежа XIX - XX веков. Пространственная (географическая) образность русской литературы должна быть исследована вне традиционной субъектно-объектной точки зрения на взаимоотношения человека и места. Сегодня эта признанная парадигма начинает противоречить принципиально новым идеям, которые встроить в нее оказывается невозможно.
Теоретическая значимость работы состоит в исследовании феноменологической поэтики места, что позволяет по-новому интерпретировать русскую классику, а также осмыслить художественное своеобразие региональной литературы. Содержание и методологическая основа диссертации применимы для дальнейшей разработки темы провинции в отечественной литературе и изучения провинциальных локальных текстов русской культуры.
Научно-практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что результаты работы могут быть использованы в вузовском преподавании общих курсов русской литературы XIX века и рубежа XIX-XX вв., специальных курсов по творчеству отдельных писателей и истории региональной литературы. Материалы диссертации частично введены автором в историко-литературные курсы, чтение которых осуществляется им на филологическом факультете Тюменского государственного университета. Предложенная методика изучения произведений русской литературы может быть продуцирована на литературу XX века.
Апробация работы. Содержание диссертации отражено в авторской монографии, главах коллективной монографии, двух учебных пособиях, четырех статьях в журналах, рекомендованных ВАК, а также ряде статей, опубликованных в других изданиях. Основные положения диссертации были изложены в докладах на международных, всероссийских и региональных научных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Каунасе, Орле, Туле, Екатеринбурге, Тобольске, Тюмени.
Структура и объем работы определяются целью и задачами исследования и включают введение, пять глав, заключение и список литературы.
Библиография содержит список использованной литературы по проблематике исследования.
Феноменология пространства и места в геофилософии
Категории Пространства и Времени всегда были в центре внимания философии. Литературы, посвященной исследованию пространства и времени, достаточно много. Прежде всего, это объясняется тем, что пространство и время выступают универсальными понятиями. В связи с этим область, связанная с их исследованием, является междисциплинарной и представляет интерес для целого комплекса наук: физики, естествознания, философии, искусства. В более выгодном положении оказывается проблематика, связанная с исследованием времени: за последние годы количество статей, связанных с проблемами времени, исчисляется сотнями, а книг, монографий и коллективных трудов - десятками.
Понятие художественного пространства стало складываться только в конце XIX - начале XX века, хотя отдельные аспекты возникающих в связи с его осмыслением проблем можно обнаружить еще во времена античности. Причины этого явления И.П.Никитина видит в непроясненности самих категорий пространства и времени в эпоху античности и средние века, а также в том, что достаточно долго существовало представление «об искусстве как размещении художественных форм в научно фиксируемом трехмерном пространстве» [Никитина, 2001: 5].
Наиболее продуктивным для изучения художественного пространства и времени явилось направление, связанное с представлением их в качестве важнейших составляющих человеческого сознания. Такое понимание пространства и времени стало возможным благодаря феноменологии как науки, персонифицирующей сознание и делающей его краеугольным камнем всякого познания.
Феноменологическое понимание пространства отчасти предваряют некоторые размышления Аристотеля. Признано, что в античности и позже, в средние века, термина для обозначения пространства не было, однако сказано, что «каждое время объемлет свои «сущности», то есть пространство». У Аристотеля "topos (locus) значит место, местность, также положение в социальном смысле, chora (spatium) — расстояние ("между"), дистанция, ранг, также земля и почва... to chenon (=vacuum) совершенно недвусмысленно обозначает полое тело, причем акцент падает на обхват» [Аристотель, 209 а, 6] (курсив наш. - Е.Э.). Связь пространства и представления о нем, понятия «пустого» и «заполненного» пространства, намеченные Аристотелем, гораздо позже явятся предметом феноменологического философствования.
В литературе императорской эпохи, силящейся передать магическое чувство пространства античными словами, пользуются выражением вроде oratos topos («чувственный мир») или spatium inane («бесконечное пространство», но также и широкая плоскость; корень слова spatium означает "вздуваться, тучнеть"). «В подлинно античной литературе не было потребности в описании пространства за полным отсутствием самого представления", - заметит О.Шпенглер [Шпенглер, 1993: 338].
Представление о пространстве определяется мирочувствием сознания в видении Шпенглера: «Почти невозможно с достаточной глубиной постичь пафос этого отрицания. Вся страстность античной души символически отмежевывается с его помощью от того, что она не хотела воспринимать как действительное, чему не следовало быть выражением ее существования. ... Античная Вселенная, космос, хорошо упорядоченное множество всех близких и вполне обозримых вещей замыкается телесным небосводом. Большего не существует. Наша потребность - мыслить за пределами этой оболочки новое «пространство» — полностью отсутствовала в античном мирочувствовании» [Там же: 7].
Постепенно на основании концепции Времени выделилась особая область философского знания - философия истории, историософия, оказавшая свое воздействие на развитие исторической науки и литературы. Казалось бы, изучение пространства как философской категории позволяет совершенствоваться и географическому знанию, ибо география - наука о пространстве, а также культурологии и филологии в изучении художественного пространства.
Однако в последние десятилетия становится очевидным отсутствие как таковой геофилософии, ведь география - это, скорее, не только наука о пространстве, но о пространстве земли или территории, месте. Соответственно, это проблемы пространства и места, взаимоотношений человека и места, разнообразные философии географии (места) в науке и литературе. Тем не менее размышления по поводу этих проблем можно обнаружить в философии и в связи с этим выделить несколько существующих подходов.
Особые отношения геофилософии и художественного пространства выстраивает Ипполит Тэн в своей знаменитой работе «Философия искусства» (1880), созданной на основе лекционных курсов, прочитанных им в 1864 — 1869 гг. в парижской школе изящных искусств. Рассматривая особенности процесса создания произведений искусства, творческой лаборатории итальянских и нидерландских живописцев, древнегреческих скульпторов, Тэн выявляет глубинные взаимосвязи художественного сознания и земли, как порождающего это сознание начала.
Концепция философа оказывается весьма востребованной современной наукой. Как пишет П.С.Гуревич, «если говорить о направленности тэновского анализа, то он ближе всего по своему духу к современным попыткам раскрыть коллективную ментальность, то есть передать исходные типы мышления, господствующие в конкретном обществе, особенности душевного склада людей, психологические черты эпохи» [Гуревич, 1996: 6].
В соответствии с традицией классического позитивизма Тэн отдает предпочтение «науке о природе», то есть факту, перед «наукой о духе». Возможно, сегодня следует переосмыслить отношение к концепции Тэна, взглянуть на нее непредвзято. Ведь еще Э.Гуссерль, представляя феноменологический метод, отметил, что «величие естественных наук», основанных на позитивистской философии, определяется не только эмпиризмом, но и их выходом за его пределы.
Экстериоризация провинции в русской классике XIX века
Исследователи, занимающиеся изучением «провинциального» текста, в последнее время все чаще обращаются к происхождению слова «провинция». Как отмечает Л.О.Зайонц в статье «Провинция как термин», «... история провинций - это, как правило, история завоеваний или освоений новых земель. В русский язык слово «провинция» попадает в конце 17 века как калька с польского provincja, т.е. воеводство, губерния» [Зайонц, 2000:12]. Обозначение новой территории, как видим, первоначально не имеет негативной эмоционально-экспрессивной окрашенности, не несет оценочности, поскольку образ места еще не сложился в обыденном сознании.
Рассматривая проблему, исследовательница отсылает к договору Петра Первого с маркизом Кармартеном от 16 апреля 1698 года, где Казанское царство впервые названо «Казанской провинцией», а также упоминает, что «термином провинция закреплялся новый торгово-экономический статус областей». В Указе о провинциях говорится об «учинений провинций к Великому Новгороду, ко Пскову и к Астрахани и к иным таким городам малые города и уезды приписать» [Поли. собр. законов, 1830].
Появление понятия влечет за собой и распространение «производных от него слов: «провинциальный», «провинциал» и др.», - которые впоследствии «стали обозначать прежде всего явления в области быта, культуры, нравов» [Спивак, 2004: 504]: «Тогда же в обиход входит немецкое слово провинциал, обозначающее владетеля провинции (ср. в одном из указов 1719 г.: «По присланной ведомости от Сибирского провинциала... уведомлясь») Провинциалами называют также чиновников провинциальных ведомств» [Зайонц, 2000: 13].
Реформы Петра приводят к тому, что в России «складывается областная иерархия: губерния (область) и уезд (подразделение губернии)». То есть началом «официальной биографии провинции» можно считать петровскую реформу 1719-1727 гг., когда провинция из бытовой или торгово-экономической области превращалась в административное звено областной иерархии. Учреждение официального статуса провинции вполне можно считать началом формирования того культурного феномена, который сегодня условно мы называем провинциальным текстом русской культуры.
Вопрос, поставленный Л.О.Зайонц, о причинах утверждения провинции как предмета рефлексии, а не уезда или губернии, например, достаточно актуален. Исследовательница аргументирует выбор провинции в этом качестве тем, что именно термин «провинция» был упразднен в эпоху Екатерины: «Перестав существовать как административно-территориальная единица, понятие провинция лишается своего референтного значения и, следовательно, перестает быть термином (лат. - предел, граница), то есть, наряду с географическим теряет и свои семантические границы. Продолжая оставаться в языке, слово... «ложится» в семантический дрейф, постепенно обрастая новым объемом и трансформируясь в нечто близкое к метафоре» [Зайонц, 2000: 19].
С размышлениями ученого трудно не согласиться. Действительно, утрачивая «официальный статус», «провинция» как понятие получает и в обыденном сознании, и в литературе новое осмысление. Однако не остаются в стороне от этого процесса, с нашей точки зрения, и «губерния», и «уезд». «Реалиями» метафорической провинции станут «губернский город» и «уездный город», относясь к провинции как часть к целому и, одновременно, «замещая», олицетворяя целое, то есть провинцию.
Но вернемся к провинции как термину, с тем, чтобы выявить его дополнительные смысловые оттенки, возникающие благодаря изучению истории слова в западноевропейских языках, тем более что такую задачу ставит В.Вестстейн. Наиболее важными значениями слова, обозначенными автором, для нашего исследования оказываются следующие: «составная часть государства, представляющая собой более или менее самостоятельную область и имеющая собственные органы управления» [Вестстейн, 2004: 498]; «сельская местность, деревня» в противопоставлении городу или - более специфично - «вся страна, за исключением столицы» [Вестстейн, 2004: 500].
Как отмечает Вестстейн, лишь последние два в указанных языках продуцируют негативную оценочность. И в этом смысле сходство смыслопорождения понятия западноевропейскими языками с русским очевидно. Комментируя это явления, ученый пишет: «Подвергся ли русский язык в этом смысле влиянию западноевропейских языков, неясно; можно предположить, что повсеместно играют свою роль одни и те же культурные механизмы, в результате чего центр, столица обретает свою важность, а все, что расположено вовне, рассматривается как крестьянское и нецивилизованное» [Вестстейн, 2004: 501].
Зададимся теперь вопросом: как складывается «судьба» провинции в отечественной литературе? Слово "провинция" присутствует в русской литературе давно. Если представить его жизнь в разных произведениях, то проступает его многозначность и разнонаправленная содержательность1.
Негативная коннотация изначально не могла сопровождать провинцию в древнерусской литературе. В Древней Руси существовала традиция «классифицировать не столичный город как провинциальный... лишь с оговорками: ведь святыня по природе своей не подлежит оценке в подобных терминах» [Одесский, 2000: 157]. Это связано, конечно, с жанровой природой агиографии, а именно к нему обращается исследователь, например, святой Феодосии - провинциал, и он «освящает» место своего рождения.
Москва как провинция в романе П.Д.Боборыкина «Китай-город»
Символическое пространство столицы, Петербурга, каким оно создано художественным сознанием XVIII-XIX веков, не только содержательно, по принципу контраста, насыщает образ провинции, но и определяет его топографию. Так, в русской литературе складывается традиция восприятия окраин Петербурга (Васильевский остров, Охта и др.) и Москвы (Замоскворечье) как провинции. Поливариативность соперничества двух русских столиц - Москвы и Петербурга [«новой» и «старой», «древней», «допетровской», «боярской»; Запада (Петербург) и Востока (Москва); стихии воды и земли и многое, многое другое] - будет включать в себя в качестве одного из них вечный конфликт столицы и провинции. Тем более что русская история не раз «превращала» в «провинцию» то Москву, то Питер.
В романе П.Д.Боборыкина «Китай-город» (1882)1 Москва - главный герой (героиня), сложный и внутренне конфликтный образ. Именно «смена» героя, считает Г.К.Щенников, и трансформирует природу русского романа в натуралистическом полотне Боборыкина: «Не новый человек, а красочный образ Москвы - купеческой и дворянской, мануфактурной и биржевой, Москвы ресторанов и канцелярий, банков и торговых рядов - подлинный герой этого («Китай - город») романа» [Щенников, 1992: 14].
В таком ракурсе город предстает впервые в русской литературе. Как пишет В.И.Кулешов, «...давно уже пора было Москве быть воспетой в романе, пора было явиться в целом, со всей ее пестротой и многошумьем, Кремлем, Охотным рядом, Красной площадью, отходящими от нее Никольской, Ильинкой, Варваркой, объединяемыми старинным названием Китай-города, ставшего деловой частью Москвы... Если литература воспела Невский проспект, Адмиралтейскую иглу, гранитные набережные Невы, дворцы Северной Пальмиры, то в романе Боборыкина... воспета Москва, где Русь глядит из каждой трещины» [Кулешов, 1979: 334].
Исследователь справедливо обращает внимание на возникновение в литературе противопоставления двух столиц и традицию восприятия Москвы как истинно русского города. Петр Боборыкин пишет Москву, и «Китай-город» в романе - символ торгово-купеческой, биржевой, деловой Москвы, противопоставленный Москве дворянской. Принципиальным для анализа мифологии города оказывается подход, разработанный в методологической работе Т.В.Цивьян «Рассказали страшное, дали точный адрес» (к мифологической топографии Москвы)» [Цивьян, 1997: 599-614].
Более чем спорных вопросов в поставленной нами проблеме несколько: «провинция» ли Москва в литературе XIX века и Москва П.Боборыкина в романе «Китай-город», можно ли говорить о феноменологии места (провинции) как отличительной особенности натуралистического романа и произведения П.Д.Боборыкина? Последние вопросы отнюдь не праздные, если вспомнить, что В.Н.Топоров считает натуралистический роман формой объективации пространства. То есть пространства «геометризированного... равного самому себе... пространства, которое было постулировано наукой...и на которое ориентировались произведения художественной литературы» [Топоров, 1983: 229]. Кроме того, известно, что сам писатель настаивал на принципах «объективного искусства [Тагер, 1968: 85; Чупринин, 1979: 145].
На первый взгляд кажется, что натурализм не столько тяготеет к феноменологизации места, сколько к феноменализации, то есть стремится непосредственного воссоздать объект познания - образ места. Увлечение натуралистоа идеями Э.Маха, в основе которых «комплекс ощущений», как будто бы подтверждает такое суждение. Но думается, что это не совсем так.
Русский натурализм вовсе не научный метод, а мышление образами, да и не метод [Муратов, 1080:], а стилевое течение, «границы» которого весьма подвижны, «размыты». Не «комплекс ощущений» связывается с постижением места, а импрессионистическая поэтика, восходящая к впечатлению и переживанию мгновения. Вспомним, что «я» художника (натуралиста) вовсе не исключается из воссоздаваемого им мира. Другое дело, что это «я» художественного сознания явлено в тексте как часть самой природы: оно «само говорит о целой эпохе, целом народе, своем крае» [Боборыкин, 1892: 33]. Если, как пишет П.Боборыкин, художник «пересоздает жизнь в искусстве», то и образ места создается им заново: «Художник должен создать рядом с миром (мир Бога) свой собственный (мир художника)».
Трудно говорить и о монологизме натуралистического романа, который тяготеет к полифонии «голосов» действительности (термин Г.Косикова), в нашей логике, «голосов» места, созвучных друг другу или вступающих в конфликт. Наконец, довольно часто натурализм в русском искусстве рубежа веков обогащается арсеналом художественных средств символизма (синтез не только жанров или родов литературы, но и направлений, течений и школ) (Ф.Сологуб, иногда А.Белый, П.Боборыкин, А.Федоров и другие).
Предположим, что художественный синтез приобрел глубоко оригинальные черты в поэтике русских натуралистов, ведь их творчество принадлежит «переходной эпохе». И, кроме того, примем как исходное начало посыл феноменологического исследования: элементарные акты понимания нельзя осуществить, полностью исключив сознание, тем более, если речь идет о сознании художественном (художественном опыте переживания места или пространства). Писатель, в том числе и натуралист, стремится к воплощению феномена, наделяя его многими смыслами.
Методологические аспекты изучения провинциальной литературы
Но являются ли провинцией Урал или Сибирь? Безусловно, особенно по отношению к времени XIX и начала XX века. Но, возможно, Сибирь - не просто провинция России, но ее колония [См.: Ядринцев, 1882]. И тогда Сибирь видится в литературе этого времени «жестокой провинцией» или даже «страшной» и «мертвой». И, пожалуй, на какое-то время Сибирь -«мертвая страна» не в силу бездуховности ее провинциального существования, «прозябания», а в буквальном смысле: «страна смерти», где человек гибнет не от скуки или тоски, не «среда заела».
Однако Сибирь в понимании мыслителей XIX века - и подлинно русская территория. Так, П.Словцов и Н.Абрамов неоднократно заявляли, что русский человек, оказываясь за Уралом, «привозит туда с собой Россию» и более всего стремится следовать культурным традициям и обычаям предков [См. подробнее: Эртнер, 2005: 164-175]. Даже областники, утверждая, что Сибирь - колония по способу освоения земель, все-таки задаются вопросом: «что такое в самом деле Сибирь, колония или провинция?» [См. об этом подробнее: Шиловский, 2001: 6-11]. Более того, Н.А.Бестужев подчеркнет, что Сибирь - «колониальная страна, которую осваивали народы России, русская земля» (выделено нами. - Е.Э.) [Цит. по: Шиловский, 2001: 7]. Но действительно ли русская земля в традиционном смысле слова Сибирь? Ответ на этот вопрос следует искать, обращаясь к слову русской литературы о Сибири. Концепция фронтира и позволяет рассмотреть проблему «пограничнья» в эстетическом освоении сибирской территории русской литературой.
Один из наиболее спорных в науке вопрос об отношениях великой русской и провинциальной (региональной) литературы. Культурное пространство, как и любая территория, имеет свой центр и периферию (свою провинцию? Колонию?). Отношения человека и места во всем многообразии русской литературы предметно закрепляются в понятии "провинциальная" литература. В настоящее время это понятие указывает на пока еще не проясненную область, нуждающуюся в адекватных формах интерпретации [Чмыхало, 1992: 2001]. Объясняют ли слова "провинциальная литература" некое качество литературы в целом, качество, характерное для произведений, "не дотягивающих" до некоего уровня? Или же это понятие фиксирует самобытное художественное содержание конкретных литературных произведений? Да и можно ли усмотреть и различить в них феноменологическую сущность провинции?
Литература провинции входит в объект литературного краеведения. Какую методологию исследования «провинциальной» литературы оно предлагает и на какой результат рассчитывает? Литературное краеведение, с точки зрения его методологов, не собственно филологическая наука, а часть краеведения в целом наряду с историческим, географическим и т.д. Предмет этой науки, по определению Н.П. Милонова, единый и общий для всех ее отраслей: "Всестороннее изучение... какой-либо определенной территории, проводимое на научной основе, причем объектами изучения являются социально-экономическое, политическое, историческое и культурное развитие района" [Милонов, 1969: 3-4]. Целью здесь видится изучение своеобразия региональной культуры, то есть литературы определенной провинции.
С другой стороны, исследователи-краеведы указывают на необходимость соотносить "краевой" материал с общерусским литературным процессом, рассматривать провинциальную литературу как его часть. И в этом смысле искать ее художественное своеобразие представляется делом и беспредметным, и невозможным. Краеведение проявляет себя главным образом как источниковедение, для которого задача исследователя - выявить документальную основу произведения, рассмотреть отраженный в нем образ края, исторические прототипы, географические и социальные реалии.1
Научная продуктивность источниковедческого подхода видна в основательных исследованиях, создаваемых в разных регионах. Литературное краеведение, безусловно, ставит вопрос о своеобразии провинциальной литературы и видит его в различных способах работы писателя с местным материалом, приемах обогащения художественного содержания произведения внелитературными фактами. Но, исследуя текст в этом направлении, трудно выявить эстетическую целостность провинциальной литературы, ведь филолог, как правило, использует одни и те же приемы анализа как для "провинциального" произведения, так и для текста русской литературы. При таком подходе "провинциальный текст", безусловно, проигрывает. Художественную "вторичность" провинциальной литературы по отношению к русской фиксирует слово "провинциальность": "Если искусство подлинное, оно не может быть провинциальным" [Арбитман 1997:24]. Но так ли это?
Методологическая ограниченность литературного краеведения в вопросе о бытийном своеобразии провинциальной литературы осознавалась его теоретиками. Некоторые из них вынуждены были прийти к выводу, что провинциальной литературы попросту нет, а существует только "общерусская". "Значение областных гнезд становится... производным... Они представляют преломление общерусской литературы", - отмечает П.Н. Сакулин [Сакулин, 1990: 47]. По словам О. Ласунского, "провинциальной литературы нет", "есть литература общерусская, независимо от того, где жил, творил, печатался писатель" [Ласунский, 1985: 35]. С таким утверждением трудно однозначно согласиться.
Одновременно у краеведов есть и интуитивное убеждение, что провинциальная литература все же обладает собственной эстетической ценностью. Но для ее понимания узки рамки традиционного краеведческого подхода. Эту самоценность нельзя обнаружить и исследовать, как считал М.К. Азадовский, на уровне "темы, местного колорита, языковых особенностей", утверждения о "слиянии автора с духом и интересами региона", ибо за пределами остается, по его словам, "нечто иное" [Азадовский, 1988: 178]. Что же скрывается под этим "иным" в представлении исследователя?
Известный краевед Н.П. Анциферов еще в двадцатые годы подбирает для обозначения "иного" слово "душа". В его исследованиях предметом стала "душа Петербурга", которую он раскрывает как "власть местности над нашим духом" [Анциферов, 1991: 177]. Условием для понимания "души" является "сильно развитое топографическое чувство читателя" (Там же). Профессор И.М. Гревс, основатель Петербургской школы гуманитарного экскурсиеведения, видит бесспорное научное достижение Н.П.Анциферова в "идее изучения города, как познания его души, его лика, восстановление его образа как реальной собирательной личности" [Гревс, 1991: 25].