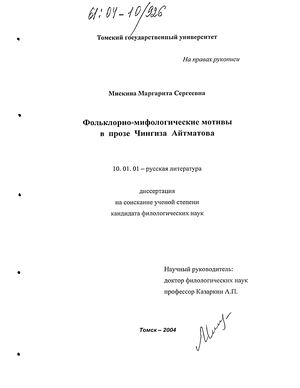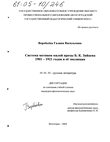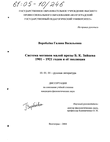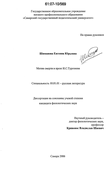Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Мотивная структура произведений Ч. Айтматова . 32
1) Фольклорно-мифологические мотивы в повестях «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря». 38
2) Мифологема блудного сына. 67
3) Мотив жертвоприношения в романах «Буранный полустанок», "Плаха", "Тавро Кассандры". 72
Глава 2. Анималистические мотивы в произведениях Ч. Айтматова (конь, верблюд, волк, птица, Богиня-мать). 102
Глава 3. Художественное пространство в прозе Ч. Айтматова. 144
1) Мотив дороги . 146
2) Мотив пути. 157
3) Природно-космические символы пространства (воздух, вода, земля, огонь). 164
Заключение. 187
Список использованной литературы. 196
- Фольклорно-мифологические мотивы в повестях «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря».
- Мотив жертвоприношения в романах «Буранный полустанок», "Плаха", "Тавро Кассандры".
- Мотив дороги
- Природно-космические символы пространства (воздух, вода, земля, огонь).
Введение к работе
Имя Чингиза Айтматова известно не только на его родине, в Киргизии, но также в России и далеко за ее пределами. Произведения Айтматова переведены более чем на пятьдесят языков мира, книги его разошлись миллионными тиражами. Интерес этот обусловлен, с одной стороны, актуальностью затрагиваемых им проблем, и тем, что автор через национальное стремится показать общечеловеческое; с другой стороны, Айтматов интересен как явление киргизской (тюркской по генезису) и мировой литературы.
Творчество Айтматова с самого начала получило высокую оценку современников. Любое произведение вызывало множество рецензий и отзывов на страницах самых популярных журналов1. В современном айтматоведении существует целый ряд серьезных монографических исследований, освещающих художественный мир как в целом, так и более частные проблемы творчества Айтматова. Его изучение ведется по нескольким направлениям: философская проблематика, проблема психологизма, проблемы поэтики и стиля, взаимосвязи литератур, художественного перевода, философско-эстетических взглядов писателя. Монографические работы П.Глинкина, В.Воронова, В.Левченко3 - это первые попытки целостного осмысления творческого пути писателя. Они представляют собой анализ эволюции идейно-художественного содержания произведений Айтматова с акцентировкой внимания на жанр, стиль и поэтику. Данные работы охватывают раннее творчество: рассказы и первые
«Дружба народов» (в 1972 году был проведен опрос, который показал, что его современники уже тогда высоко оценивали творчество писателя), "Литературное обозрение", "Октябрь" и т.д.
2 См.: Гачев Г. Чингиз Айтматов:В свете мировой культуры. - Фрунзе, 1989; Лебедева
Л. Повести Чингиза Айтматова. - М., 1972.
3 См.: Глинкин П. Чингиз Айтматов. - Л., 1968; Воронов. В. Чингиз Айтматов: Очерк
творчества. - М., 1976; Левченко В. Ч
повести («Джамиля», «Лицом к лицу», «Тополек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз», «Первый учитель» и «Прощай, Гульсары!»). Уже в них отмечаются коренные проблемы, творческий потенциал Айтматова. Во-первых, являясь представителем национальных литератур, он (Айтматов) в то же время органично вливается в русскую литературу и через нее выходит на мировой уровень. Во-вторых, то, что корни аитматовского мастерства прежде всего в родной тюркской, а затем уж в русской культуре.
На начальном этапе осмысления творчества Айтматова писатели, литературоведы и критики отмечали, что его проза стала подлинным образцом мастерства, она внесла весомый вклад в развитие советской многонациональной литературы, обогатила ее в процессе межлитературного взаимодействия и взаимовлияния. В первую очередь, конечно же, отмечается то, что Айтматов заметно влияет на развитие киргизской литературы. О вкладе Айтматова в развитие жанра повести пишет и А. Исенов, в частности, о том, что писатель «создал в киргизской литературе жанр социально-психологической повести»4. Т. Давыдова, высоко оценивая творчество писателя, подчеркивает, что «мощный талант Чингиза Айтматова обогатил киргизскую повесть, раздвинул ее жанровые рамки и возможности, прировняв их к возможностям романа<...> Его поиски и открытия были подхвачены и разработаны (конечно, по-своему) идущими вслед за ним поколением писателей. Не случайно в советской критике появился новый термин "Школа Айтматова"»5. Известно, что произведения Айтматова не принадлежат только киргизской литературе, они выходят на уровень российской, а затем и мировой литературы. Например, в 1976 году литературовед А.Сайфулаев, отметив большой вклад писателя в развитие
ингиз Айтматов: Проблемы поэтики, жанра, стиля. - М., 1983. Исенов А. Психологизм современной прозы: На материалах творчества Айтматова. -Алма-Ата, 1985. С.4.
5 Давыдова Т. Современная киргизская повесть. - Фрунзе, 1989. С. 7.
киргизской литературы, писал, что он «положил начало целому потоку «лирической прозы» в современной литературе народов СССР» .
Высоко оценивали современники и вклад писателя в русскую литературу. В пятидесятые - шестидесятые годы своими ранними повестями, принесшими ему мировую славу, Айтматов органично вливается в когорту традиционалистов-экологов. Несомненно, в этот период талант прозаика развивался и вбирал достижения так называемой «деревенской прозы». В русской литературе в эти годы доминирует психологическая проза с ориентацией на философское осмысление общества и цивилизации. Обращение писателей- «деревенщиков» к «судьбе человеческой», к проблеме связи поколений, сохранение и передача духовного опыта определили то, что в 70-е годы Айтматов «заявляет о себе как о писателе, способном сочетать обостренные социально-исторические начала с художественно-философским осмыслением краеугольных проблем человеческого бытия» .
Об отношении прозы Айтматова к русской литературе писали многие критики. Приведем, для примера, некоторые из их высказываний. Арабский критик Джалил Камаль Ад-дин так говорит о признании творчества Айтматова: «Его имя золотыми буквами вписано в историю современного советского романа»8. «Вместе с Айтматовым, - писал К. Симонов, - в нашу литературу влилась новая струя какого - то совершенно особого, сурового и в то же время нежного, очень высокого и в то же время прочно стоящего на земле романтизма»9. «Ныне книги Айтматова получили всесоюзное и мировое признание и оказывают влияние на русских советских писателей и
Подробнее см.: Сайфулаев А. Проблема взаимодействия литератур. - Душанбе, 1976. С.бб; Давыдова Т. Современная киргизская повесть. - Фрунзе, 1989. С. 6-7; Исенов А. Психологизм современной прозы: На материалах творчества Айтматова. - Алма-Ата, 1985. С.4.
7 Озмитель Е. Феномен Айтматова // Литературный Киргизстан. 1988. №12. С. 14.
Джалил Камаль Ад-дин. Поэтический реализм Чингиза Айтматова / Литературный Киргизстан. 1970. № 4. С. 107.
Симонов К. Разговор с товарищами. - М.,1970. С. 173.
на писателей других национальностей», - отмечал критик А. Бушмин10. «Сегодня уже Айтматов заметно влияет на русскую прозу» - заметил В. Гусев .
Мнения критиков и читателей резко разделяются с появлением в печати романов Айтматова. Первый роман - «И дольше века длится день» (Буранный полустанок)» (1980), счетающий в себе реализм с мифологией и научной фантастикой, вызвал споры относительно своих достоинств и недостатков. Большинство литературоведов и читателей остались при том мнении, что композиция писателю впервые не удалась, особенно космическая линия - о ней говорили, что Айтматов взялся не за свое дело. Еще более разноречиво в читающей и профессиональной среде был воспринят роман «Плаха» (1986)12. Отзывы на роман разделились: от полного непризнания романа до утверждения о его принципиальной новизны. В 1994 году вышел в свет новый роман Айтматова «Тавро Кассандры», еще более неожиданный по своей форме и по содержанию. В названии романа присутствует подзаголовок: «Из ересей XX века». Неудивительно, что вокруг романа развернулась горячая полемика. При этом оценки варьировались от резкого отрицания до качественно положительных оценок: в числе высоко оценивших новый роман Айтматова были Г. Гачев'3, С. Семенова14, В.
Бушмин. Л. Преемственность в развитии литературы. - Л.,1978. С.60. 11 Гусев В. Единство пути, многообразие поиска//Лит. газ. 1986. 14 мая.
Так, в «Литературной газете» развернулась дискуссия «Парадоксы романа «Плаха». Подобное обсуждение «Плахи» шло и на страницах таких журналов, как «Октябрь» и «Литературное обозрение». Г. Гачев был на стороне тех, кто воспринял роман как «синкретическую книгу» и «непривычный тип художественности»: «Это не просто роман, - писал исследователь, - но и «мистерия», и притча, и житие, и животный эпос, и философский диалог, и реалистическая повесть». А. Косоруков видел в этом романе соединение социально-психологического романа с романом-мифом; С. Пискунова определяет «Плаху» как роман-трагедию; Р. Бикмухаметов — как «идеологический роман». И. Кузьмичев и В. Оскоцкий отметили: «Полифоничный по своей образной природе, философской концепции, роман требует не монологических рассуждений о его достоинствах или недостатках, а диалогического сопряжения разных взглядов, дискуссионного столкновения разных точек зрения».
Гачев Г. Задумавшийся скиф и космический монах // Свободная мысль. -1995. - № 8. -С. 95-99.
Коркин15; имели место и такие публикации, как «Мертвая сова на Мавзолее...» Б. Евсеева16 или "Чингиз, не помнящий родства..." В. Бондаренко17, где Айтматов обвиняется в измене своим традициям, в контексте которых, по мнению автора статьи, ему удавалось творить вершинное.
В связи с тем, что мнения критиков расходились, прежде всего, на почве выбора прозаиком материала изображения, отметим, что одной из основных тем для айтматоведов стала проблема культурного синтеза - стыка традиций: национального фольклора и развитых литератур мира. Н. Гашева, А. Акматалиев, Т. Давыдова рассматривают творческий путь писателя в аспекте межлитературных связей и влияний как в киргизской литературе, так и в
1 Я.
общемировом масштабе . К.Асаналиев отметил: «Что касается Айтматова, то он, оттолкнувшись не только от устного народного творчества, но и, прежде всего, от высоких достижений своих предшественников, ускорил свой путь к вершинам современной прозы благодаря всестороннему освоению великого опыта самой мощной литературы мира...» 9 Общим в выводах, к которым приходят исследователи, становится то, что к вершинам мастерства Айтматов стремится через великие достижения как в родной киргизской литературе, так и с опорой на мировой опыт в этой области. Неоднократно об этом высказывался сам писатель: «В необъятном мире русской литературы, берега которой не окинешь взглядом, люблю я
СЫшош С. «Конец света заключен в нас самих...»//Ск)о^^ - С.86-93.
15 Коркин В. Догма и ересь // Литературная газета. - 1995. - 25 января. - № 4. - С. 5. Евсеев Б. Мертва сова на Мавзолее. Замысел и вымысел в новом романе Айтматова «Тавро Кассандры» //Литературная газета. - 1995. -№1.-11 января. - С. 5.
17 Бондаренко В. Чингиз, не помнящий родства //Наш современник. - 1995. - № 4. - С. 138-146.
і о
Гашева Н. Взаимодействие национальных литератур XX века: По материалам творчества Шолохова, Фолкнера, Айтматова. - Пермь, 1983; Акматалиев А. Чингиз Айтматов и взаимосвязи литератур. - Бишкек, 1991; Давыдова Т. Современная киргизская повесть. - Фрунзе, 1989.
Асаналиев К. Открытие человека современности: Заметки о творчестве Ч.Айтматова. - Фрунзе, 1968. С. 65.
толстовскую мудрость и психологическую сложность его образов, люблю потрясающий драматизм и яркость шолоховских характеров, люблю революционную романтику Горького и Маяковского, люблю бесконечное чеховское человеколюбие и бунинскую тонкость мировосприятия, люблю фадеевскую коммунистичность, и дали Твардовской поэзии, и леоновскую интеллектуальность».
Однако, войдя в русскую литературу, Айтматов остается прежде всего национальным писателем. В связи с этим А. Акматалиев совершенно верно отмечает, что, «впитав в себя традиции художественного творчества и Европы, и Азии, писатель как бы персонифицирует в одном лице историю, культуру, традиции киргизского народа, вводит их в мировой общественный процесс, являя собой мост, связующий Киргизию с Миром» . Немаловажной на данном пути исследования для осознания художественного мира произведений Айтматова стала проблема билингвизма.
Особенностью литературы бывшего СССР было то, что многие национальные писатели одновременно свободно владели двумя языками: и родным, и русским. Известно, что Айтматов, как представитель младописьменной литературы, создавал свои ранние произведения на киргизском языке, затем переводил их на русский, а с повести «Прощай, Гульсары!» (1965) писал непосредственно на русском языке. Сам писатель по этому поводу сказал: «Как русскоязычный писатель я, естественно, примыкаю к русской литературе. И, все-таки, вопрос этот особый, а возможно, в чем-то новый в литературной практике. При всем том, будучи русскоязычным автором, я исхожу из своей национальной данности - что бы я ни писал, киргизский язык и мое национальное мировосприятие неотлучно присутствуют в моем самовыражении»21. Само явление билингвизма и его влияние на художественное целое произведения интересно уже тем, что при
0 Акматалиев А. Указ.соч. С. 8.
Айтматов Ч., Дайсаку И. Ода величию духа: Диалоги. - М., 1994. С. 84.
взаимосуществовании двух и более языков в сознании одного человека возможности самовыражения его значительно возрастают. Поэтому, билингвизм Айтматова рассматривается исследователями в эстетическом, психологическом, этическом и лингвистическом аспектах22. В связи с этим немалое место в исследованиях творчества Айтматова занимает и проблема художественного перевода. Кроме того, что произведения Айтматова были переведены на многие языки мира, важно, что автор сам занимается переводом на русский язык своих творений: он не раз отмечал благотворное воздействие переводческого труда на его собственный творческий мир23.
В связи с синтезом литературного и культурного влияний на творчество писателя закономерным в исследовательских трудах стало внимание к факторам, организующим художественный мир автора.
Для писателей-билингвистов характерно использование фольклорного и этнографического материала в качестве «национального народного элемента» (Белинский). Если говорить об обращении писателя к фольклору, то мифологическая символика, присутствующая в произведении, выполняет двойную функцию: идейно-эстетическую и национальную. Как отмечает исследователь У.Далгат, связь «литературного произведения с произведением устного народного творчества мотивируется не только стремлением выразить национальную специфику, но и самим ходом творческой мысли автора, который не может совершенно отключиться от обычного для него синтаксиса, ритмической структуры фразы, специфической образности»24.
См.: Наурзбаева А. О средствах выражения национального своеобразия в творчестве Айтматова как двуязычного писателя //Вестник московского университета. Серия 9. Филология. - 1984. - №3. - С. 33-37; Далгат У. Литература и фольклор. - М., 1981; Лебедева Л. Повести Чингиза Айтматова. - М, 1972.
1~К
В самом начале творческого пути он переводил на русский язык вторую книгу известного романа Т. Садыкбекова «Среди гор». Это стало для писателя серьезной школой постижения опыта старшего мастера, изучения строя киргизского и русского языков.
24 Далгат У.Б. Указ. соч. С. 147.
Неоднократно становилась предметом исследований проблема литературно-фольклорных связей в прозе Айтматова. Мифологические мотивы и фольклорные элементы непосредственно входят в контекст его произведений, а мифологический пласт содержания нередко находится на поверхности. Это и позволяет литературоведам вводить в обиход понятие «айтматовский мифологизм».
Актуальность нашего исследования обусловлена пристальным интересом к творчеству Айтматова как в западном, так и в современном отечественном литературоведении. Проза Айтматова содержит в себе богатейший материал для исследования современного мифологизма. Анализ фольклорно-мифологической символики айтматовских произведений позволяет составить целостное представление о художественном мире писателя и уточнить авторскую позицию. В этом аспекте для изучения особенно интересно зрелое творчество писателя - это повести «Прощай, Гульсары!» (1965), "Белый пароход" (1970), «Пегий пес...» (1976) и романы «Буранный полустанок» (1980), «Плаха» (1986), «Тавро Кассандры» (1994). Основное ядро авторского замысла в этих произведениях — это проблема «культурного» и «природного» в человеке, столкновения оппозиционных понятий «природа и цивилизация» в обществе. Миф, как «сгусток мудрости» древних, как поколениями проверенный опыт, для Айтматова, моделируя художественную картину мира, становится инструментом для вскрытия актуальных проблем современности и проникновения в глубины общественного разума, по контрасту и по аналогии позволяя художнику более объемно изображать общественные отношения.
Творчество Айтматова вливается в целое направление, появившееся в литературе шестидесятых годов, условно названное «мифологическим». Особенностью произведений писателей данного направления стало стремление исследовать первопричину беды, угрожающей народной жизни и
ее первоосновам, с помощью мифа, предания, легенды вступить в спор с рационализмом и прагматизмом современной цивилизации. Если часть оппонентов этого направления видит в обращении к мифологии нарушение принципов реализма25, то другие, напротив, считают, что обращение к мифу как некой «модели мира», «философской метафоре» не уводит писателя от реализма как основного художественного метода. Другое дело, что в этом реализме многое выглядело иначе, нетрадиционно, на уровне иных сцеплений общего и единичного, реального и условного. Исследователи дали этому реализму разные названия: «синтетический», «магический», «мифологический» и так далее.
Литературоведами до нас уже проделана большая работа по выявлению фольклорно-мифологических источников, сюжетов и образов художественной системы Айтматова (национальной составляющей), без анализа фольклорных составляющих в прозе писателя не обходится ни одна работа, посвященная поэтике произведений писателя. В освещении мифологичности прозы Айтматова проявляются две тенденции: во-первых, проявление национального своеобразия, особенности самовыражения писателя-билингвиста, представителя младописьменной литературы ; во-вторых, обращение к мифу как средству углубления
Напр.: Анинский Л. Контакты: Литературно критические статьи. - М, 1982. 6 Частичная разработка данной темы прослеживается в монографических исследованиях Г. Гачева, П. Мирзы-Ахмедовой, А. Акматалиева, Г. Поляковой. Кроме того, проблеме мифологизма посвящены многочисленные статьи, например: См.: Озмитель Е. Феномен Айтматова // Литературный Киргизстан. - 1988. - №12. - С. 6-16; Толмачев Б. Функциональные аспекты символики в современной советской историко-художествешюй прозе (на примере повестей Ч.Айтматова) //Известия АН Кирг. ССР. Общественные науки. - 1988. - №1. - С. 54-58; Ибраимов К. Мифопоэтические традиции и художественное произведение: На примере повести «Прощай, Гульсары» Айтматова) // Советская тюркология. - 1988. - №4. - С. 26-31; Садыков X. Реализм Айтматова: К проблеме мифологизма // Известия АН КазССР. Серия филоолгическая. 1989. - № 2. - С. 32-40; Лившиц М. Критические заметки к современной теории мифа // Вопросы философии. 1973. №8. С. 143-153; Эбаноидзе А. Не храм, а мастерская // Вопросы литературы. -1978. - №5. - С. 8-105; и др.
См.: Гачев Г. Любовь, человек, эпоха. - М., 1965.
семантической стороны произведения, как к метафоре, отражающей через вековую мудрость актуальные проблемы современности.
Явные проявления фольклоризма и мифологизма в прозе Айтматова достаточно хорошо исследованы. Так, X. Садыков главные, наиболее плодотворные корни айтматовского мифологизма видит в киргизском фольклоре: там - в легендах, сказках, притчах - писатель, по мнению исследователя, обнаружил удивительные свойства художественного моделирования действительности, глубину символики: «Айтматов как бы по-новому прочитывает, осмысливает народные предания, легенды, притчи, отыскивая в них философские зерна<...>. Миф служит для него развернутой метафорой, высвечивающей, как огнем, содержательную структуру произведения: автор заставил работать миф на идею произведения, разумеется, не механически, не на уровне скучной дидактики, а на уровне нравственно-философского обобщения» »28.
К. Ибраимов в статье «Мифопоэтические традиции и художественное произведение (На примере повести «Прощай, Гульсары» Айтматова)» раскрывает значение образа коня в повести с опорой на мировоззрение древних тюрков. Он пишет, что идейно-эстетический опыт, имеющий разные традиции, показывает, что осмысление кардинальных проблем человеческого бытия с помощью сюжетики мифов все еще сохраняет свою эстетическую силу. Более того, обнаруживается обратная связь: сложность, напряженность атмосферы в мире, с одной стороны, и высокий уровень интеллектуально-эстетического развития людей, с другой, вызывают необходимость «переоценки ценностей», переосмысления мифов и легенд народа, вобравших в себя квинтэссенцию его исторического
Садыков X. Указ. раб. С. 24-25.
опыта, философию, и непосредственное соотнесение их с важнейшими задачами современности29.
Ч. 3. Мамытбекова в работе «Фольклорные источники в романе Айтматова "Буранный полустанок"» рассматривает два, возможно, самых очевидных фольклорных заимствования - легенду о птице Доненбай и легенду о Раймалы-аге. Она считает, что легенда о птице Доненбай занимает, ключевое положение в романе и, называя ее «легендой о манкурте», многие критики тем самым сужают ее значение.
К. Садыков в статье «Фольклорные элементы в сюжетно-композиционной структуре романа Айтматова «И дольше века длится день...» указывает на структурообразующее значение двух линий повествования - синхронной и диахронной. Исследователь отмечает, что синхронный срез одного дня пронизан диахронными лучами вечности, событиями прошлого и перспективой будущего, что позволяет соотнести особенности его композиции с принципами построения архаического мифологического текста, где актуальная картина мира немыслима без обращения и воспроизведения эпохи «первотворения»30.
Работа Д.Медриша «Фольклорная традиция в творчестве Айтматова» замечательна тем, что исследователь мифологические и фольклорные истоки в произведениях Айтматова видит, прежде всего, в киргизском эпосе «Манас». Исследователь считает, что фольклор служит писателю тем идеалом, на фоне которого резче проступают несообразности реальной жизни. «История о манкурте», по мнению Д.Медриша, может служить
Ибраимов К. Мифопоэтические традиции и художественное произведение: На примере повести «Прощай, Гульсары» Айтматова // Советская тюркология. - 1988. - №4. С. 27.
30 Садыков К. Фольклорные элементы в сюжетно-композиционпой структуре романа Ч.Айтматова «И дольше века длится день» //Киргизская литература в контексте русской художественной культуры: Сборник научных трудов.- Фрунзе, 1989-С.29.
типическим примером трансформации, происходящей с фольклорными образами, вовлеченными в айтматовское повествование: «Так, и в «Буранном полустанке», и в «Плахе», опираясь на несколько фольклорных мотивов и версий, писатель, как бы на правах еще одного варианта, предлагает новое решение, на эти версии опирающееся и одновременно эти версии оспаривающее, противопоставляя фольклорной утопии свою антиутопию» .
И. Лайлиева значение произведений профессиональной литературы сравнивает с произведениями фольклора: и, по убеждению исследовательницы, только то, что выдерживает испытание веков, становится достоянием мировой культуры. Этим, по мнению литературоведа, объясняется тяга великих писателей к фольклору: «из его истоков они черпали ту мудрость, которая, в сущности, бессмертна, поскольку жива до тех пор, пока жив хранящий ее народ»32. Что же касается творчества Айтматова, то, по мнению И. Лайлиевой, он использует мифы для придания философской глубины и глобальной многозначности своим творениям. Силу айтматовского дарования она видит в мощном национальном фундаменте, на котором основано любое его произведение, кроме того, как считает она, именно писатель подобного рода и ранга, впитав в себя инонациональный классический опыт, являет миру новую «евроазиатскую» литературу".
А.Акматалиев пишет, что «литературное мифотворчество позволило писателю найти новые грани поэтического, эстетического и философского осмысления бытия, создать собственный художественный «КОСМОС»34.
Интересной нам представляется работа Г. Поляковой «Предание о Рогатой матери - оленихе в «Белом пароходе» Айтматова». Задачу исследователя художественного пространства произведений Айтматова она
Медриш Д. Фольклорная традиция в творчестве Айтматова //Литература и фольклор. -Волгоград, 1990. С. 158.
Лайлиева И.Д. Традиции русской классической и мировой литературы в киргизской прозе: М. Элебаев, У. Абдукаимов, Ч. Айтматов. - Фрунзе: Илим, 1988. С.111.
33 Подробнее см.: Лайлиева И. Указ. Соч. С. 112.
34 Акматалисв А. Указ. соч. С. 111.
видит в выявлении особенностей типа культуры, тюркской ментальности, составляющих поэтическую структуру творчества писателя в целом. При этом ею отмечается доминанта внетекстовой реальности мирообразности произведения - литературных норм, традиций, представлений, в совокупности составляющих основу полновесного восприятия текста. В связи с этим Г. Полякова отмечает, что произведения Айтматова нуждаются в особом изучении фона «внетекстовых связей»35.
В диссертационном исследовании Е. А. Мироненко36 освещается тот же материал, что и в нашем исследовании, но методами фольклористики. В частности она отмечает, что значение мифологических и фольклорных элементов в произведении следует исследовать с помощью фольклористского подхода, так как он позволяет более четко определять жанровую принадлежность использованного автором элемента. «Кроме того, - отмечает она, - исследователи часто видят внутрилитературные заимствования там, где имеет место переработка фольклорного материала напрямую, минуя посредничество художественной традиции, что, в свою очередь, приводит к обеднению представления о национальной специфике произведения. Фольклорное явление зачастую интересует авторов лишь в той мере, в какой оно может (либо не может) служить иллюстрацией какой-либо собственной идеи исследователя, что влечет за собой необоснованные выводы о его якобы служебной функции в тексте».
Краткий обзор ряда наиболее значительных работ, затрагивающих проблемы мифологизма в прозе Айтматова, показывает, что обращение к мифологическим и фольклорным источникам творчества писателя становится закономерным и необходимым этапом на пути исследования
Полякова Г. Предание о Рогатой матери-оленихе в «Белом пароходе» Ч.Айтматова. -М., 1999. С. 7.
Мироненко Е.А. Фольклорно-мифологический контекст художественной прозы Чингиза
Айтматова. Автореф. дис канд. филол. наук: 10.01.09. /Казах, гос. ун. - Алматы, 2002.
творчества Айтматова. Однако данный аспект изучения еще не получила достаточно полного освещения в современном айтматоведении.
Новизной нашего исследования является то, что фольклорно-мифологический пласт исследуется нами с точки зрения авторского самовыражения и организации художественной картины мира в связи с тюркской ментальностью. Опираясь на предшествующие работы по мифопоэтике прозы Айтматова, мы пытаемся углубить, структурировать и систематизировать соответствующие образы и мотивы, выявить значение лейтмотивных линий, пронизывающих творчество Айтматова. Через фольклорно-мифологические мотивы, использованные автором, мы пытаемся вскрыть тот глубинный пласт художественной мирообразности в произведениях Айтматова. Для исследования произведений в аспекте мифопоэтики основным терминологическим аппаратом для нас становятся понятия мифа, символа, мотива и архетипа.
Важнейшее значение в определении понятия «символ» для нас имеют исследования А. Лосева, для которого «миф не есть ни схема, ни аллегория, но символ». Он выделяет несколько степеней художественной символики, первая из которых связана с художественным образом. При этом специфика символа, содержащегося в любом художественном образе заключается в том, что всякий художественный образ есть образ чего-нибудь, а предмет этого образа есть этот самый образ. Поэтому символичность - предмет, отражением которого образ является. «Изъять символичность из художественного образа - это значит лишить его того самого предмета, образом которого он является, если угодно, то символ во всякой художественной образности тоже является предметом ее конструирования и тоже есть ее порождающая модель»37. Если всякий художественный образ есть идея, осуществленная в образе, или образ вместе со всей его идейной
общностью, то ясно, что в любом художественном произведении, взятом или абстрактно, или во всей гуще исторического процесса, идея есть символ известного образа, а образ есть символ идеи, при чем эта идейная образность или образная идейность даны как единое и неразрывное целое. «Подлинная символика есть уже выход за пределы (идеи и за пределы художественного произведения) чисто художественной стороны произведения, - подчеркивает исследователь. - Необходимо, чтобы художественное произведение в целом конструировалось и переживалось как указание на некоторого рода инородную перспективу, на бесконечный ряд всевозможных своих перевоплощений»38. То есть, согласно классификации, вторая степень символики - «подлинная символика» - «есть уже выход за пределы чисто художественной стороны произведения», т.е. символ в данном случае указывает на включение произведения в бесконечный ряд развертываний содержащегося в нем смысла.
Особенностью художественного символа является его
концентрированность: он как и любой другой символ культуры, может иметь различную степень насыщенности, которая определяется качеством идеи (ее значимостью, объемом и величиной), которую он выражает.
Таким образом, символ - это определенное бытие, которое содержит разработанный и организованный смысл, обобщение и идейную образность, которая обозначает не только саму себя, но и, выходя за свои рамки, указывает на нечто большее, является для этих других предметов законом их построения. Емкость и универсальность символа позволяет художнику слова использовать его в своем творчестве. Отражение символики в произведении происходит двумя способами: либо как воплощение современных коллизий в привычные, освященные традицией культуры мифологемы, либо как
Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. - М., 1976. Лосев Л. Указ. Соч. С. 145.
идеализация конкретных образов современности и наделение их всеобщим смысловым звучанием.
Итак, символическая насыщенность образа - это его функция в контексте культуры и, по мнению А. Ф. Лосева, инстанцией, решающей, быть или не быть образу символом, является контекст. Если символ есть свернутая метафора, а миф - наиболее приемлемая форма для его выражения, то необходимо определение понятия самого мифа. В трудах ученых нас прежде всего интересовало понимание его и как поэтической формы, и как структуры сознания, отражающей бытие.
Следующей важнейшей категорией для нас является понятие "мифа". Фундаментальные труды А.Ф. Лосева, Е.М. Мелетинского59, О.М. Фрейденберг40, Я.Е. Голосовкера41, Ф.Х. Кессиди42, М.И. Стеблина-Каменского43 и других дают представление о сложившемся в науке понимании мифа, его специфике. О.М. Фрейденберг, например, рассматривает миф как систему метафор, с помощью которых миф воспринимается как подлинная, скрытая реальность. Миф, согласно мнению исследовательницы, становится сакральным словотворчеством, превращается в предания, священные слова, которые интерпретируются с новых, преимущественно этических позиций. Задача исследования мифов, считает Леви-Стросс, заключается в том, «чтобы на разных уровнях и в разных кодах выявить общую систему оппозиций, единую логическую основу, всеобщие структуры бессознательного. Важно то, что такие структуры и оппозиции характерны не только для первобытного мышления, но и для современной культуры» . Интересны замечания по поводу мифологии известного современного культуролога и философа М.А. Лифшица. Согласно его
39 См.: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М.,1976. Фрейденберг О.. Миф и литература древности. - М., 1978. Голосовкер Я.. Сказание о титанах. - М., 1993.
42 Кессиди Ф. От мифа к логосу. - М., 1972.
43 Стеблин-Каменский М. Миф. -Л., 1976.
4 Леви-Стросс К. Структура мифов // Вопросы философии. -1970. - №7. - С. 161.
утверждениям, всякая подлинная мифология содержит в себе логомифию, то есть разум мифа - его безусловное содержание, и "его воспитательная сила заключается именно в этом всеобщем смысле, доступном непосредственному сознанию первобытного человека»45. «Особенностью мифа, - подчерчивал А. Дорошевич, - является его претензия на абсолютное значение, когда в центре внимания оказываются связи человека с миром в целом как универсумом, а не связи его с историей, ибо в этом последнем случае миф осознается лишь
і 46
как метафора, имеющая переходное значение» .
Миф как повествование о временах «начала всех начал» трактует Мирча Элиаде. Категория мифологического, по его мнению, связана с сакральной историей и с проявлениями священного в этом мире. «Знать мифы значит приблизиться к тайне происхождения всех вещей и самого мира, что позволяет человеку не только знать, как возникло, но и воспроизвести то, что было, когда все уже исчезнет. Знание дает власть над миром»47. Отсюда основная характеристика исследователем категории времени как вечного циклического повторения, память о котором сохраняется в виде вечных архетипов и образцов поведения, что закреплено в мифе о вечном возвращени. Цель вечного повторения одних и тех же циклов - преодоление смерти, хаоса, пугающей реальности, поэтому память рассматривается как знание, так как в каждое мгновение все начинается с начала. Для символистов, начавших процесс мифологизации культуры, миф предстает прежде всего как универсальная культурная формула. Так как символизм представлял собой явление разнородное, то существуют значительные различия в принципах отбора мифологического материала и его обработки у разных представителей этого направления. Индивидуальные особенности мышления символистов объясняются также и противоречивостью эпохи рубежа XIX-XX века, самим духом времени.
45 Лифшиц М. Указ. соч. С. 143.
46 Дорошевич А. Миф в литературе XX века // Вопросы литературы. - 1972. - №2. - С. 123.
Принципиальное значение в определении понятия мифа для нас имеют работы А. Лосева. В «Диалектике мифа» (1930) данное понятие раскрывается как категория бытия и принимает на себя значение сакрального учения о нем (бытии). Согласно Лосеву, человек существует в мифическом мире, и «если смотреть на миф с точки зрения самого мифа, а не науки, то миф является истиной, а не вымыслом и фантазией <...>. Это не идея и не понятие, это есть сама жизнь, со всеми ее надеждами, страхами, ожиданием и отчаянием»48. Лосев пишет, что «миф - необходимейшая, прямо нужно сказать, трансцендентально необходимая категория мысли и жизни, и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или
фантастического. Это подлинная и максимально конкретная реальность» . Однако, при всей истинности и достоверности мифа, Лосев отмечает его отрешенность от действительности, приобщенность к высшему и глубокому началу в иерархическом ряду бытия. Это позволяет ему выделить понятие выразительности в мифе, что позволяет связать миф со словом. «Выражение», по Лосеву, - это синтез «внутреннего» и «внешнего», - сила, заставляющая «внутреннее проявляться, а «внешнее» тянуть в глубину «внутреннего». Кроме того, отрешенность от реальности мифа проявляется в отдалении от конкретного смысла вещей — вещи в мифе, оставаясь теми же, приобретают совершенно особый смысл, подчиняются особой идее. Таким образом, вещь или явление есть миф. Отсюда исходит и понимание Лосевым истории как слова о мире, потому что мифологическое сознание должно дать не просто изображение прошлого, но его описание в слове через личностное начало. «Эта история подразумевает заново сконструированную и понятую личность, понять же себя личность может только в соприкосновении с инобытием»50. С историей у А. Лосева связана и диалектика
47 Элиаде М. Аспекты мифа. - М., 1995. С. 24.
48 Лосев А.Ф. Диалектика мифа// Из ранних произведений. - М., 1990. С. 396-400.
49 Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. - М., 1994.
50 Там же. С. 534.
мифологического времени. Оно, согласно мнению ученого, амбивалентно, поскольку «время по своей сущности одновременно и кончается, и длится вечно»51. Объединяя все эти понятия, А. Лосев выводит формулу мифа: миф -это развернутое магическое имя, объединяющее такие категории, как вещь, слово, история, личность и чудо. Итак, миф понимается А. Лосевым и как средство онтологического описания мира, в котором присутствует «первозданное», и как категория сознания, способствующая самоопределению личности в бытии и инореальности.
Проблема "мифотворчества", ставшая особенностью литературы XX века, диктуется стремлением преодолеть традиционную форму повествования. Отсюда и новое понятие мифа как синтеза древних архаических форм сознания, на которое накладывается рационалистическая эстетика современности. Обращение к мифу, использование его в художественной рефлексии позволяет раздвинуть возможности отражения проблем современного мира и места в нем человека.
Отечественное литературоведение сегодня располагает огромным количеством научных трудов, посвященных проблемам мифопоэтики. В предыстории отечественной мифопоэтики XX столетия стоят такие фигуры крупнейших ученых, как А.Н. Веселовский и А.А. Потебня. Особенно успешная разработка этой темы прослеживается в трудах исследователей Тартуской школы (З.Г. Минц, Б.А. Успенский, Ю.М. Лотман), а также в московской (В.Н. Топоров, С.С. Аверинцев, Т.Н. Цивьян) и петербургской (М.М. Ветловская, Г.П. Смирнов). Кроме того, существует целый ряд исследований, посвященных более частным проблемам функционирования мифов в литературе. Таковы статьи В.Н. Топорова, В.В. Иванова52.
51 Там же. С. 547.
Иванов Вяч.И. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от ASVA -«конь» (жертвоприношение коня и дерево asvattha в древней Индии) // Проблемы истории языков и культуры народов Индии. - М, 1974. С. 75-139.
Определяющим моментом в исследовании мифопоэтического содержания произведения становится понятие повествовательного мотива. Теоретическая разработка термина «мотив» восходит к исследованиям А. Веселовского, который определил его как «простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения»53. Заслугой данной работы, как известно, стало обособление понятия «мотив» как элемента фольклорной сюжетики, характеристика его существенных качеств, исследование источников и способов возникновения мотивов, и значения мотива в сюжетной организации произведения. Таким образом, сюжет, по Веселовскому, это тема, «в которой снуются разные положения - мотивы, <...> чем они нелогичнее и чем составных мотивов больше, тем труднее предположить, <...> что они возникли путем психологического самозарождения на почве одинаковых представлений и бытовых основ»54. Понятие мотива у Веселовского представлено исключительно в соотношении с сюжетом, при чем во всех отношениях и на всех уровнях мотив первичнее и элементарнее сюжета: он есть, с одной стороны, его составная часть, его звено, а с другой -его эмбриональная форма, ядро, соответственно двойственность словоупотребления сохраняется в литературе и поныне. Первое положение отражает аспект морфологический (или типологический), а второй аспект -историко-генетический.
Продолжением изучения мотива стали разработки В. Проппа, который исследовал структурно-исторические особенности сказок. Мотив для ученого - содержательный элемент структуры сказки, при чем не употребляя термина «мотив», Пропп вводит понятие «функция», близкое мотиву. А. Дандесс, продолжая идеи Проппа и исследуя жанр сказки, предлагает решить проблему мотива на основе двух различных подходов: «эмического» и
5 Веселовский А. Историческая поэтика. - М., 1989. С. 305. 54 Там же. С. 305.
«этического». Первый подход он трактует как однозначно-контекстуальный, структурный. Эмические единицы системы существуют не в изоляции, но как части «функционирующей компонентной системы». Они не изобретаются исследователем, но существуют в объективной реальности. Дандесс предлагает два эмических уровня: мотифема и алломотив. Мотифема, по мнению ученого, - инвариант отношения субъекта и объекта, а мотив - это конкретное воплощение отношения субъекта и объекта, а также атрибутов, пространственных и прочих характеристик, которые непосредственно включены в действие, алломотив же - это уже конкретная реализация субъекта и объекта, их отношения, атрибутов и других показателей.
Рассматривая фольклорные мотивы, исследователь С. Неклюдов отмечает, что в художественном нарративе присутствуют «элементы повествования (персонажи, реалии, атрибуты, компоненты модели мира), непосредственно связанные с сюжетным движением», которые «как бы несут в себе его заряд, имея при этом для своей динамической реализации различные, но вполне определенные «повествовательные возможности», обусловленные их семантическим спектром или, напротив, обусловливающие его. Как правило, они составляют устойчивые конструкции (объектно-атрибутивные, локально- объективные, локально-атрибутивные и т.д.), обычно именуемые мотивами»55. При этом, если рассматривать мотив как микросюжет, сконцентрированный вокруг своего предикативного компонента, данные компоненты художественного нарратива исключаются. Отрицая возможность отчисления из мотивного фонда данных элементов, Неклюдов по аналогии с «мотивами-эпизодами» и «мотивами-ситуациями» предлагает обозначить их как «мотивы-образцы» или шире - «мотивоиды» или «квазимотивы». В данных обозначениях
55 Неклюдов С. Мифология тюркских и монгольских народов // Тюркологический сборник. М.,1981.С. 225
исследователем выделяются те признаки, которыми характеризуется мотив как элемент сюжетообразования. Мотив, по мнению исследователя, в силу своей полисемии полностью не может быть отражен в одном конкретном сюжете, он имеет формульные и трафаретные воплощения, и связан с коллективным сознанием. «Мотивоиды» же, по обозначению Неклюдова, представляют собой чистую семантику, взятую в некотором отвлечении от своей синтаксической позиции в сюжете и находящую соответствия в сфере мышления. Они сопоставимы с отдельными психологическими феноменами, с представлениями подчас весьма древнего мифологического типа, со своеобразными «архетипами» мифопоэтического сознания», существование которых в свою очередь вообще не подразумевает синтаксических связей: по своей природе они дискретны и лишены фабульных сцеплений. Эти «представления» связаны различными видами расположенности, контраста или тождества, составляя некий мифологический универсум, в своей основе общечеловеческий. Они космографичны, включают концептуальное осмысление пространства и времени в его основных изерениях: три фазы существования с отмеченным началом и концом. Кроме того, они содержат ряд генеральных идей различной степени сложности (о космосе и хаосе, жизни и смерти, душе и судьбе, персоне и социуме, силе и эпосе и т.д.)56.
Если в сюжетной характеристике нарратива идейно-содержательное манифестирование мотивов не исчерпывается полностью, возникает необходимость выделения двойного семантического слоя мотивного содержания текста. Б. Путилов определяет его как скрытый смысл, «подтекст»». При этом исследователь допускает возможность прочтения его отчасти исходя из сюжета как целого, но все же решающую роль отдает соотнесению «алломотива с мотивом как устойчивой семантической единицей и другими алломотивами, входящими в то же семантическое поле». Отсюда, исключительная семиотичность мотивов. «Мотивы обладают относительной самостоятельностью: будучи элементами более сложной
56Там же С. 227.
системы (сюжет), они сами представляют микросистемы, обладающие своей структурой, своими особенностями и возможностями» .
Рассмотренные выше представления о повествовательном мотиве могут быть объединены в четыре концептуальных ряда: семантический, морфологический, дихотомический (на стадии его зарождения) и тематический. Главное различие этих подходов заключается в том, как трактуется важнейший критерий неразложимости мотива и как понимается соотношение моментов целостности и элементарности в самом статусе мотива. Для А.Н. Веселовского и О.М. Фрейденберг - главных представителей семантического подхода - конститутивным началом мотива является семантическая целостность, которая и ставит предел элементарности мотива. При этом семантика мотива носит образный характер. Это значит, что он целостен постольку, поскольку репрезентирует целостный образ. Самый образ, лежащий в основе мотива, по своему существу эстетичен и соотносит мотив с парадигмой значения эстетического языка эпохи. Именно эта связь объясняет феномен самозарождения мотивов из «самой жизни» - но увиденной и пережитой в эстетическом ракурсе.
Таким образом, бесконечное число трансформаций мотивного содержания мифологической и фольклорной сокровищницы человечества породило в XX веке такие понятия как "мифотворчество" и "мифологизм" в литературе и «мифопоэтика» в литературоведении.
Явление «мифологизма» в литературе XX века Е. Мелетинский связывает с модернизмом - нарушением привычных канонов, что происходит в литературе начала XX века. Разрушение неизбежно приводит к увеличению стихийности, неорганизованности эмпирического жизненного материала как материала социального, и, согласно мнению исследователя, должно компенсироваться средствами символики, в том числе мифологической. В
Путилов Б.Н. Мотив как сюжетообразующий элемент // Типологические исследования по фольклору. - М., 1975. С. 145
связи с этим исследователь ссылается на известную работу И. Франка о «спатиализации» в современной литературе, в частности о том, что мифологическое время вытесняет в современном романе объективное историческое время, поскольку действия и события определенного времени представляются в качестве воплощения вечных прототипов. Таким образом, мифологизм стал инструментом структурирования повествования. «Стремление выйти за социально-исторические и пространственно-временные рамки ради выявления общечеловеческого содержания было первым из моментов перехода от реализма XIX века к модернизму, а мифология оказалась удобным языком описания вечных моделей бытия. Возрождение мифа в XX веке опирается на новое отношение к нему как вечно живому началу» . Однако, если для символистского восприятия миф был способом постижения мира, то во второй половине XX века миф становится средством взгляда на мир с новой точки зрения, поскольку характернейшей чертой литературы данного периода признается интеллектуализм, что принято считать объективно закономерным продуктом научно-технической революции, принявшей глобальные масштабы.
В XX веке от социально-исторической направленности исследования общества литература берет ориентир на психологизм. Поэтому «особенностью неомифологизма в литературе начала XX века является его теснейшая, хотя и парадоксальная, связь с неопсихологизмом, т.е. универсальной психологией подсознания, оттеснившей социальную характерологию романа XIX века»59. Немалое влияние на неомифологизм оказали труды К.Г. Юнга, который любой акт творчества связывал с архетипами и утверждал, что в произведении проявляются многозначные мотивы и образы, источник которых нужно искать в форме бессознательной мифологии. Юнг подчеркивал, что искусство и мифология тесно связаны, так
Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. - М, 1994. С. 8-9. 59 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 1976. С. 296.
как «творческий процесс всегда складывается из бессознательного
одухотворения архетипа» .
После неомифологических веяний в литературе начала века новый поворот к мифологическому началу происходит в 60-х годах XX века. Некоторые исследователи этого периода, как уже было отмечено выше, выделяют особое «мифо-фольклорное» направление или явление современного «мифотворчества»61. Литература «тяготеет к философско-символистской обобщенности, оперирует наиболее общими, «родовыми» характеристиками мира, стремится приобщить читателя к традиционным общечеловеческим ценностям коллективного народного опыта, воспитать в человеке представление о социальном и природном мире как едином космосе, где каждая вещь, каждое живое существо, каждый народ, каждое действие и событие - проявление всеобщей взаимозависимости и глубинной нерасторжимой связи» . Стремление отразить в конкретной человеческой судьбе общечеловеческие проблемы, стремление, с одной стороны, «одухотворить быт», а с другой «заземлить идею», побуждает писателей использовать все многообразие художественных приемов, заставляет искать новые способы глубокого постижения действительности. Поэтому возникла необходимость в обращении к богатству знаний, которое содержится в условно-поэтических художественных формах, разрывающих пределы настоящего мгновения и апеллирующие к вечным категориям. Особенностью современного мифологизма, в отличие от романтического использования мифологической символики, является то, что «мифо-поэтические образы не
Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художествешюму творчеству // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX - XX веков: Трактаты, эссе, статьи.-М., 1987. С. 214.
См., например: Полтавцева Н. Философская проза Л. Платонова. - М., 1981; Барштейн А.И. Тенденции развития и типология современной прозы 70-х начала 80-х годов. - Вильнюс, 1985; Дорошевич А. Миф в литературе XX века //Вопросы литературы. - 1972. - № 2. - С. 122-141; и др.
Панченко И. Вопрошая прошлое - заглянуть в будущее: Заметки о мифо-фольклорной традиции в современной советской литературе //Вопросы литературы. -
противостоят реалистическому воспроизведению жизни, не означают отречения от эмпирического быта, напротив, они обнаруживают в нем извечные общечеловеческие ценности, просвечивающие сквозь поток исторических изменений»63. Современные исследователи в обращении писателей к мифологическому наследию видят возможность расширения границ традиционализма и реализма, устремленность к художественно-философским обобщениям явлений действительности.
И. Панченко обращение современных писателей к архаическим формам художественного мышления классифицирует по нескольким признакам:
Специфические этнографические изыскания типа очерков о народной эстетике у В. Белова («Лад»).
В сборе и литературной обработке мифов, легенд, преданий, обрядов, бытующих как в письменном виде, так и устном изложении. Например, «Нивхские легенды» и «легенды Ых-мифа» В.Санги; «Народные перлы» М.Стельмаха; «Перо золотой птицы» и «Сказки подгорья» С.Пушика и др.
В создании так называемых фольклорных романов и повестей (например, произведения некоторых украинских писателей, таких, как М. Стельмах, В. Земляк, Е. Гуцало , Вл. Дрозд).
В создании романов-мифов, новелл-символов, повестей-притч. (Книги О. Чиладзе, Ч. Амиреджби, Айтматова, Ю. Рытхеу, Т. Пулатова, Т. Зульфикарова, А. Кима, Н. Шундика, В. Василаке и др).
Во вкраплении в традицию реалистической прозы элементов мифа, сказки, предания (произведения В. Бубниса, В. Распутина, В. Астафьева, А. Сулакаури, Н. Думбадзе и др.).
1983.-№6.-С. 84-85.
63 Эбаноидзе А. Не храм, а мастерская // Вопросы литературы. - 1978. - №5. - С.79.
В переводах инонационального эпоса на родной язык (перевод Ю. Марцинкявичусом на литовский язык эстонского эпоса «Калевипоэг» и карело - финского эпоса «Калевала» и т.д.).
В создании индивидуально - профессиональных версий и свободных, подчас приправленных юмором, переложений в прозе национально-эпических поэм (например, «Воспоминания Калевипоэга» Э. Ветемаа, «Сийи -силач» Э. Бээкмана, «Деде Коркут» Анара, «Сказание о Хогбаре» Р. Гамзатова и др.).
В попытках создать своего рода поэтический эпос («Миндаугас», «Мажвидас», «Собор» Ю. Марцинкявичуса).
Из данной классификации видно, что подавляющее большинство произведений, ориентированных на мифологическую составляющую, являются произведениями представителей младописьменных литератур.
Айтматов критикует поверхностное использование фольклорных элементов некоторыми писателями. Так, в 60-е годы Айтматов, анализируя современную национальную литературу, с осуждением писал, что «некоторые начинающие писатели в Средней Азии усердно обрабатывают древние легенды и сказки. Нужны читателям легенды. Я не против этого. Но<...> ведь куда спокойней обрабатывать легенды, в которых народ создал волнующие образы, нежели самим создавать волнующие образы героев сегодняшнего времени»64. Таким образом, писатель реагировал на тяготение младописьменной литературы к фольклорным источникам как способу отражения действительности в традиционной для устного народного творчества форме. В критике писателем современной ему национальной литературы подчеркнута необходимость углубления психологизма произведений, наполнение их реалистическим смыслом, совершенствование творческого мастерства и средств самовыражения. Для Айтматова
Айтматов Ч. Характер и современность // Айтматов Ч. В соавторстве с землею и водою. - Фрунзе, 1978. С.79.
назначение литературы - это, прежде всего пробуждение умов и чувств человечества для созидания добра, красоты на Земле, общего дома для всех во имя будущего. «Каждый из нас являет частицу человечества. Писатель тем более: в нем сходятся параллели и меридианы Вселенной, перекрещиваются века, концентрируется связь времен. Художника формируют ритм и температура эпохи, глобальная ответственность за разумность человеческого бытия» («Ответь себе»).
Итак, миф в произведениях Айтматова - это способ выражения его этико-философского отношения к современности, попытка взглянуть на проблемы человечества через призму вековой мудрости. Содержательность мифа, его многогранность позволяет использовать его в качестве дешифрующего кода, который создает многогранность и многослоиность философского содержания.
Методика исследования. Исследование мифологических мотивов в
прозе Айтматова осуществляется нами с помощью комплексной системы
методов интерпретации художественного текста: структурно-
семиотического, структуро-функционального, стилистического,
интертекстуального. В основе метода исследования лежит целостный подход
к творчеству писателя, сочетающий в себе элементы сопоставительного и
типологического анализа. Основной методологический инструментарий
включает такие понятия, как архетип, образные и повествовательные мотивы,
пространство (мифологическое разделение вселенной на несколько слоев,
центр мира и т.д.).
Методологической и теоретической основой работы являются труды ведущих исследователей мифологии и литературоведов А.В. Веселовского, В.Я. Проппа, М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Б.М. Мелетинского, Р. Барта, М. Элиаде, а также работы тюркологов — философов, историков, этнологов и фольклористов: Л.Н. Гумилева, Ч. Валиханова, В.М. Жирмунского, А. Афанасьева, И. Молдобаева, Р.С. Липец, Е.А. Крейновича. Н. Никифорова,
С.Г. Неклюдова, Н.Дыренковой, А. Островского, A.M. Сагалаева, Д.Н. Медриша, С.С. Каташа, С.С. Суразакова.
Цель работы: исследовать основные мотивы и мифологические образы зрелой прозы Ч.Айтматова; дать, по возможности, полный анализ мифологических единиц в авторском тексте и выявить значение мифологической составляющей при создании художественной картины мира в произведениях Айтматова.
Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи:
Рассматривая в хронологическом порядке произведения Айтматова, выявить характер авторского «мифотворчества».
Описать и систематизировать основные мифологические и фольклорные мотивы.
Сопоставить мифомотивы и мифообразы у Айтматова с традиционными мотивами и образами фольклора.
Определить роль мифологических и фольклорных образов в создании автором художественной картины мира в конкретном произведении.
Структуру работы определяет логика исследования, подчиненная раскрытию своеобразия произведений Айтматова в свете мифологического содержания: исследование включает введение, три главы, заключение и список использованной литературы.
Положения, выносимые на защиту:
Фольклорно-мифологический контекст прозы Ч. Айтматова представляет целостную систему, пронизанную лейтмотивными линиями, составляющими единый мегасюжет;
основной прием интерпретации художественной картины мира Айтматова - совмещение пространства мифологического и современного, диалог тюркского эпического мышления с русским и европейским;
айтматовский мифологизм отличен от модернистского мифотворчества, включая варьирование традиционных мифообразов в перспективе перехода от ретроспективной утопии к апокалиптике.
Фольклорно-мифологические мотивы в повестях «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря».
Обращение к фольклорно-мифологическим источникам в прозе Айтматова свидетельствует о развитии киргизской литературы в целом. Если в начале XX века обращение к некоторым жанрам устного народного творчества было вызвано объективными причинами нехватки опыта у профессиональных литераторов, то уже в середине века использование "народной мудрости" становится средством упорядочивания художественного материала70. Не отрицая того, что в ранней прозе Айтматова присутствовали некоторые фольклорные элементы, все же, на наш взгляд, о сознательной творческой установке автора на фольклорно-мифологические мотивы как сюжетообразующие можно говорить лишь с повести "Прощай, Гульсары!".
Повесть "Прощай, Гульсары!" в ключе мотивного анализа может быть рассмотрена в нескольких культурных традициях. Во-первых, в параллели со структурой тюркского героического эпоса со всеми его реалиями. Во-вторых, в сопоставлении с русской литературной традицией. В-третьих, здесь следует ориентироваться и на археомотивы античности. Так, например, двойственная образность повести указывает на спаянность образов главных героев, которую исследователь Г. Гачев, символически проецируя на античный образ кентавра, называет "Гультан"71.
Известно, что в «Прощай, Гульсары!» присутствуют вставные фольклорные сюжеты, которые несут особую эмоционально-смысловую нагрузку. Это известный древний киргизский плач «Карагул ботом», который писатель синтезирует с другим не менее известным фольклорным мотивом -легендой об охотнике Коджожаше, а так же древний киргизский плач верблюдицы. «Синтез легенды об охотнике Коджожаше» и древнего плача «Карагул ботом», направление их в единое художественное русло стали возможны благодаря имеющимся в них точкам непосредственного соприкосновения, пересечения ... , ведь и первое и второе - порождение архаического, мифологического сознания древних охотников и, следовательно, несут на себе отпечаток специфической психологии своих создателей», - пишет К. Ибраимов .
Писатель вводит фольклорные мотивы в текст повести несколько раз. В частности, песня-плач верблюдицы, потерявшей верблюжонка используется писателем дважды: после смерти Чоро и в заключительных строках. Каждое из фольклорных произведений заключает в себе глубокий смысл, передающееся из поколения в поколение завещание - предупреждение о том, что любое зло, направленное против природы, неизменно оборачивается злом для человека. Эта идеология и связанные с ней разного рода табу, поверья и приметы испокон веков играли роль своего рода морального кодекса взаимоотношений человека и природы73. Для древнего человека животные были и необходимой для существования добычей, и друзьями, и врагами. Мифологизируя окружающую действителыюсть, человек верил, что удача и неудача на охоте полностью зависит от воли духа - покровителя животных, в частности, покровителя горных копытных животных (кийиков) 40
Кайберена. Существовало и магическое число - «тысяча», более добывать добычу не имел права никто. «В народе говорится, - пишет по этому поводу этнограф Т. Баялиева, - что более тысячи кийиков убивать нельзя. Тот же, кто нарушит это предначертание, будет жестоко наказан: либо он ослепнет, либо его постигнет несчастье. В конце концов он погибает. А в отдельных случаях убивает своего сына, приняв его за кийика»74. Именно проклятие, ниспосланное Кайбереном, становится в «Карагул ботом» причиной того, что старый охотник убивает своего сын, принимая его за олененка . Этот же мотив есть и в легенде об охотнике Коджожаше, главный герой которой, несмотря на предупреждение духа-покровителя, полученное им во сне, опьяненный собственной гордыней, решается уничтожить весь род Серой козы.
Жестоко поплатился охотник Коджожаш в повести Айтматова за безрассудство свое - "истребил он стадо Серой Козы, первоматери козьего рода", не пожалел и последнюю пару - "уложил метким выстрелом громадного Серого Козла" (Т. 1. С. 502)76, продолжателя рода. И осталась Серая Коза одна, и прокляла охотника страшным проклятием. И расплата за это - гибель. Зло должно быть наказано, но наказан не только виноватый, Коджожаш, а еще и его старый отец, вынужденный, убив сына, остаться до конца своих дней жить с невыносимой болью утраты. Учитывая то, что впервые Айтматов напрямую обращается к фольклорному материалу и вводит в текст повести фольклорные сюжеты, скажем, что здесь использование этого материала Айтматовым во многом близко «овидиевскому» отношению к мифу в современной литературе. Это традиция формального использования мифа, ограничивающаяся употреблением мифологических мотивов и имен с «орнаментальной» целью .
Синтез легенды об охотнике Коджожаше и древнего плача "Карагул ботом" использован автором в контексте повести в нескольких символико-художественных планах. Во-первых, в обобщенно-аллегорическом смысле призвать человечество к гуманному отношению ко всему живому с целью напомнить людям, что всякое зло оборачивается против того, кто его порождает. Использование автором фольклорного мотива убийства последней пары связывает данное произведение с тематикой экологической прозы.
Мотив жертвоприношения в романах «Буранный полустанок», "Плаха", "Тавро Кассандры".
Жертвоприношение в самом общем смысле есть религиозный акт, который посредством освящения жертвы изменяет статус лица, совершающего этот акт, или определенных объектов, которые представляют для него интерес. Из того определения следует, что между религиозным наказанием и жертвоприношением (во всяком случае, искупительным) есть сходство и есть различия. Религиозное наказание также предусматривает посвящение («посвящение имущества и головы» - conseratio bonorum et capitis [лат.]), из этого посвящения тоже следует уничтожение. Ритуалы здесь довольно похожи на ритуалы жертвоприношения. Но при наказании ярко выраженный момент жертвенности присущ, прежде всего, субъекту, который совершил преступление и теперь искупает его. В случае искупительного жертвоприношения происходит замена и отвечает жертва, а не виновный. Но все-таки, когда общество запятнано преступлением, наказание для него есть одновременно и средство смыть пятно. Виновный в его глазах играет роль искупительной жертвы. Можно сказать, что одновременно происходит наказание и жертвоприношение.
Одним из постоянных мотивов произведений Айтматова становится мотив жертвоприношения, связанный со смертью ребенка. Действительно, вспомним его повести: «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Ранние журавли» - все эти произведения объединяет то, что в центре художественного пространства повествования находится мир ребенка, который представляет собой чистое и непорочное преломление окружающего «взрослого мира», не всегда доброго и гуманного по отношению к нему.
Душу, жаждущую познания, наполнил радостью и смыслом для Мальчика из «Белого парохода» дедушка Момун. Он и сам не заметил, насколько глубоко затронула по-детски открытое сердце внука его сказка, постольку, поскольку жесток тот мир, где приходится выживать человеку, зачастую идя на компромиссы со своей совестью. Так случилось и с Момуном: убив олениху - тотем рода Бугу,- он растоптал не только свою сказку, которая, конечно же, значила для него нечто большее, чем просто родовое предание, - этим он смирился с жестокой и несправедливой действительностью. Есть, казалось бы, для него оправдание, ведь совершил он это преступление не ради себя, а для дочери своей злосчастной, для внука. Для Мальчика же нет компромиссов - вместе со сказкой деда рухнул и реальный мир, и осталась у него только своя сказка, навстречу к которой он уплывает. Жестокий мир, подняв руку на священное, убивает и ребенка, маленький росток достойного продолжения рода человеческого. Айтматов о трагическом финале своей повести пишет так: "У меня был только один выбор - писать или не писать повесть. А если писать, то только так""4. Трагический финал в повести оказался неизбежным, поскольку, уйдя из жизни, мальчик сохраняет душу чистой, иного способа борьбы и самовыражения нет. А. Камю писал в "Бунтующем человеке": "Главное не в том, чтобы добраться до корней вещей, но понять - оставляя мир быть тем, что он есть, - как себя вести в этом мире"115.
В «Пегом псе, бегущем краем моря» все обстоит иначе, здесь, напротив, взрослые преподают «урок на всю жизнь» ребенку - урок самоотверженности, мужества и доброты во имя продолжения жизни. Здесь от отца и братьев мудрость и опыт в экстремальной ситуации передаются Кириску, самому младшему на лодке. Человеческому существованию в этой повести угрожает могущественная природа, ниспославшая на людей космическое испытание - незыблемый Великий туман, - из которого люди выходят достойными победителями.
Покушение на жизнь ребенка присутствует и в «Ранних журавлях». Война, голод, жестокий зимний холод - вот фон на котором разворачиваются события в повести. Не к кому больше председателю колхоза Тыналиеву обратиться за помощью, как к пятнадцатилетним мальчишкам, на неокрепшие плечи которых ложатся тяготы посевной. Однако этим «батырам Великого Манаса» противостоят темные силы. В первую очередь, они возникают из реального мира людей - это дезертиры с фронта, пытающиеся бегством спасти свою жизнь от абсурда уничтожения человеком человека. В повести это враждебные силы постольку, поскольку, отрекаясь от родового долга защиты отечества, тем самым, отделив себя от социума, эти люди окончательно теряют человеческий облик. Наряду с ними, противостоит ребенку и старый волк, к схватке, с которым готовится в финале Султанмурат. И вместе они, человек и волк, по мысли Г. Гачева, «как бы вырост с того заднего - подземного в повести плана войны, которая вот вдруг и здесь въявь предстала несколькими своими представителями: дезертиры пб конокрады, «полицаи», и вот волк - германское отродье» . Тот же мотив убийства ребенка жестокой реальностью звучит и в «Плахе». Базарбай представляет в повести чуждый природе мир людей. Он лишает волчью пару, Акбару и Ташчайнара, волчат, их последней надежды на продление рода. В абсурдном мире нет справедливости, утверждает писатель в "Плахе", и трагедия в том, что вина героев без вины - все в человеческом общежитии взаимопереплетено, взаимосвязано и расплата ждет любого. Обезумевшая от горя волчица кружит вокруг кошары Бостона, человека от рождения гуманно и бережно относящегося к природе, Бостону отныне предстоит жестокая схватка с Акбарой. Для Айтматова трагедия человека в том, что, забыв свою органическую связь с природой, он вступает с ней в неравную борьбу, в борьбу, где не может быть победителей проигрывают обе стороны. Бостон, целясь в волчицу, не доверившись природе, убивает сына, разрывает отношения с социумом, нарушив его закон и убив человека. Эти мысли приобретают в последнем романе Айтматова тревожное звучание: жить или не жить человечеству, - цивилизация перед выбором продолжать путь в бездну к неизбежному концу или перейти на качественно иную ступень развития.
Мотив дороги
Во всех произведениях Айтматова присутствует мотив дороги, являя собой один из ключевых моментов раскрытия авторского замысла. Для его героев путь - познание себя и окружающих людей, открытие красоты души («Джамиля», «Белый пароход»), рефлексия прошедшей жизни, «переоценка ценностей» («Тополек мой в красной косынке», «Материнское поле», «Прощай, Гульсары», «Буранный полустанок»), тревога за будущее человека и человечества, мысль о том, что его необходимо спасти от неизбежной гибели («Плаха», «Тавро Кассандры»),
Художественная литература обладает бесконечным множеством произведений, художественно трансформировавших данный мотив. Нами будет рассмотрено художественное осмысление Айтматовым мотива дороги в повести "Прощай, Гульсары" и в романе "Буранный полустанок, который в этих произведениях является сюжетообразующим.
Фабульное движение повествования в «Прощай, Гульсары!» ретроспективно связывается с сюжетным действием. Оно построено на хронотопе пути «старого человека и старого коня». Во-первых, дорога в повести представлена как хронотоп одной ночи и реального пути из Александровки в горы. Танабай уходит в ночь из дома сына после ссоры с невесткой, в горячности не заметив, что его старый конь уже не в силах преодолеть заданного пути, и ночной путь становится последним для старого коня. Пустынная дорога в вечерних сумерках, холод ночной степи, поздняя осень - все эти реалии усиливают ощущение смерти как перехода в «инореальность». Во-вторых, последний путь старого человека и старого коня становится метафорой жизненного пути: в воспоминаниях Танабая воскресает история целого поколения. Автор жизнь одного человека исследует через такие понятия как история, судьба, вечность.
Реальная дорога в повести представлена через такие топо-реалии как районный центр, Александровский подъем, степь, канал и горы. Особенно интересен здесь топос перевала. Он присутствует в контексте повести в нескольких проявлениях. Во-первых, перевал в повести явлен как этап жизни человека: "Серый конь старости ждал его (Танабая) за перевалом, хотя и близким, а пока он ездил на буланом иноходце" (т.1. С.374). Во-вторых, перевал здесь представлен в значении границы своего и чужого пространства: Александровский подъем - как преграда на пути от "большого" мира к родному малому рубежу. В-третьих, преодоление Александровского подъема в повести служит характеристикой жизненной позиции главного героя, наиболее полно раскрывает характер Танабая: «Не любил он медленной езды, ну просто не переносил» (т.1. С.374). Переплетаясь со знаком перевала как границы, его оценочная семантика прослеживает то, что с приближением субъекта к черте небытия происходит стирание грани «чужого - своего» пространства: «На этот раз Танабай и не заметил, как миновал Александровский подъем. Привык, выходит к старости» (т.1. С.375).
Иные топореалии последнего пути - степь и канал - представляют комплекс преград природного и социального происхождения: пустынное безжизненное пространство степи с неуклонно надвигающейся тьмой, и искусственно созданная людьми преграда - канал. Основным в художественном пространстве повести выступает топос гор. «Откуда ему было знать, что голова коня кружилась, как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, кренилась с боку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед Гульсары временами вдруг обрывалась в темную пустоту и коню казалось, что впереди, куда он держит путь и где должны быть горы, плывет красноватый туман или дым». Горы - конечный исходный путь для коня и человека, пространство, где находится дом - символ физического продления жизни и метафорический предел спасения и исцеления.
Пути героев повести пересекаются около моста. Данный символ широко представлен в мифологии всех народов. Так, в славянской мифологии присутствует мотив единоборства героя с врагами, обычно многоголовым змеем, у моста. Мост в повести становится тем пределом, за которым происходит преломление намеченной траектории пути. Танабай, рискуя заблудиться, решает свернуть за мостом с дороги на тропу, что идет вдоль оврага. «Тропа та уходила в горы, и по ней можно было быстрее добраться домой» (т.1. С.382). Не смотря на возможность потери пути во тьме ночи, человек с наезженной дороги, в данном случае представляющей символ цивилизации, переходит на тропу, вытоптанную чабанами (на семантическом уровне более надежный путь, приближенный к природному, естественному началу). Далее путь старика и коня продолжается, и уже обрывается около оврага: «За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметной в темноте над оврагом» (т.1. С. 394). Овраг, как известно, в архетипическом представлении соотносится с входом в иной мир, его пространство соотносится с зоной смерти, находящейся в ближайшем пространстве, окружающем человека. Данный символ подчеркивает близость наступления смерти: физической кончины коня и предположительной ее близости для человека.
Смерть иноходца становится в повести для главного героя, Танабая, причиной духовной рефлексии и ретроспекции жизни. «Танабай шел, вспоминал все связанное с иноходцем за долгие годы и с горькой усмешкой думал о людях: «Такие мы все. Вспоминаем друг о друге к концу жизни, когда кто-то тяжело заболеет или помрет. Вот тогда становится всем нам ясно, кого потеряли, каким он был, чем славен, какие дела совершил. А что говорить о бессловесной твари. Кого только не носил на себе Гульсары! Кто только не ездил на нем. А состарился, и все о нем забыли. Идет теперь, еле волочит ноги. А ведь какой конь был!..» (т.1. С. 385)
Природно-космические символы пространства (воздух, вода, земля, огонь).
Моделирование художественной картины мира в зрелой прозе Айтматова в своей основе базируется на тюркском мировидении и миропонимании. Пространственная организация в авторском тексте строится по принципу традиционного мифологического разделения Космоса на три основные зоны: верхняя - Небо, где находится сокровенный покровитель всемогущий Бог Тенгри, нижняя - подземный, где обитают темные враждебные силы; между этими частями Вселенной находится непосредственно мир людей. Средний мир характеризующийся понятием «Jep-cyy» (земля-вода), основными символами-маркерами которого являются дерево, гора и вода.
Облако, принадлежа верхней космической зоне, как проявление влаги проходит через все космические зоны: движение влаги в облаке переменчиво и циклично. Айтматов в своих произведениях несколько раз обращается к образу облака. В повести «Белый пароход» Мальчик постоянно смотрит на облака: «Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали - исчез, мол, мальчишка, где мы теперь его найдем?» (С. 8). Плывущие по небу облака здесь - связующая нить между разрозненными топосами, которые находятся «за горами, за долами», где-то в неведомой дали. Детская фантазия создает из облаков «самые различные штуки. Надо только узнавать, что изображают облака» (С. 8). Если в повести облако - это лишь обобщенный символ, то во вставной повести к роману "Буранный полустанок" "Белое облако Чингисхана" облако занимает доминантное положение в художественной картине мира. Кроме этого, вспомним страсть футуролога Роберта Борка из последнего романа Айтматова фотографировать облака. Итак, облако у Айтматова всегда принадлежит верхней космической зоне.
Небу в трехчастной структуре разделения Космоса принадлежало определяющее значение в управлении судьбами людей. Объясняется это тем, что основные характеристики небесных просторов - это удаленность и трансцендентность.
В тюркской мифологии основной в пантеоне божеств становится фигура Тенгри. Один из фольклорных мотивов, связанных с этим божеством, использовал Айтматов во вставной повести «Белое облако Чингисхана» - это миф о божественном благословении.
Семантика самого образа Чингисхана воплощает единство двух стихий - водного и небесного. Во-первых, Чингиз - «тенгис» - в переводе с древнетюркского - «океан», отсюда, образ Чингисхана представляет собой в повести мощь и силу первичного океана, содержащего в себе неограниченную власть и могущество. Этот образ продолжает идею человекобога, заявленную еще в романе, и разворачивается автором в контексте ницшеанского сверх Человека. «Он постигал собственную суть -суть сверхчеловека - неистребимую, одержимую жажду власти, тем большую, чем большей властью он владел, и отсюда вытекал с неизбежностью абсолютный вывод — потребно лишь то, что соответствовало его власть прибавляющей цели, а то, что не отвечало ей, - не имело права на бытие» (С. 26). Опираясь на миф «Сарозекская казнь», записанный, как отмечается в повести к роману, Абуталипом, Айтматов выстраивает свою концепцию толкования народной мудрости. Образ Чингисхана становится в романе метафорой современного Бога-человека, но не демиурга, а жесткого управителя судьбами людей. Во вставной повести с мыслями Чингисхана совпадает высказывание подполковника: «Наш бог - это держатель власти, волей которого, как пишут в газетах, вершится эпоха на планете и мы идем от победы к победе, к мировому торжеству коммунизма; это наш гениальный вождь, держащий повод эпохи в руке, как, понимаете, держит вожак каравана повод головного верблюда, это наш Иосиф Висарионович! И никто, думающий иначе, чем мы, или имеющий в мыслях не наши идеи, не уйдет от карающего чекистского меча, завещанного нам железным Дзержинским» (С. 12).
Фигура Чингисхана продолжает традиции мессианства у центрально-азиатских народов. Мессианство как религиозно-мифологическая категория связано с понятием "идеальный царь", устроитель вечных судеб "народа божьего", посредник между Богом и людьми, носитель высшего авторитета, спаситель, приносящий с собой новое, исправленное состояние всего мирового бытия. В истории с Чингисханом некоторые исследователи связывают возникновение новой религии, чингизизма . "Сокровенное сказание монголов начинается со слов: «Предком Чингисхана был Борте-Чино, рожденный по велению Высшего неба (Монку Тенгри или Вечного Неба)»1 Так и в повести Айтматова Небо благоволило великому завоевателю, ниспослав ему символ своего благословения, особый знак с высоты, - белое облако, которое является «перстом Верховного Неба». Смертному человеку невозможно стать Богом, вмешиваться в его незыблемые законы. Попытка человека сравниться с Богом непременно повлечет за собой наказание; во вставной повести облако направлено вслед за младенцем и старой наложницей: знаком покровительства Неба стало молоко - символ жизни, божественного блага.
С водной и воздушной стихией связан и символ войска Чингисхана -огнедышащий дракон. Дракон — в мифологии представляет фантастическое существо, которое сочетает в себе элементы разных животных, обычно головы и туловища пресмыкающегося и крыльев птицы. Известно, что в образе дракона соединяются образы животных, первоначально воплощавших два противоположных и отличных от земного мира начала - верхний (птицы) и нижний (змеи и пресмыкающиеся) . В мифологии разных народов образ дракона более близок водной стихии, поэтому дракон, изрыгающего яркое пламя из пасти, - символ слияния великих начал: воды и огня, что являет метафору несокрушимой и разрушительной силы.
С образом дракона в повести к роману связан и непосредственно один из главных героев - сотник Эрдени. Огнедышащих драконов на знаменах великого кагана вышивает его возлюбленная Догуланаг, с образом которой связан широко известный в фольклоре мотив необычных сверхспособностей: «В руках у Догуланаг волшебная сила... Драконы у нее бегут по знаменам как живые. Звезды у нее горят на полотне, как в небе... Она мастерица от Бога...» (С.31). Мотив божественного благословения человека присутствует и при описании образа Эрдени. Он не сравнивает себя с Богом, понимая, что смертный человек - ничто по отношению ко всевышнему закону. Эрдени просит помощи у Неба - Тэнгри для «новорожденного безвинного существа, ибо каждый новорожденный - весть от замысла Бога; по тому замыслу кто-то когда-то предстанет перед людьми, как сам Бог, в людском обличий, и все увидят, каким должен быть человек. А Бог - это Небо, непостижимое и необъятное»( С. 31).
С другой стороны, известно, что и Чингисхан, порождая о себе многочисленные мифы, остался в народной памяти как фигура, избранная некими высшими силами. Так, Б. Ринчен, исследуя культ исторических персонажей в монгольском шаманстве, относительно почитания Сяхадай и Синхалак - хозяев огня пишет, что о них не известно как о реальных исторических личностях, сыне и снохе Чингиса. «Однако устная традиция бурятского шаманства сохранила ... предание о том, что Сахаядай был сыном Эсэгэ Малана - Широколобого Отца, сына Хухэ Мунгун Тэнгри 1990.