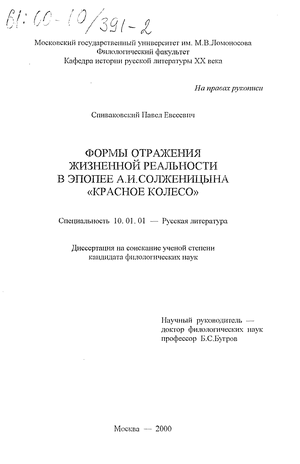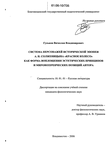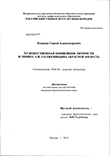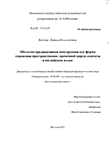Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Полифония 37
1. 1. Постановка проблемы 37
1. 2. Анализ нарративной структуры 40
1.3. Нерелятивистский плюрализм 55
1.4. Полифония в художественной интерпретации Достоевского и Солженицына 58
1.5. Этический и религиозно-онтологический аспекты проблемы 62
1.6. Полифонический художественный документализм эпопеи 65
Глава 2. Онтологическая символика 71
2.1. Постановка проблемы 71
2.2. Мотивы Вавилонской башни и мирового колодца 72
2. 3. Мотивы солнечного затмения, псевдопасхи и гуннов 83
2. 4. Мотив руки 100
2.5. Значение онтологической символики в художественном мире «Красного Колеса» 107
Глава 3. Лексическое «расширение» 113
3.1. Постановка проблемы 113
3.2. Семантические и стилистические особенности лексического «расширения» в тексте тетралогии 117
3.3. Художественная и религиозно-онтологическая значимость «необычной» лексики в «самсоновских» главах «Августа Четырнадцатого» 125
3.4. Лексическое «расширение» в эпопее «Красное Колесо» как форма отражения жизненной реальности 140
Заключение 145
Список использованной литературы 151
Введение к работе
Эпопея А.И.Солженицына «Красное Колесо» /1937, 1969-1973, 1975-1990/ — одно из самых сложных произведений во всей русской литературе. Вместе с тем оно занимает центральное место в позднем творчестве писателя, которое в настоящее время осмыслено явно недостаточно. Более того, «Красное Колесо» чаще всего даже и не прочитано. Однако без адекватного понимания солженицынской тетралогии невозможно по-настоящему осознать глубочайшее своеобразие художественного мира одного из крупнейших писателей XX века.
В то же время исключительная смысловая многомерность «Красного Колеса», полигенетичность его художественной структуры, смелое использование глубоко новаторских художественных приемов — все это ставит перед исследователем творчества писателя множество самых разнообразных проблем и научных задач. В частности, весьма важен вопрос о формах отражения жизненной реальности в тексте эпопеи. Именно этому вопросу и посвящена данная диссертация.
Актуальность исследования связана с тем, что проблема форм отражения жизненной реальности в тексте эпопеи является до сих пор малоизученной, поскольку в литературе о «Красном Колесе» доныне преобладает литературно-критический подход, не позволяющий проанализировать сложные аспекты художественной формы с достаточной степенью обстоятельности. В то же время научное исследование данного вопроса может способствовать более адекватному восприятию художественного своеобразия этого произведения, наиболее репрезентативного для всего позднего творчества одного из крупнейших писателей XX века.
Задачей работы является анализ основных форм отражения жизненной реальности в тексте солженицынской тетралогии. При этом основное внимание уделяется содержательной функции художественной структуры, поскольку именно такой подход в наибольшей степени соответствует творческому методу Солженицына. Задача данного диссертационного исследования — рассмотреть те элементы поэтики этого произведения, которые являются наиболее репрезентативными для творческого метода писателя, помогают лучше понять конкретную специфику соотнесения в тексте эпопеи художественного и документального начал, а также особенности художественного новаторства Солженицына.
Научная новизна диссертации обусловлена тем, что впервые исследуется соотнесенность сферы художественной формы с документально точно воссоздаваемой в тексте эпопеи жизненной реальностью.
Нов и анализ полифонической композиции «Красного Колеса», в частности и в теоретико-литературном плане, поскольку в данной диссертационной работе впервые рассматривается новый вид полифонии, используемый Солженицыным в этом произведении.
Новизна данного исследования проявляется и в анализе онтологической символики «Красного Колеса», который демонстрирует особое отношение Солженицына к первичной, внехудожественной реальности, воспринимаемой им в качестве своеобразного художественного текста.
Также впервые анализируется связь языкового новаторства писателя с чрезвычайно хараісгерньїм для мировидения Солженицына религиозно-онтологическим осмыслением жизненной реальности.
Методологической основой работы является соединение историко-литературного, теоретико-литературного и лингвостилистиче-ского подходов, обусловленное спецификой исследуемого материала. Кроме того, в диссертации используется сочетание структуралистской (в частности, нарратологической) методологии с религиозно-философским подходом, позволяющее анализировать функциональную значимость художественной формы, не пренебрегая религиозно-онтологическими аспектами содержания «Красного Колеса», чрезвычайно важными для Солженицына. В исследовании использованы теоретико-литературные работы М.М.Бахтина, В.В.Виноградова, В.В.Кожи-нова, Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского, Ю.В.Манна, В.Е.Хализева, И.П.Ильина, У.Бута, Ц.Тодорова и других ученых.
Практическая ценность данной диссертации состоит в том, что ее материалы могут быть включены в курс лекций и спецкурсы по истории русской литературы XX века. Кроме того, данная работа может быть использована в теоретико-литературных исследованиях, посвященных проблемам полифонии и специфике отражения жизненной реальности в художественных текстах, а также в лингвостилистиче-ских работах, в которых анализируется язык произведений Солженицына.
По теме диссертации опубликованы следующие работы: "Архипелаг ГУЛаг" // Энциклопедия литературных произведений. — М.: Вагриус, 1998. — С.25-27.
Комментарий [к статье Р.О.Якобсона «Заметки об "Августе Четырнадцатого"»] // Лит. обозрение. — М., 1999. — № 1. — С.19.
Краткая библиография сочинений А.И.Солженицына и работ о нем // Там же. — С.58-68.
Лексическое "расширение" в эпопее А.И.Солженицына "Красное Колесо" // Социальные и гуманит. науки. Отеч. лит. Сер. 6, Языкознание: РЖ / ИНИОН РАН. — М., 1994. — № 4. — С.54-64. "Матрёнин двор" // Энциклопедия литературных произведений. — М.: Вагриус, 1998. — С.284. "Один день Ивана Денисовича" // Там же. — С.ЗЗО.
Полифония трансцендентальных миров: (Некоторые особенности художественной структуры эпопеи А.И.Солженицына "Красное Колесо") // Филол. науки. — М., 1997. — № 2. — С.34-46.
Символика Вавилонской башни и мирового колодца в эпопее А.И.Солженицына "Красное Колесо" // Вестн. Моск. ун-та. Сер.9, Филология. — М., 2000. — № 2. — В печати.
Символическое осмысление жизненной реальности в эпических произведениях А.И.Солженицына 1950-1980-х гг. (на примере мотива руки) // Актуальные проблемы современного литературоведения: Межвузовск. науч. конф. (Москва; 1997). — М.: Изд-во МГОПУ, 1998. — Вып.2. — С.78-82. "Странные слова" Александра Солженицына// Социальные и гуманит. науки. Зарубежная лит. Сер.7, Литературоведение: РЖ / ИНИОН РАН. — М., 1994. — № 1. _ С.37-43.
Феномен Солженицына// Лит. обозрение. — М., 1999. — №1.—С.8-18.
Феномен А.И.Солженицына: новый взгляд/ ИНИОН РАН. — М., 1998. — 135 с. — Рец.: Звонарева Л.У. Скрытый мистик Солженицын // Кн. обозрение. — М., 1999. — 15 июня. — № 24. — С.7; Давыдова Т.Т. П.Е.Спиваковский. Феномен Солженицына. Новый взгляд // Новый мир. — М., 1999. — № 12. — С.235-236. * * *
Необычность подхода А.И.Солженицына к проблеме художественного отображения бытия состоит прежде всего в том, что писатель, как правило, стремится быть максимально точным в воссоздании первичной, внехудожественной жизненной реальности. Вместе с тем природа первичной условности, имманентной любому литературному произведению, предполагает определенное преображение жизненного материала в соответствии с художественной концепцией писателя, которая у Солженицына тесно связана с его доверием самой жизни, бытию как таковому. Поэтому автор «Красного Колеса» стремится ми-нимализировать неизбежную деформацию исходного жизненного материала. Весьма показателен в этом смысле комментарий Н.Д.Солженицыной, жены писателя, к «Августу Четырнадцатого», первому «Узлу» эпопеи «Красное Колесо»: «Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали во- енных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, — подлинные.
Отец автора выведен почти под собственным именем, и семья матери доподлинно. Семьи Харитоновых (Андреевых) и Архангород-ских, Варя — подлинные, Ободовский (Пётр Акимович Пальчинский) — известное историческое лицо»1.
Об этом же свидетельствует и сам писатель: «Почти все исторические лица, — подчеркивает Солженицын, — я вывожу под их собственными именами и со всеми точными подробностями их биогра-фии» .
Все это, в частности, указывает на стремление писателя к максимальной исторической точности изображаемого. Так, Февральская революция 1917 года описывается Солженицыным буквально по часам, а иногда и по минутам: такого подробного воссоздания этого события нет на сегодняшний день ни в одном историческом труде. Высокая степень достоверности «Красного Колеса» подтверждается и изысканиями немецкого историка, который, как свидетельствует С.П.Залыгин, в течение шести лет пытался найти ошибки в этом произведении и не нашел ни одной3. К аналогичным выводам приходит и Д.М.Штурман, изучавшая проблему историзма «ленинских» глав «Красного Колеса»: «<...> каждое существенное высказывание Ленина в Цюрихе строго документально. Мне удалось найти для них всех аналоги в переписке и сочинениях Ленина»4, — подчеркивает исследовательница. Вместе с тем покойный историк Д.АВолкогонов отмечал: «Огромное значение для понимания феномена Ленина имеют, как бы я их назвал, историко-художественные произведения Солженицына. Великий писатель смог, продолжая великую традицию Достоевского, заглянуть в подвалы сознания людей, "перевернувших Россию"»5. Показательно и то, что волкогоновская трактовка исторической роли Ленина весьма близка к солженицынской.
Н.А.Струве, говоря об изображении Солженицыным Самсонов-ской катастрофы 1914 года, подчеркивал: «Может быть, нигде "Август"6 не вызвал такого безоговорочного одобрения, как в военных кругах русской эмиграции. По мнению этих свидетелей-специалистов, военная операция полстолетней давности описана с безукоризненной точностью»7. Н.А.Струве замечает: «<...> ни на одной фактической ошибке Солженицына не поймали, сколько ни пробовали ловить <...>»8. К аналогичным выводам приходит и историк Н.Н.Рутыч9.
Вместе с тем сам Солженицын, говоря о своей исторической концепции, подчеркивал: «Никто не закрывает возможности другому историку или художнику дать другую концепцию, но только не отойти ни от одной, даже крохотной, маленькой, детали. Он может не описывать их, но не должен им противоречить. Я утверждаю, что при той скрупулёзности, с которой я выдерживаю каждую мельчайшую точную историческую деталь, — почти невозможно построить другую трактовку. Место для фантазии будет только тогда, если факты расположены редко, между ними пустые пространства»10. Иначе говоря, высокая степень концентрации исторически достоверных фактов помогает преодолеть сложившуюся в современном общественном сознании ситуацию, когда прошлое России воспринимается как гносеологически «непредсказуемое», как событийный ряд, для которого характерна виртуальная неопределенность1 г.
В то же время историческая концепция «Красного Колеса» нередко вызывала возмущенную реакцию ряда читателей, литературных критиков, публицистов и политических деятелей. Дело в том, что Солженицын в этом произведении покусился на до сих пор «священную» для многих революционно-демократическую» идеологическую традицию, возложив на последователей этой традиции ответственность за российскую революцию 1917 года и за ее катастрофические последствия. Писатель, используя богатейший фактический материал, весьма убедительно доказывает это на страницах эпопеи. Однако для советской интеллигенции 1970-1980-х годов (и для той ее части, которая оказалась в эмшрации), либо исповедовавшей идеологию «социализма с человеческим лицом», либо уже отрекшейся от «истинного» ленинизма, — революционно-демократическая» традиция оставалась, как правило, глубоко уважаемой и почитаемой. Вместе с тем для «левых» западных интеллектуалов «Красное Колесо» оказалось идеологически неприемлемо по тем же причинам. В то же время в «правых» кругах западного мира в 1970-1980-е годы укрепляется и получает чрезвычайно широкое признание и распространение идеологическая концепция, согласно которой революция 1917 года осмысливается как специфически российское явление. При этом вина за нее возлагается на русскую национальную традицию (показательны в этом смысле книги одного из советников президента США Р.Рейгана историка Р.Пайпса). Не случайно В.Страда подчеркивает, что «никогда нельзя будет переоценить значения полемики Солженицына с теми западными историками, которые, исходя из схемы настолько банальной, что она стала общим местом в журналистской советологии, считают, что между Россией и СССР, царизмом и коммунизмом нет никакой разницы». Эта схема постепенно стала доминирующей на Западе, причем, как замечает Страда, «подобно прямо противоположной — марксистской», она «убеждает многих именно в силу своей элементарности»12. Естественно, что и для западных, и для российских сторонников этой идеологемы Солженицын — фигура абсолютно неприемлемая.
Вследствие всего этого писатель оказался в весьма враждебном для него идеологическом окружении. По словам Ю.М.Кублановского, «большинство современников Солженицына с молоком матери впитали представление о том, что освободительное движение13 было глав- ной позитивной и чистой силой новейшей нашей истории. Писатель же видит его (как и Достоевский) во всей амплитуде: от мечтательно-либерального до террористического — и относится к ним сродно авторам "Вех" (с поправкою, конечно, на время)»14. Неудивительно поэтому, что Солженицына обвинили в «реакционности», «монархизме» и т.п., и все это до сих пор продолжает сказываться на восприятии его текстов, в особенности — эпопеи «Красное Колесо». Поэтому для адекватного понимания литературно-критических отзывов об этом произведении необходимо более подробно остановиться на проблеме «Солженицын — революционные "демократы " — монархия».
Мощное российское революционно-демократическое» движение XIX века уповало на радостно ожидаемую его сторонниками крестьянскую революцию, на то, что «только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора»15. Эти слова из герценовского «Колокола» /1860/ Солженицын взял в качестве эпиграфа к первым восьми томам своей эпопеи. Вместе с тем представители данного движения считали его демократическим. Но на каком основании? Стремясь навязать населению России «светлое будущее» в том виде, как его понимали члены этого движения, они отнюдь не выполняли волю народа. Население России в те времена более чем на 80% состояло из крестьян, настроенных однозначно монархически, и, как бы ни относиться к тогдашнему государственному строю, очевидно, что российская монархия вплоть до момента отречения Николая II была в каком-то смысле демократичной16, поддерживаемой подавляющим большинством населения страны. Республиканско-демократическая форма правления основной массой народа в то время отвергалась. Но революционных «демократов» такое положение дел не устраивало: они хотели во что бы то ни стало навязать России свои, в тогдашней ситуации, несомненно, утопические планы преобразования действительности. Не удивительно, что некоторые из этих планов оказались ярко выражено тоталитарными: сам принцип навязывания населению страны того, чего оно в настоящее время не хочет, глубочайшим образом антидемократичен. Парадокс исторического периода со второй половины XIX века и до 1917 года состоит в том, что всё без исключения российское революционно-демократическое» движение было, по сути, глубоко антидемократично, а ненавидимая ими «недемократическая» монархия, опиравшаяся на поддержку большинства населения, для тогдашней, по преимуществу крестьянской России была самой демократичной формой правления. (Это осознавал Пушкин, сделавший основой сюжета «Бориса Годунова» мотив общенародного признания легитимности власти царя.) Солженицын это понял сравнительно поздно, лишь в 1976 году, в процессе работы над «Красным Колесом» , как понял и то, что революция в России была одна — Февральская. Ни попытку вооруженного восстания в 1905 году, ни Октябрьский переворот 1917 года революциями, по словам писателя, назвать нельзя18. А февральские события осмысливаются им довольно-таки неожиданно — как революция сверху (термин Н.Я.Эйдельма-на19).
2 марта 1917 года (по старому стилю) группа думцев во главе с А.И.Гучковым добивается у Николая II отречения от престола. Император отрекся и за себя, и за сына. На следующий день отрекается и брат царя, Михаил Александрович. Оба могли этого не делать. Николая II убедили в том, что его отречение в пользу брата избавит Петроград, в котором взбунтовались весьма немногочисленные запасные батальоны, от кровопролития, а Михаила — в том, что, отрекшись от престола, он якобы исполнит волю народа (а на самом деле — волю прореволюционно настроенной интеллигенции). И оба (абсолютно безответственно и бездумно) согласились. В результате — в течение буквально нескольких дней Россия погружается в пучину почти тотальной анархии. Исчезновение Удерживающего (вне зависимости от его индивидуальных качеств) оказывается гибельным для тогдашнего российского социума. Солдаты перестают подчиняться кому бы то ни было. Грабежи и убийства постепенно становятся обычной повседневной и повсеместной реальностью. Неудивительно, что в обстановке бессмысленного и беспощадного народного бунта необразованное крестьянство вскоре становится жертвой ловкой демагогии большевиков. И только тогда возникают благоприятные условия для Октябрьского переворота, который оказывается не новой революцией, а лишь естественным продолжением февральских событий.
Такова (в самых общих чертах) солжегшцынская концепция истории России этого периода. Интересно сравнить ее со свидетельством И.А.Бунина. В его сценке «Брань» (авторская датировка — лето 1917 года) изображены два крестьянина — богатый и бедный. Они яростно спорят, очень недовольны друг другом, но в одном сходятся: «Наша держава все равно пропала!», потому что «прежде великому Богу присягали да великому Государю, а теперь кому? Ваньке?»20. Этот Ванька, воплощающий тот образ Временного правительства, который сложился в простонародном крестьянском сознании, несомненно, самозванец и в то же время дурак: «У него в голове мухи кипят»21. Республиканское правление воспринимается русским крестьянством как неподлинное, не имеющее права на существование. Плохо это или хорошо, но таково «мнение народное», с которым необходимо было считаться не только Годунову и Самозванцу, но и никем не избранному псевдодемократическому Временному правительству.
Можно ли Солженицына назвать монархистом, как это делают некоторые? В его оценке дореволюционной ситуации — отчасти да. Но это отнюдь не тот подлинный, догматический монархизм, который предполагает безоговорочное предпочтение этой формы правления любой другой. «Монархизм» Солженицына (если в данном случае вообще правомерно употребление этого термина) можно назвать си- туативным и в основе своей, как ни странно это звучит, — демократичным. Писатель предпочитает не мнимо «идеальную» абстракцию (демократию вообще, монархию вообще), но ту форму правления, которая является лучшей в данное время и в данном месте. Солженицын призывает не к поклонению идеализированным схемам, а к трезвой и непредвзятой оценке конкретной исторической ситуации. И если для дореволюционной России самой демократичной формой правления, по Солженицыну, была монархия, то, говоря о нашем времени, писатель отнюдь не случайно занимает принципиально иную позицию: «<...> по всему потоку современности мы изберём несомненно демократию»22, — убежден Солженицын, категорически отрицающий самую идею восстановления российской монархии (опять-таки на том основании, что в современном обществе этот строй уже не может быть подлинно демократичным). «<...> ничто в России не может вернуться к дореволюционному бытию»23, — убежден писатель. Такая по-своему очень последовательная и в то же время принципиально адогматическая точка зрения вызывала и вызывает резкое раздражение среди представителей самых разных идеологических направлений. Так, с точки зрения догматиков-демократов, республиканское правление абсолютно всегда и во всех случаях лучше для любого государства и в любую эпоху, а если эта форма власти оказывается для данной конкретной страны гибельной, тем хуже для этой «рабской» страны. Не меньшее недовольство высказывают и догматики-монархисты. По их мнению, Солженицын, резко отрицающий самую идею восстановления монархии в современной России, по сути, вообще не монархист (впрочем, последнее верно).
Разумеется, политические «баталии» вокруг «Красного Колеса» и его исторической концепции отнюдь не способствовали и не способствуют адекватному эстетическому восприятию этого произведения. Кроме того, данная задача усложняется еще и тем, что соотношение документального и художественного начал в тексте эпопеи очень необычно. Создавая свою огромную десятитомную тетралогию («Красное Колесо» — самое большое по объему произведение во всей русской литературе), Солженицын ставил перед собой одновременно две задачи — и историческую, и художественную. Однако при этом художественное начало отнюдь не играет здесь вспомогательную или второстепешгую роль. Как справедливо отмечает С.И.Кормилов, «фигуры реальных людей писатель убедительно претворяет в художественные образы»24. Автор «Красного Колеса» подчеркивал: сопоставлять написанное им «о Февральской революции <...> можно будет только с работой того художника, который <...> напишет это иначе. Но опираясь на ту же густоту достоверных фактов»25. По мысли Солженицына, чисто исторический подход к данной теме односторонен и недостаточен. Писатель, обратившись к данному конкретному исто- рическому материалу, прекрасно понимал, сколь трудно и в то же самое время заманчиво освоение этого материала именно для художника. Не случайно автор «Красного Колеса» замечал: по сравнению с войной, «революция есть ещё большее проявление сильных чувств, в ещё более массовых масштабах, и поэтому революция ещё* жарче просится в литературу, чем война. Но вообще в мировой литературе революции отражены, по-моему, непропорционально меньше, чем войны, — замечает писатель. — Это более трудная задача»26.
В чем же принципиальная сложность той задачи, которую поставил перед собой Солженицын, создавая эпопею «Красное Колесо»? Помимо очевидных трудностей, связанных со сбором и систематизацией документальных материалов и решения собственно исторических проблем (исключительно сложных и масштабных), перед писателем-историком, которым, очевидно, является Солженицын, возникает задача сочетания документальной точности в воссоздании жизненной реальности описываемой эпохи с художественным преображением этой реальности, рождающим мир литературного произведения. Фактически писатель поставил перед собой задачу принципиального расширения сферы художественности, которая, по Солженицыну, не обязательно вписывается в жесткие рамки вымысла.
К сожалению, в литературе о «Красном Колесе» эта проблема (столь важная для адекватного восприятия текста эпопеи) не только не решена, но и вообще недостаточно осмыслена. Вместе с тем литература о солженицынской тетралогии весьма обширна, и более или менее полный ее обзор намного превысил бы объем данной диссертации. Поэтому среди множества откликов и суждений о «Красном Колесе» имеет смысл выделить лишь наиболее репрезентативные. Так, чаще всего писателя упрекают за «излишнюю» скрупулезность и документальную точность в воспроизведении исторических событий, что якобы противоречит принципу художественности. Например, даже такой тонкий ценитель творчества писателя, как Н.А.Струве, говоря о солженицынской эпопее, готов упрекнуть писателя «в недостаточном количестве анахронизмов, слишком точном воспроизведении эпохи... Может быть, — добавляет Струве, — художественное произведение нуждается и в некоторой доле поэтической фантазии...»27 Однако вместе с тем исследователь подчеркивает: «<...> Солженицын "поэтизирует" февральские события, если под этим понимать не идеализацию, а возведение реальности в высшую, поэтическую степень бытия»28. При этом, по мысли Струве, «научная29 точность <...> нисколько не мешает поэтической экспрессии: они гармонично и нераздельно слиты. <...> У Солженицына впервые взыскательный художник находится в ладу с наидобросовестнейшим историком, причем ведущая роль остается за художественным заданием»30. Верно указав на подлинно художественное воссоздание жизненной реальности на страницах эпопеи, Струве, однако, не отвечает на естественно возни- кающий вопрос: каким образом документальное начало в этом произведении «перетекает» в художественное?
Обходит эту проблему и Л.Д.Ржевский, посвятивший «Августу Четырнадцатого» один из разделов своей книги «Творец и подвиг. Очерки по творчеству Александра Солженицына» . То же можно сказать и о Р.В.Плетневе, предпоследняя глава книги которого названа «Август Четырнадцатого» .
В монографиях М.А.Шнеерсон «Александр Солженицын. Очерки творчества»33 и Ю.А.Мешкова «Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время»34 текст «Красного Колеса» вообще не анализируется. Если Шнеерсон, книга которой была опубликована в 1980 году, объясняла это тем, что «Август Четырнадцатого» и «Ленин в Цюрихе» — это «лишь части незавершенной35 эпопеи»36, то Мешков, отметив, что «Красное Колесо» «стало главной книгой»37 писателя, никак не обосновал отсутствие анализа этого произведения в своей монографии, вышедшей в 1993 году, через два года после публикации полного текста тетралогии.
В отличие от вышеперечисленных авторов, один из крупнейших исследователей творчества писателя, Жорж Нива, отнюдь не игнорирует проблему соотнесения документального и художественного начал в эпопее «Красное Колесо». По мысли французского ученого, «Солженицын принадлежит к породе "реалистов", писателей, которые буквально одержимы действительностью, реальностью»38. В приведенных здесь словах Нива содержится элемент критицизма и скепсиса. Получается, что одержимые действительностью «реалисты» — в художественной литературе явление маргинальное, однако, как отмечает В.Е.Хализев, «центр и доминанту тематики искусства составляет внехудожествеппая реальность. Художественное творчество в его высоких образах, как правило, не замыкается на самом себе»39, поскольку «глубины внехудожественной реальности составляют едва ли не главный объект художественного познания. В творчестве больших писателей устремленность подобного рода играет решающую роль»40.
Нива утверждает, что в последних томах «Красного Колеса» «тема разрушила текст, за хаосом истории пришел хаос повествования. Роман Солженицына всегда хотел быть чем-то отличным от романа — поисками смысла, наукой о спасении. И вот он мертв. Перед нами смерть этой грандиозной попытки. Но и в самой смерти, в поражении есть что-то величественное, чарующее»41, — замечает французский исследователь.
Нива упрекает писателя за нарушение канонов жанра романа, однако Солженицын подчеркивал, что не называет «Красное Колесо» романом или романом-эпопеей, принимая лишь жанровое определение «эпопея»42. Поэтому бессмысленно упрекать писателя за то, что он якобы «не сумел» создать произведение в жанровой форме классического романа. Что же касается «хаоса повествования» в последних томах эпопеи, то он не только является адекватным отражением «хаоса истории», но и сознательным художественным приемом, позволяющим эстетически освоить изображаемую в данном произведении социокультурную катастрофу. Более подробно эта научная проблема рассматривается ниже, во второй главе диссертации.
Интересные соображения о соотношении в «Красном Колесе» документального и художественного начал содержатся в литературно-критическом эссе протопресвитера Александра Шмемана, посвященном «Августу Четырнадцатого»: «<...> Солженицын любит правду. Любит как самое драгоценное и незаменимое, что есть на земле. И именно она, эта почти чудесная по своей трезвости любовь к правде привела его к теме "Августа Четырнадцатого" <...>»43. По словам о. Александра, существует «"культура" — насущная, насущная, питательная, обогащающая и насладительная часть жизни, а все-таки не сама жизнь», однако чтение «Августа Четырнадцатого» снимает «саму грань между "культурой" и "жизнью"»44. Текст «Август Четырнадцатого», подчеркивает о. Александр, воспринимается «как прорыв в какую-то глубину, как прикосновение к скрытой сути вещей, как приобщение к тому, что за видимым, внешним и преходящим»45. Таким образом, по мысли о. Александра Шмемана, стремление Солженицына к точному воссозданию жизненной правды не мешает художественности «Августа Четырнадцатого»: более того, здесь проявляется художественность высшего порядка, снимающая грань между «культурой» и «жизнью». Именно поэтому о. Александр ставит имя А.И.Солженицына в один ряд с именами Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского46. Вместе с тем весьма важным является указание на то, что художественный мир «Красного Колеса» отражает не только физическое начало бытия, но и метафизическое (сверхфизическое, нематериальное). Иначе говоря, жизненная правда, как понимает ее Солженицын, не укладывается в рамки позитивистской картины мира.
В то же время, по словам Л.В.Лосева, документализм «Красного Колеса» отнюдь не случаен: «Мы имеем дело с определенно выраженным эстетическим кредо. Вопрос, который столь многим художникам представляется сложным, иногда мучительным, иногда неразрешимым, вопрос об отношении к действительности, извечная в искусстве дихотомия Dichtung* и Wahrheit**, Солженицыным решается, по крайней мере для себя, крайне просто: описывать с наивозможной точностью то, что было.
Проследить, насколько такая крайняя эстетическая позиция (чуть ли не натурализм!) соответствует реальной художественной практике автора, представляется весьма любопытным»47, — считает один из лучших современных исследователей творчества писателя.
Вымысла (нем.). — П.С. Правды (нем.). — П.С.
Решению именно этой задачи на материале эпопеи «Красное Колесо» и посвящена данная диссертация.
Что же касается вопроса о гипотетическом соотношении творческого метода Солженицына с натуралистической традицией, то очевидный выход за рамки позитивистской картины мира, на который обратил внимание о. Александр Шмеман, демонстрирует искусственность такого сближения (более подробно этот вопрос освещен ниже, во введении к данному диссертационному исследованию).
Т.В.Клеофастова, автор первой научной монографии, полностью посвященной анализу «Красного Колеса», говоря о проблеме соотношения в тексте эпопеи документального и художественного начал, утверждает: «Тончайшая, всесторонняя документальная информация о жизни страны, на основе которой дается глубокий политический анализ происходящих событий, сочетается в "Марте Семнадцатого" — "Апреле Семнадцатого" с главами, где представлена богатейшая художественная палитра писателя»48. Иначе говоря, по мнению исследовательницы, «документальные» главы просто перемежаются в «Красном Колесе» с «художественными», и с этим невозможно согласиться. Во-первых, художественное начало присутствует и в «обзорных», историко-публицистических главах, написанных в форме художественного исследования, характерной, в частности, для книги Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» /1958-1967; последняя редакция — 1979/. Во-вторых, для «художественных» глав тетралогии, как правило, характерна документальная точность, поэтому механическое противопоставление документального и художественного начал здесь попросту теряет смысл. Впрочем, анализируя «ленинские» главы эпопеи, Клеофастова отмечает: «<...> АСолженицын не только излагает факты: документализм сочетается с углубленным психологическим раскрытием образа Ленина, происходит синтез истории, публицистики, художественности»49. Однако каким именно образом происходит синтез документализма и художественности, исследовательница не поясняет.
Гораздо больший интерес представляют в этом смысле наблюдения Д.М.Штурман, которая, говоря о соотношении в «Красном Колесе» документального и художественного начал, замечает: «Для всего повествования характерна глубочайшая и точнейшая документальность, историческая цитатность. При этом цитаты (и событийно-хроникальные, и портретные, и документальные) то разворачиваются в глубинах художественного текста и от его ткани совершенно неотделимы, то выходят на его поверхность в качестве открытых дословных имплантаций со ссылками. Ощущение такое, что цитируются не первоисточники, не документы, а само время, в которое переместился автор. Может быть, наиболее удивительное — мастерство вживления Солженицыным открытых документальных фрагментов в мазки авторской живописи. Они не прерывают, а продолжают автора, углубляя и обостряя читательское восприятие в нужной автору эмоциональной и смысловой гамме. Они усиливают звучание голосов, уточняют рисунок характеров, ненавязчиво множат, выявляют, пополняют оценочные моменты. Их неподдельно "тогдашняя" фразеология выполняет функцию машины времени, доставляющей нас в нужную точку хронологических просторов повествования. В одном полотне, не наделяя его при этом стилевой эклектичностью, сочетаются разные техники, разные изобразительные приемы, разные речевые пласты, теоретически, казалось бы, сосуществовать не способные»50.
Вместе с тем, подчеркивает Дора Штурман, «отсутствие однозначной, предрешенной позиции <...> не позволяет воспринимать Узлы51 как публицистику. Перед нами жанр чисто художественный, в то время как "Архипелаг ГУЛАГ" — исследование столь же художественное, сколько публицистическое (возможно, что больше — второе)»52.
Почти со всеми высказываниями исследовательницы невозможно не согласиться. Обращает на себя внимание лишь одна теоретико-литературная неточность: понятие «чистой художественности» весьма спорно и во многом условно, потому что невозможно установить точные и незыблемые границы этого феномена. Если же говорить об эпопее «Красное Колесо», содержащей, в частности, вставные, историко-публицистические, «обзорные» главы, то имеет смысл определить это произведение как по преимуществу художественное (то же, впрочем, молено сказать и о романе-эпопее «Война и мир» с его многочисленными вставными философско-публицистическими главами). По словам В.Е.Хализева, «художественная литература <...> занимает в культуре общества и человечества особое место как некое единство собственно искусства и интеллектуальной деятельности, сродни трудам философов, ученых-гуманитариев, публицистов»53.
В то же время широкое распространение получила противоположная крайность: нередко какая бы то ни было художественная ценность «Красного Колеса» вообще отрицается. Чаще всего такого рода оценочные суждения мотивированы идеологически (см. выше).
Так, А.Д.Синявский в статье «Солженицын как устроитель нового единомыслия», впервые опубликованной в 14 номере парижского журнала «Синтаксис» за 1985 год, утверждал, что в «Красном Колесе» «идеолог <...> пожирает того художника, каким когда-то был Солженицын. На первый план, — по словам критика, — выходит назойливая и злая мораль. Мораль эта во многом сводится к угрозе: бойтесь свободы слова!»54 Синявский объявляет Соллсеницына противником плюрализма и приписывает ему следующую идеологическую позицию: «<...> истина одна, эта истина принадлежит Солженицыну и людям, которые полностью разделяют его взгляды, все же прочее — ложь» . Это утверждение Синявского получило широкое распростра- нение среди представителей третьей эмиграции. Ниже, в первой главе данной диссертации демонстрируется несостоятельность обвинений писателя во враждебном отношении к плюрализму. Истинной причиной идеологического отторжения «Красного Колеса» является то, что писатель в этом произведении указывает на ответственность революционно-демократического» движения за революцию в России (см. выше), в то время как многие посткоммунистические идеологи, порвав с марксизмом-ленинизмом, фактически оказались именно на революционно-демократических» позициях.
Как только первые «Узлы» «Красного Колеса» были возвращены отечественному читателю (это произошло в 1990 году), в российской печати стали появляться идеологически мотивированные статьи, авторы которых настойчиво убеждали читателя в абсолютной идейно-художественной несостоятельности этого произведения, в точности повторяя аналогичные заявления некоторых представителей третьей эмиграции. Так, радикальный последователь революционно-демократических» идей56 В.Г.Воздвиженский приписывает писателю враждебность к демократии, манию величия, реакционность и т.п. Отрицая какую бы то ни было художественную значимость всего позднего творчества Солженицына, Воздвиженский утверждает: «<...> "Красное Колесо" эстетически немногим отличается от безнадежно девальвированных квазиэпопей, которые давно набили оскомину в литературе соцреализма. <...> Самый выигрышный для этого жанра образец — "Хождение по мукам" Алексея Толстого»57.
Вместе с тем Б.Н.Любимов вспоминает: «<...> четверть века назад, когда в руки попал первый вариант "Августа 14-го", как многие были раздосадованы: "мы-то ждали, что он сразу начнет разоблачать большевиков, а он все про каких-то неизвестных молодых людей пишет да про генерала Самсонова". Читатель ждал чего-то вроде "Хождения по мукам" с обратным знаком и обижался на писателя за то, что не получил ни "Хождения", ни "обратного знака"»58. От Солженицына ожидали «соцреализма наоборот», а получили исключительно сложное художественное произведение, весьма далекое от примитивного идеологизма не только советского, но и «антисоветского» толка. Как справедливо замечает А.В.Уранов, «соцреалистическая модель мира, базирующаяся на идеологических, социально-классовых константах, имеет мало общего с художественной моделью бытия А.Солженицы-на, в основе которой важное место занимают духовно-нравственные и онтологические универсалии» .
Отвечая на процитированную выше статью В.Г.Воздвиженского, писатель Б.А.Можаев замечал: «Читая утомительно длинный "приговор" критика "Красному Колесу", невольно спрашиваешь себя: ну, ладно, критик никаких таких красот не заметил <...>. Но редактор журнала, поместившего этот "смертный приговор", неужто не поин- тересовался и не прочел далее двух-трех страниц хотя бы из любопытства: "На что он руку поднимал?"
Конечно, — продолжает Можаев, — серьезный профессиональный редактор, прежде чем печатать этот утомительно длинный разнос, открыл бы роман "Август Четырнадцатого" и повелительно сказал бы этому литературному прокурору: "А ну-те-ка, прочтите вслух! И при мне..."»60
Такой демонстративно «нефилологический» метод доказательства в данном случае может быть отчасти оправдан, поскольку, как справедливо отмечает Н.Л.Елисеев, «ни Толстой, ни Достоевский не писали так, чтобы через весь прозаический текст — ритм, ритм, когда проза словно стихотворение <...>»61. Необыкновенная выразительность ритмической структуры прозаического текста в эпопее «Красное Колесо», действительно, со всей очевидностью демонстрирует высокое мастерство Солженицына-писателя.
В 1991 году, в 13 номере журнала «Свободная мысль» (тогда только что переименованного журнала «Коммунист») была напечатана статья И.А.Дедкова «Любить? Ненавидеть? Что еще?.. Александр Солженицын: от "Августа Четырнадцатого" к "Марту Семнадцатого"». Ее автор, приверженец либерально-коммунистической идеологии, возражая против исторической концепции «Красного Колеса», утверждал, что для Солженицына «в какой-то момент жизни художество, художественное стало <...> чем-то второстепенным по сравне-нию с задачами идеологического и политического свойства» . Однако Дедков никак не доказывает свою точку зрения.
И.Л.Волгин, отвергая идеологически мотивированный миф о «двух Солженицыных», один из которых (автор «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матрёнина двора») «хороший», а другой («реакционер», якобы одержимый ксенофобией и манией величия) — «плохой»63, пишет: «<...> "весь Солженицын" написан одним пером. Этическое единство и цельность его прозы неоспоримы. Напрасно автор нижайше просит своих оппонентов указать ему тот текст, который бы смог подтвердить справедливость их обвинений (как-то: в национализме, монархизме, православном клерикализме и т.д. — нужное подчеркнуть). Но всегда легче сражаться с мифом»64, — подчеркивает ученый, отмечая, что Достоевский в конце жизни подвергался не меньшему поношению в прессе, чем в наше время Солженицын. «От судьбы Чаадаева в России не застрахован никто»65, — замечает Волгин.
С.С.Аверинцев также не принимает концепции «двух Солженицыных»: «Я не разделяю распространенной точки зрения, согласно которой позднее творчество Солженицына как целое ниже раннего, взятого опять-таки как целое; мне представляется валенеє преимущество динамических сцен над статическими, которое, как я нахожу, палично и тут, и там»66. Мысль ученого очень интересна и заслуживает самого серьезного внимания, однако едва ли стоит недооценивать и «статические», медитативные главы «Красного Колеса», в частности посвященные Варсонофьеву, императрице и другим персонажам. Художественно эти главы ничуть не уступают «динамическим». Вместе с тем очень интересно другое высказывание Аверинцева: <«...> таких неистовых плясок ритмической прозы под резкое звяканье созвучий в русской литературе не было со времен Андрея Белого»67. Очевидно, что, подтверждая правильность наблюдений Б.А.Можаева, касающихся ритма прозы А.И.Солженицына, С.С.Аверинцев в то лее самое время сближает поэтику автора «Красного Колеса» с модернистской традицией, отказываясь следовать идеологически мотивированному мифу о Солженицыне-«архаисте».
Вместе с тем некоторые читатели эпопеи не принимают именно ее новаторскую стилистику. Так, сторонник «традиционной» реалистической поэтики писатель В.Е.Максимов оценивает «Красное Колесо» резко отрицательно: «<...> это не просто очередная неудача. Это неудача сокрушительная. Тут за что ни возьмись — все плохо. <...> Герои, как на подбор, функциональны, вместо полнокровных, живых характеров — ходячие концепции. Любовные сцены — хоть святых выноси. <...> сочетание <...> умопомрачительного воляпюка с псевдомодернистской стилистикой а-ля Дос Пассос <...> порождает такую словесную мешаншгу, переварить которую едва ли в состоянии даже самая всеядная читательская аудитория»68. Свои резко-раздраженные обвинения в адрес «Красного Колеса» Максимов никак не доказывает. Известный писатель ограничивается лишь набором сугубо эмоциональных инвектив, избегая каких-либо элементов конкретного анализа.
Р.О.Якобсон в 1972 году отозвался об авторе «Красного Колеса» так: «Солженицын является первым современным русским романистом, оригинальным и великим. Его книги, и особенно "Август Четырнадцатого", представляют собой беспрецедентный творческий сплав всеобъемлющей эпопеи (с трагическим катарсисом) и скрытой проповеди. Своеобразие онтологической временной перспективы расширяет все три составные части этого последнего романа, усиливает его напряженность и новизну и сбивает с толку ленивого читателя.
Величие Солженицына — главная причина <...> клеветнических памфлетов, состряпанных его соотечественниками здесь, в Америке. Еще недавно мы возмущались придирчивыми и безвкусными списками воображаемых анахронизмов и языковых просчетов, злобно раскапываемых в новой книге69 этого грандиозного мастера слова и точного портретиста <...>» . Якобсон был знаком лишь с первой, однотомной редакцией «Августа Четырнадцатого» (Париж: YMCA-Press, 1971), однако это не помешало ему оценить исключительную художественную значимость этой книги. Отнюдь не случай- но и то, что один из крупнейших филологов XX века обращает наше внимание на глубоко новаторскую художественную структуру этого произведения, которая нередко дезориентирует не только «ленивого читателя», но и многих исследователей, пытающихся прочесть «Красное Колесо» как сугубо «традиционалистский» роман, написанный в стиле русской прозы XIX века, и стремящихся объяснить очевидную новизну его поэтики «неумелостью» автора. Критическая оценка такого рода интерпретаций, высказанная Р.О.Якобсоном, весьма актуальна и сегодня, в частности и для данного диссертационного исследования.
В связи с этим заслуживает внимания мнение Л.В.Лосева: «<...> Солженицын сугубый новатор, которого упорно пытаются читать как архаиста» . Не случайно англо-американский исследователь творчества писателя Ричард Темпест подчеркивает: «Сжатый, нервный, синтаксически напряженный, насыщенный метафорами, от тома к тому все более лапидарный стиль "Красного колеса"72 не был бы возможен без традиции русских модернистов первой трети нашего века — Б.Пильняка, Б.Замятина, М.Цветаевой» . В целом с этим высказыванием Темпеста нельзя не согласиться. Солженицын неоднократно подчеркивал, что проза Е.И.Замятина и М.И.Цветаевой повлияла на него как на художника74, однако с творчеством Б.А.Пильняка автор «Красного Колеса» познакомился, по его собственному свидетельству, лишь после написания эпопеи. Так, Солженицын в письме к автору данной диссертации от 3 декабря 1997 года писал: «"Голый год" я прочел уже в Москве, в 1994 <.. .>».
Вместе с тем, к сожалению, слишком часто в литературе о «Красном Колесе» серьезный анализ идейно-художественных особенностей этого произведения подменяется попытками его злободневно-публицистического «переосмысления».
Так, П.Г.Паламарчук в 1991 году утверждал, что «порою перекличка семнадцатого с 1991-м становится до неприличия прямою, и тогда выныривает вдруг то депутат Исполкома Станкевич <...>, а то и вообще его сотоварищ Эльцин <...>»75. Такие сиюминутно-вульгаризаторские читательские аллюзии, очевидно, глубоко чужды художественному, историческому и политическому мышлению Солженицына.
Еще большие идеологически мотивированные домыслы допускает В.А.Юдин, утверждающий, что Солженицын «идет от правды отечественной истории в ее тысячелетнем развитии и не скрывает того, что сам является убежденным носителем монархического триединства: крепкой державной государственности, православия и народности»76, причем, по мнению Юдина, «устами» одного из персонажей «Красного Колеса», убежденной монархистки Андозерской, «песо-мненно <...>, ставит социальный диагноз сам автор <.. .>» . Столь же - безосновательное преувеличение значимости идеологической позиции
Андозерской содержится и в публицистической «книге для учащихся» В.А.Чалмаева «Александр Солженицын. Жизнь и творчество»: «Может быть, лишь Ольга Андозерская, профессорша, любовница Георгия Воротынцева, с ее заемным умом (она действительно перелагает идеи философа И.А.Ильина о русской монархии — это заметил П.Паламар-чук), пробует в "Октябре..."78 зряче любить народ, видеть его грядущую судьбу»79.
Разумеется, мотив «зрячей» любви к народу важен для Солженицына, однако непонятно, почему Чалмаев приписывает его лишь Андозерской (кстати, в «Красном Колесе» ее зовут Олъда, а не Ольга), чья идеологическая позиция основана на догматически непоколебимой убежденности в том, что монархия является идеалом общественного устройства. При этом сам писатель отнюдь не поддерживает такую точку зрения: «Тут приведен аргумент монархистов. Это вовсе не аргумент автора, и даже не принят Воротынцевым, который слушает эти рассуждения»80, — подчеркивает Солженицын. Не случайно такой убежденный монархист, как П.Г.Паламарчук, говоря о «монархических» теориях Андозерской, сетует: «Беда только в том, что излагаются эти теории Воротынцеву... в постели»81. Иронический художественный контекст здесь говорит сам за себя.
Вместе с тем на то, что Андозерская «перелагает» идеи И.А.Ильина, впервые обратил внимание отнюдь не Паламарчук, на которого ссылается Чалмаев, а сам Солженицын в «Замечаниях автора к Узлу Второму», опубликованных во всех без исключения книжных изданиях четвертого тома эпопеи: «Через Андозерскую частью изложена система взглядов на монархию профессора Ивана Александровича Ильина»82. Причем Паламарчук цитирует это высказывание Солженицына полностью и ссылается на источник цитаты83, поэтому неосведомленность Чалмаева вызывает немалое удивление. К сожалению, его книга о Солженицыне переполнена подобного рода искажениями и неточностями.
Очевидно, что анализ идейно-художественных особенностей «Красного Колеса» должен быть освобожден от каких бы то ни было элементов идеологической предвзятости, столь распространенных в литературе о Солженицыне и его произведениях. Это имеет принципиальное методологическое значение. «О Солженицыне написаны горы книг, — замечает М.М.Голуб-ков, — сначала они выходили за рубежом, теперь в России. Но странное дело — за редким исключением они посвящены проблематике политической, но не художественной. Слишком уж взрывоопасен материал, к которому обращается писатель, историческая лава еще не настолько остыла, чтобы говорить об эстетике, минуя политику. Разго-вор об эстетике Солженицына, вероятно, впереди <...>» , — считает ученый, и с ним невозможно не согласиться. Поэтому одной из важнейших задач современного солженицыноведения, очевидно, нейших задач современного солженицыноведения, очевидно, является максимально возможное «приближение» этого будущего.
Завершая данный обзор литературы, следует указать на его принципиальную неполноту. Дело в том, что целый ряд текстов, содержащих конкретный литературно-критический и историко-литературный анализ этого произведения, сознательно исключен из обзора, поскольку эти тексты использованы в «основной» части диссертации.
Кроме того, в начале каждой из трех глав исследования дан краткий обзор литературы по данному аспекту темы. Это связано с тем, что формы отражения жизненной реальности в эпопее «Красное Колесо», анализируемые в данном диссертационном исследовании, весьма разноплановы (по крайней мере, внешне) и их рассмотрение вне контекста каждой конкретной главы сильно усложнило бы восприятие. * * *
Художественный документализм «Красного Колеса», несомненно, требует научного осмысления, тем более что он характерен почти для всего творчества Солженицына: как известно, писатель чаще всего стремится не только оставаться в рамках жизнеподобия, но и с максимальной степенью точности художественно воссоздавать события и обстоятельства реальной жизни. Разумеется, нельзя сказать, что Солженицын полностью отказывается в своем творчестве от художественного вымысла, но все же тенденция очевидна. В то же время попытки объяснения этой важной особенности творческого метода писателя часто недостаточно убедительны. Так, например, В.И.Кулешов обнаружил в произведениях Солженицына «бескомпромиссный натурализм», тот «черствый хлеб истины», который «приемлет перестраивающееся общество» и который может в дальнейшем «подготовить почву для нового расцвета художественной литературы»85. Однако, как известно, мировоззренческой основой натурализма является позитивизм66, иначе говоря, натуралистическая типизация неизбежно связана с созданием сугубо «горизонтальной», внеметафизической картины мира, что резко противоречит художественной практике Солженицына, который воспринимает мир вещей не как единственно существующий, но как лишь одну из частей многообразной и многоликой жизненной реальности, включающей в себя не только физическое, но и метафизическое начало. Чуждо писателю и весьма характерное для натуралистов «недоверие ко всякого рода идеям»87. То же можно сказать и о склонности представителей этого литературного направления к биологическому детерминизму и антиисторизму88.
Очевидно, все это абсолютно не соответствует творческому методу Солженицына.
Стремление писателя к достоверному воссозданию подлинной жизненной реальности порождено не отсутствием у него, как полагал В.Е.Максимов, «достаточно объемного воображения»89, но принципиальным самоограничением в сфере вымысла. Так, в Нобелевской лекции Солженицына говорится об особом типе художника, который «мнит себя творцом независимого духовного мира, и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него, — но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы»90. Солженицын здесь резко отвергает не только эгоцентрический тип художника, но и аксиологический антропоцентризм (эгоцентризм, расширившийся до пределов общечеловеческого «мы»), противопоставляя ему иное, теоцентрическое мировидение. Поэтому принципиально иначе оценивается писателем и роль подлинного художника, который «знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога»91, потому что истинный Мастер — лишь Сам Творец, а человек лишь может попытаться исполнить волю Того, Кто его направляет. Отсюда — исключительная гармоничность духовного мира Солженицына . Он отказывается от роли демиурга, творца своего собственного, антропоцентрически автономного мира, подчиненного лишь единой направляющей воле художника. Писатель, по Солженицыну, должен осознавать, что «не им этот мир создан, не им управляется, нет сомненья в его основах», а значит, груз непосильной для человека ответственности слагается с его плеч и ему легче «ощутить гармонию мира»93. Отсюда — и стремление Солженицына к почти точному художественному воссозданию подлинной жизненной реальности. Если подлинный Мастер — лишь Сам Бог, бессмысленно пытаться создать что-то л у ч ш е е, по сравнению с тем, что создал Он. И поэтому столь важным оказывается принципиально новый подход к эстетическому освоению жизненной реальности, которая, с одной стороны, воссоздается с максимальной степенью точности, а с другой — художественно преображается и переосмысливается, в результате чего возникает новая реальность литературного произведения, почти полностью совпадающая на фактологическом уровне с исходной жизненной реальностью, но выявляющая в ней такие эстетические, структурные, символические и метафизические пласты, обнаружить которые способен лишь художник.
Именно поэтому невозможно согласиться с мнением А.Н.Архангельского, который утверждает, что «Солженицын слишком обострённо чувствует символичность самой жизни. <...> Но весь ужас в том, — подчеркивает критик, — что правду нельзя перенести из жизни в искусство "один к одному". В искусстве ее место занимает прав- до-подобие <...>. Чтобы избежать условности, Солженицыну нужно "соврать" или хотя бы недоговорить94; опустить "символические" подробности, которые в безбрежной реальности как бы размыты и приглушены, а в замкнутой повествовательной рамке начинают выпирать и бросаться в глаза»95. Упоминая о во многом автобиографической повести Солженицына «Раковый корпус», критик утверждает: «<...> никто из читателей не верит, что в раковом корпусе Ташкентской больницы том Толстого и впрямь был (как было и рукописное Евангелие у прототипа Алешки-баптиста в "Одном дне..."), а не вымышлен автором, чтобы навязать одному из героев вопрос: "Чем люди живы?" Не верят именно потому, что он говорит правду. Если б врал — поверили бы»96.
Архангельский непоколебимо уверен в том, что при создании литературного произведения абсолютно необходимо и обязательно использование художественного вымысла, однако один из крупнейших современных теоретиков литературы, В.Е.Хализев, отвергая такую ригористическую точку зрения, подчеркивает: «Сообщения в текстах художественных находятся как бы по ту сторону истины и лжи. При этом феномен художественности может возникать и при воспри- ятии текста, созданного с установкой на документальность» , поскольку, по словам Ц.Тодорова, «для этого <...> достаточно сказать <...>, что нас не интересует истинность данной истории, что мы читаем ее, "как если бы" она была плодом литературного сочинительст-ва»98.
Архангельский считает, что символические подробности, выявляемые Солженицыным в самой жизненной реальности, мешают читателю поверить в правдоподобие изображаемого, однако не следует забывать о субъективной природе самого понятия «правдоподобие»99. Действительно, для читателя, воспитанного в рамках позитивист-ско-материалистической интеллектуальной традиции, все метафизически значимые символические детали в произведениях Солженицына являются и в самом деле «неправдоподобными», более того — пе-далжпыми и воспринимаются как проявление вторичной условности или авторской «тенденциозности», однако то, что эти мотивы заимствованы из жизни, делает такого рода упрек малоубедительным. Вместе с тем для читателя, не принимающего позитивистски-материалистического взгляда на мир, ничего «неправдоподобного» в такого рода символике нет. Она лишь выявляет «вертикальное», метафизическое измерение бытия, а то, что эти символически значимые детали заимствованы из жизненной реальности, с этой точки зрения лишь указывает на гносеологическую несостоятельность позитивистско-материа-листического мировосприятия. Именно такой тип читательской рецепции необходим для адекватного прочтения художественных текстов Солженицына, где метафизический пласт бытия тесно связан с историческим и оба восприняты глазами художника.
Как известно, Аристотель, противопоставляя поэта (писателя, художника слова) историку, подчеркивал: «<...> задача поэта — говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости. Ибо историк и поэт различаются <...> тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном. Общее есть то, что по необходимости или вероятности такому-то [характеру] подобает говорить и делать то-то; это и стремится [показать] поэзия, давая [героям вымышленные] имена. А единичное — это, например, что сделал или претерпел Алкивиад»100. Иначе говоря, историка интересует лишь произошедшее, а писателя — то, что могло бы произойти с тем или иным персонажем. В связи с этим имеет смысл обратить внимание на широко распространенное в настоящее время утверждение, согласно которому «история не терпит сослагательного наїслонения». Данный тезис свидетельствует не о свойствах истории как поступательного процесса, а о гносеологическом самоограничении историков — именно они склонны воспринимать свершившееся как единственно возможное. Такой ретроспективный фатализм связан, по словам Ю.М.Лотмана, с тем, что «историк <...> смотрит на изучаемые тексты из настоящего в прошлое. <...> ретроспективный взгляд неизбежно подводит к выводу, что реально произошедшее — не только наиболее вероятное, но и единственно возможное. Если же исходить из представления о том, что историческое событие — всегда результат осуществления одной из альтернатив и что в истории одни и те же условия еще не означают однозначных последствий, то потребуются иные приемы подхода к материалу. <...> реализованные пути предстанут в окружении пучков нереализованных возможностей»101, — подчеркивает ученый. По мысли Лотмана, «историк, "предсказывающий назад", отличается от гадателя тем, что "снимает" неопределенность: то, что не произошло de facto, для него и не могло произойти. Исторический процесс теряет свою неопределенность, то есть перестает быть информативным»102. Иначе говоря, ретроспективно-исторический взгляд на свершившееся как на единственно возможное недопустимо сужает восприятие исторического бытия, лишая его виртуального бытийного контекста и переводя из сферы множественности и неопределенности в сферу фаталистической единичности.
Лотман обращает наше внимание и на еще одну особенность реального исторического процесса: «Неопределенность подразумевает истолкователя. И здесь приходит на ум одна параллель: художественный текст, в отличие от научного, также содержит высокую степень неопределенности и нуждается в истолкователе (критике, литературоведе, ценителе). <...> Художественный текст есть акт создания мира, такого мира, в котором заложены механизмы непредсказуемого само- развития»103. Следовательно, реальный исторический процесс развивается по законам близким к художественным. Этим и объясняется то, что, по словам Аристотеля, «поэзия философичнее и серьезнее истории» (как науки): виртуальное «саморазвитие» художественного мира оказывается типологически ближе к подлинной жизненной реальности, чем безальтернативно-схематический фатализм историков. Именно поэтому Солженицын в эпопее «Красное Колесо» уделяет так много внимания нереализованным альтернативным вариантам в поведении персонажей этого произведения, то есть тому виртуальному бытийному контексту, который принципиально не интересует историка, но который абсолютно необходим художнику. Вместе с тем весьма симптоматично и то, что, говоря об эпохе, художественно воссозданной в эпопее, писатель подчеркивает: «Я испытываю к Первой мировой войне чувство современника»104. Отказ ретроспективного взгляда на изображаемое здесь вполне очевиден. «Вживаясь» в своих героев, воспринимая окружающий мир их глазами (подробнее об этом см. в первой главе диссертации), Солженицын заставляет и читателя ощутить художественно воссозданную в этом произведении эпоху как свою собственную, сродниться с нею, лично «пережить» все происходящее, погрузившись в мир, в котором случившееся есть лишь один из многочисленных вариантов потенциально возможного.
При этом автору «Красного Колеса», как христианину, очевидно, близко библейское представление о тварном мире как изначально художественном. Так, в ІСниге Притчей Соломоновых Божественная Премудрость, говоря о своем участии в сотворении мира, замечает: «<...> я была при Нем105 художницею <...>» (Притч. 8: 30).
Вместе с тем, по Солженицыну, «история есть результат взаимодействия Божьей воли и свободных человеческих воль. Конечно, Божья воля проявляется, — убежден писатель, — но не фаталистично, и человеческие воли тоже проявляются. И как взаимодействие — получается история»106. При этом, наряду с очевидным для автора «Красного Колеса» действием Промысла, ход истории, по словам Солженицына, «определяется как личностями, так и направлением партий, и хаосом толп, и экономикой. Всё это действует вместе»107. Иначе говоря, писатель признает наличие в истории как детерминистского, так и индетерминистского начал, и это нашло отражение на уровне макрокомпозиции эпопеи. Так, говоря о замысле «Красного Колеса», его автор подчеркивал: «Уже давно <...> я пришёл к выводу, что надо писать эту эпопею методом Узлов. В математике есть такое понятие узловых точек: для того чтобы вычерчивать кривую, не надо обязательно все точки её находить, надо найти только особые точки изломов, поворотов или повторов, где кривая сама себя снова пересекает, — вот это и есть узловые точки. И когда эти точки поставлены, то вид кривой уже ясен. И вот я сосредоточился на Узлах, на коротких промежутках, никогда не больше трёх недель <...>. <...> А в проме- жутке между Узлами ничего не даю. Я получаю только точки, которые в восприятии читателя соединятся потом в кривую»108. В то же время автор «Красного Колеса» замечает: «Я выбираю эти точки главным образом там, где внутренне определяется ход событий, не внешние обязательно события, а внутренние, — те, где история поворачивает или решает»109. Очевидно, писателя в наибольшей степени интересуют те моменты истории, когда индетерминистское начало преобладает над детерминистским.
Интересно сравнить эту модель исторического развития с идеями Ю.М.Лотмана. Так, по мысли ученого, «случайное и закономерное» не являются «несовместимыми понятиями, а предстают как два возможных состояния одного и того же объекта»110. При этом, как отмечает Лотман, «динамические процессы, протекающие в равновесных условиях, совершаются по детерминированным кривым. Однако по мере удаления от энтропийных точек равновесия движение приближается к критическим точкам, в которых предсказуемое течение процессов нарушается <...>»ш. Используя термин И.И.Пригожина, Ю.М.Лотман называет эти «критические точки» точками бифуркации. «В этих точках, — продолжает ученый, — процесс достигает момента, когда однозначное предсказание будущего становится невозможным. Дальнейшее развитие осуществляется как реализация одной или нескольких равновероятных альтернатив» . Вместе с тем Лотман подчеркивает: «При рассмотрении исторического процесса в направ-лении стелы времени точки бифуркации оказываются историческими моментами, когда напряжение противоречивых структурных полюсов достигает момента высшего напряжения и вся система выходит из состояния равновесия. В эти моменты поведение как отдельных людей, так и масс перестает быть автоматически предсказуемым, детерминация отступает на второй план. Историческое движение следует в эти моменты мыслить не как траекторию, а в виде континуума, потенциально способного разрешиться рядом вариантов. Эти узлы с пониженной предсказуемостью являются моментами революций или резких исторических сдвигов» .
Как видим, вероятностные модели революции в интерпретации Солженицына и Лотмана почти полностью совпадают. Ученый даже пользуется тем же термином, что и писатель, называя точки бифуркации «узлами».
В то же время лотмановская интерпретация этой модели позволяет лучше понять особенности художественного замысла Солженицына. Особый интерес писателя к «узловым точкам» русской истории начала XX века связан не только с тем, что именно тогда решалась судьба России и всего мира. Солженицына-художника в наибольшей степени интересуют ипдетерминистсте ситуации в самой жизни, возможность воздействия на ход событий. Не случайно практически все его любимые герои в той или иной степени и форме противостоят детерминирующему влиянию среды. Не случайно и то, чю писатель прервал работу над «Красным Колесом» после написания четвертого «Узла» эпопеи, «Апреля Семнадцатого» (первоначально «Красное Колесо» планировалось в двадцати «Узлах» и должно было завершиться изображением событий 1922 года). Свое решение писатель объясняет так: «Уже и „Апрель Семнадцатого" выявляет вполне ясную картину обречённости февральского режима — и нет другой решительной собранной динамичной силы в России, как только большевики: октябрьский переворот уже с апреля вырисовывается как неизбежный. После апреля обстановка меняется скорее не качественно, а количественно»115.
Иными словами, последняя по-настоящему исторически значимая точка бифуркации (за период 1914-1922) была пройдена Россией именно в апреле 1917 года, а затем сделанный в это время выбор фактически предопределил будущую победу большевиков, сделав ее неизбежной. Вот что пишет о ситуациях такого типа Ю.М.Лотман: «Случайный д о реализации, выбор становится детерминированным после. Ретроспективность усиливает детерминированность. Для дальнейшего движения он — первое звено новой закономерности»116.
Солженицын убежден: «Революция не была неизбежна, но могла произойти»117. И в этой ситуации писателя интересуют прежде всего проявления свободной воли людей, их характеры: «<...> моя художественная задача — как можно глубже проникнуть в <...> исторических лиц, изображая их изнутри, всех»118, — подчеркивает Солженицын.
Вместе с тем, создавая художественную модель исторического процесса, писатель не отказывается и от вымысла. Так, Солженицын замечает: «У меня 90% действующих лиц — исторические, крупные или мелкие, но реально тогда существовавшие». При этом вымышленные персонален, по словам Солженицына, «вносят ощущение какой-то склейки, течения жизни, это напоминание: а жизнь течёт, жизнь сама по себе продолжается»119. Используя вымысел, писатель подчиняет его своей художественной задаче: «<...> вымысел есть для
120 г- художника средство концентрации действительности» , — убежден автор «Красного Колеса». «Не выходя из строгих фактов, — отмечает Солженицын, — даю только психологическую трактовку. Психологическую трактовку я могу в какой-то степени давать свою, потому что не все историчесіше лица себя открывали: очень многие в мемуарах пишут неискренне, а я даю, как я это чувствую. Но так я поступил в очень немногих случаях <...>. А если я брал историческое лицо, но почему-то должен был немного изменить его биографию или немного изменить его обстоятельства, тогда я и не оставлял его истинное имя. <...> Когда я их беру и немножко меняю, то я тоже меняю им что-нибудь: или фамилию, или имя, или отчество. Это даёт мне чуть большую свободу. Но в основном, — всех главных действующих лиц, и царскую семью, и великих князей, и всех министров, всех главных деятелей Временного правительства, всех главных деятелей Совета рабочих депутатов, — я всех даю точно с их биографиями, с их подробностями, с их действиями, — так, как оно было»121.
При этом, как справедливо отмечает П.Б.Струве, «у вымышленного Воротынцева, и у вполне реального Гучкова, или у почти реального Ковынева (писатель Крюков) сходные семейные проблемы. Да и царь прежде всего семьянин, отчасти ради семьи и больных детей жертвующий троном и Россией. Даже у Ленина, поглощенного поли-тикой, то и дело в мыслях мелькает Инесса Арманд» . Иначе говоря, достоверность изображаемого нисколько не препятствует выявлению в каждом конкретно-историческом характере и судьбе общезначимого содержания. По словам Ю.М.Лотмана, «произведение искусства, являясь моделью определенного объекта, всегда остается воспроизведением единичного, но помещаемого в нашем сознании в ряд не конкретно-индивидуальных, а обобщенно-абстрактных понятий. Сама конкретность получает характер всеобщности. <...> Все случайности личной биографии Герцена, которые были бы иными, если бы жизнь писателя протекала иным образом, становятся в "Былом и думах" элементами художественной типизации»123.
Вместе с тем необходимо учитывать и то, что «Былое и думы» принято рассматривать как произведение в художественном смысле маргинальное, поскольку А.И.Герцен отказался от использования в нем художественного вымысла. Один из крупнейших литературных критиков и историков литературы первой русской эмиграции К.В.Мочульский в своей статье «Кризис воображения (Роман и биография)» отмечал: «Фантазия как будто исчерпывает понятие творчества. Потому все литературные жанры, в которых воображение не играет господствующей роли, оттесняются, как второстепенные. Это — литература не "высокая": не широкая дорога, а отдельная дорожка. В учебниках истории литературы XIX века о них не упоминается вовсе. Я говорю о биографиях, мемуарах, письмах, дневниках, исторических записках, путешествиях, публицистике и научно-художественных произведениях. Элемент воображения первенствует, "память" из искусства изгоняется в науку: там ей место»124. Вместе с тем «роман-фикция», занимавший лидирующее положение в литературе, находится, по словам исследователя, в состоянии кризиса (статья Мо-чульского была написана в 1927 году), и этот кризис связан с тем, что «послевоенное поколение» (вступившее в жизнь после Первой мировой войны, — к нему относится и Солженицын, родившийся в 1918 году) «к вымыслу относится подозрительно, как к материалу недоброкачественному. Верит только испытанной фирме — действительности»125. Налицо, таким образом, «кризис воображения»126. «Отсюда, — по мнению исследователя, — повышенный интерес к истории и постепенная перестройка исторических жанров в литературные <...>»127. В связи с этим особые надежды Мочульский связывал с жанром худозісестветіпой биографии, автор которой «соблюдает объективность, ничего явно не выдумывает», но его герои «качественно» (художественно) не отличаются «от героев "фикций", например Жюльена Сореля или Пьера Безухого128 <...>»129. Дело в том, что «они незаметно перенесены в другую плоскость — не просто показаны, а построены. Получается цельность, единство и законченность»130, и все это характерно именно для художественного произведения.
Вместе с тем, говоря о жанре художественной биографии, Мочульский отмечал: «<...> средний уровень этого жанра еще крайне низок. <...> Но сісудость талантов вовсе не свидетельствует о том, что самый жанр плох. Плохих жанров нет, — утверждал исследователь, — есть плохие писатели. <...> Конечно, Моруа — не Бальзак, и "Ариэль" не стоит на уровне "Человеческой комедии". Но ведь новый жанр еще в процессе становления. Он еще ждет своего Бальзака»131, — подчеркивал Мочульский.
Предсказание исследователя о грядущем расцвете жанра художественной биографии сбылось лишь отчасти. Несмотря на большую популярность этой жанровой формы в XX веке, в художественной литературе она не стала доминирующей. Однако, говоря о «кризисе воображения», Мочульский верно уловил одну из важнейших тенденций века — утрату доверия к вымыслу, его аксиологическую девальвацию.
По словам исследователя, «Достоевский канонизировал криминальный бульварный роман: захудалого пасынка литературы вывел в люди» . То же можно сказать и о Солженицыне, авторе «Красного Колеса»: художественно-документальный жанр, казалось бы находящийся на периферии «большой» литературы, под пером писателя радикально преображается, и перед читателем возникает подлинно новаторское произведение, исключительно сложное, многоплановое и глубокое. Поэтому анализ художественных особенностей эпопеи является одной из важнейших задач современного литературоведения. * * *
Говоря об отражении жизненной реальности в художественной структуре эпопеи «Красное Колесо», необходимо учитывать сложность и неразрывность категорий формы и содержания в любом художественном произведении. При этом, как отмечает В.В.Кожинов, «специфичность соотношения формы и содержания в искусстве и литературе» состоит в том, что «необходимейшее условие бытия художественного произведения — органическое соответствие, гармония формы и содержания; произведение, не обладающее такой гармонией, в той или иной мере теряет в своей худоэюественпости — основном качестве искусства»133. Именно поэтому столь важен вопрос об адекватности художественному замыслу писателя формального воплощения этого замысла. Для художественного произведения весьма нежелательно ни одностороннее «выпячивание» содержания, «недовопло-щенного» в сфере художественной формы, ни столь же односторонний, абстрактный и самодовлеющий культ формы, оторванной от естественного и органичного содержательно-формального единства134.
Создавая эпопею «Красное Колесо», Солженицын ясно и отчетливо осознавал обе эти опасности. Так, например. Говоря о своих пьесах, написанных «в лагере, потом в ссылке», писатель замечал: «Уверенный, что главное в творчестве — правда и жизненный опыт, я недооценил, что формы подверлсены старению, вкусы XX века резко меняются и не могут быть оставлены автором в пренебрежении»135. В дальнейшем Солженицын стал относиться к проблеме художественной формы с особым, неослабевающим вниманием. Однако при этом писатель убежден: «<...> художник не должен выдумывать форму, но материал диктует нам её. Для такого огромного повествования как быть с формой? Если применить обыкновенную повествовательную манеру, это будет очень не плотно, это будет долго <...>. Сами события очень концентрируются, и сами события властно требуют менять <...> виды повествования»137. Вместе с тем утверждение писателя о том, что сам жизненный материал требует использования каждой конкретной художественной формы, очевидно, не вполне корректно, поскольку сфера поэтики не может быть прямо и непосредственно связана с внехудожественной жизненной реальностью. Точнее было бы говорить о теме, фабуле, конфликте, характерах, обстоятельствах — то есть о тех аспектах содержания произведения , которые, в соответствии с художественно-документальным творческим методом Солженицына, тесно связаны, а отчасти и предопределены исходным жизненным материалом и которые, в свою очередь, «диктуют» необходимость использования той или иной художественной формы, так как стремление к гармоническому единству формы и содержания является эстетическим credo писателя.
В то же время Солженицын подчеркивает, что исходный жизненный материал обязательно должен быть подвергнут эстетической обработке. Так, писатель стремится к концентрации, художественному «уплотнению» изображаемого. Автор «Красного Колеса» подчеркивает: «Я считаю первой характеристикой всякого литературного произведения — его плотность, художественную плотность, плотность содержания, мысли, чувств»139. В связи с этим, очевидно, отнюдь не случайным является, в частности, и использование «Узлов» как композиционного приема.
Вместе с тем столь важный для творческого метода Солженицына принцип художественной концентрации действительности ле- жит в основе искусства как такового. По словам А.Ф.Лосева, «искусство усложняет и модифицирует первично ощущаемое им бытие, сгущает его, желая его оформить и преобразовать»140.
При этом Солженицын считает, что новая жизненная реальность, возникшая в XX веке, неизбежно требует и новых форм для ее адекватного художественного воссоздания: «<...> после Толстого и Достоевского вырыта в русской истории бездна. Мы пришли в Двадцатый век — в условия жизни как бы другой планеты. Сознание нашего народа сотрясено до такой степени, что всякие линии связи с Девятнадцатым веком и параллели с Девятнадцатым веком становятся трудными, их очень осторожно надо проводить. <...> Я очень предан традиции русской литературы XIX века, — замечает автор «Красного Колеса». — Однако в обстановке этого нового мира и мы должны иначе себя вести и иначе писать»141. Именно поэтому Солженицын столь часто и охотно использует в тексте эпопеи элементы нереалистической художественной структуры (подробнее об этом см. в первой главе диссертации). Таким образом, историзм мышления писателя распространяется и на сферу поэтики.
В то же время документализм «Красного Колеса» отнюдь не приводит к постоянному и художественно избыточному цитированию исторических документов в тексте эпопеи. Солженицын почти всегда идет по принципиально иному пути. Он «растворяет» данные, почерпнутые из документов, в художественной ткани произведения. Не случайно отмечал: «Исторические документы — упоительны, можно бы цитировать и цитировать обильно, но нет: это и развалило бы повествование, и увело бы от наилучшего их использования: держа в руках достоверное сообщение, протокол или запись важного телеграфного разговора — сосредоточиться и увидеть: аз чего документ родился у его составителей? какие тут были скрыты обстоятельства, расчёты? Кто послал телеграмму — что он чувствовал? и что почувствовал, подумал тот, кто принял её? даже особенно в тот момент, когда пропускал телеграфно-буквенную ленту сквозь пальцы — и готовясь тут же ответить?»142 Об этом же пишет и М.А.Шнеерсон. По словам ис- следовательницы, «так заполняет художник лакуны документа, и недосказанные в нем чувства начинают пульсировать, обнаруживается их подлинная суть»144.
Очевидно, что художественная природа солженицынской эпопеи не позволяет писателю слишком обильно воспроизводить исторические документы, побуждая его использовать эти тексты для художественного воссоздания сложнейшей психологической обстановки, в которой они рождались. Так, отказываясь от исторической иллюстративности, Солженицын идет по пути эстетического усложнения всего формально-содержательного комплекса произведения, создавая художественно многомерный мир, в котором живут и действуют персона-леи тетралогии. * * *
Формы отражения жизненной реальности в эпопее «Красное Колесо» исключительно сложны и многообразны, поэтому, очевидно, их анализ в принципе не может претендовать на полноту и «завершенность». Поэтому в качестве объекта исследования взяты три важнейших аспекта художественной формы эпопеи «Красное Колесо» — полифоническая композиция, онтологическая символика и лексическое «расширение». Исследование именно этих, внешне разноплановых элементов художественной структуры данного произведения важно, в частности, и потому, что оно позволяет проследить скрытую взаимосвязь между ними и выявить единство художественного замысла «Красного Колеса».
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка использованной литературы.
В первой главе («Полифония») дан анализ полифонической композиционной структуры «Красного Колеса».
Во второй главе («Онтологическая символика») рассматриваются основные онтологически и символически значимые мотивы этого произведения.
В третьей главе («Лексическое раситрение») анализируются «необычная» лексика солженицынской эпопеи.
В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследования и формулируются научные выводы.
Список использованной литературы состоит из двух разделов {«Источники» и «Критическая, мемуарная и научная литература») и содержит 444 библиографические единицы.
ПРИМЕЧАНИЯ 1 Солженицын А.И. Красное Колесо: Повествованье в отмеренных сроках: В Ют. — М.: Воешздат, 1993. — Т.2. — С.544. 2 Там же. — 1993. — Т.4. — С.584. — Здесь и далее при цитировании текстов писателя сохраняются все особенности его индивидуально-авторской орфографии и пунктуации. В частно сти, А.И.Сопженицын настаивает на сохранении буквы «ё» (см.: Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. — Ярославль: Верхняя Волга, 1997. — Т.З. — С.524-527). 3 См.: Залыгин СП., Золотусский И.П. "Природа единственна и не революционна": Диа лог // Лит. газ. — M., 1992. — 28 окт. — № 14. — С.5. 4 Штурман Д.М. Городу и миру: О публицистике А.И.Солженицына. — Париж; Нью- Йорк: Третья волна, 1988.— С.414. 5 Волкогонов Д.А. Ленин: Политический портрет: В 2 кн. — M.: Новости, 1994. — Кн.1. — С.23. 6 Имеется в виду «Август Четырнадцатого». — П.С. 7 Струве Н.А. Православие и культура. — М.: Христианское изд-во, 1992. — С.273. 8 Там же. — С.297. 9 См.: Рутыч Н.Н. Военная интеллигенция в творчестве Солженицына// Рутыч Н.Н. Дум ская монархия. — СПб.: Logos, 1993. — С. 76-84; Рутыч Н.Н. Исторические взгляды Солженицы на: К выходу романа "Август Четырнадцатого"// Посев. — Frankfurt а/М., 1971. — №8. — С.57- 59; Рутыч Н.Н. Новая тотальная стратегия: По страницам кн. А.Солженицына "Ленин в Цюрихе" // Рутыч Н.Н. Думская монархия. — С.96-109; Рутыч Н.Н. О "Лешше в Цюрихе" // Посев. — 1976. — № 8. — С.38-45; Рутыч Н.Н. От Воротынцева к Столыпину // Рутыч Н.Н. Думская монархия. — С. 68-75; Рутыч Н.Н. Страх перед Воротынцевым?: По поводу критики романа Солжеішцьша "Ав густ Четырнадцатого" // Посев. —1972. — № 6. — С.46-49. 10 Солженицын А.И. Публицистика. — Т.З. — С.454. 11 См.: Бугров Б.С. Парадоксы непредсказуемого прошлого// Лит. газ. — М., 1998. — 15апр.—№15. —С.12. 12 Страда В. "Феномен Солженицына" и новая Россия // Там же. — 1992. — 8 янв. — № 2. — С.4. 13 Здесь и далее все графические выделения в цитатах принадлежат авторам цитируемых текстов. — П.С. 14 Кублановский ЮМ. Образ императрицы в "Красном Колесе" А.Солженицына // Вести. РХД. — Париж; Нью-Йорк; М., 1988. — № 154. — С.153. 15 Солженицын А.И. Красное Колесо. —1993. — Т.1. — С.5. 16 В данном случае имеет смысл подчеркнуть весьма существенное различие между поня тиями демократический и демократичный. Российская монархия, очевидно, не может быть назва на демократической, поскольку данный политический строй относится к авторитарному типу, однако то, что монархию безусловно поддерживало более 80% тогдашнего населения страны, по зволяет считать этот строй демократичным, так как он опирался на политическую волю подав ляющего большинства народа. 17 См.: Солженицын А.И. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания // Новый міф. — М., 1999. — № 2. — С.67- 68. 18 См.: Солженицын А.И. Публицистика. — 1995. — Т.1. — С.494-495; Т.З. — С.321-322. 19 См.: Эйдельман Н.Я. "Революция сверху" в России. — М.: Книга, 1989. —171 с. 20 Бунин И.А. Брань// Бунин И.А. Собрание сочинений: В8т. — М.: Моск. рабочий, 1995.—Т.4. —С.282. 21 Там же. 22 Солженицын А.И. Публицистика. — Т. 1. — С.571. 23 Солженицын А.И. Россия в обвале. — М.: Рус. путь, 1998. — С.184. 24 Кормилов СИ. СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич // Современный словарь-справоч ник по литературе / Сост. и науч. ред. С.И.Кормшюв. — М.: Олимп: ACT, 1999. — С.495. 25 Солжешщын А.И. Публицистика. — Т.З. — С.456. 26 Там же. — С.208. 27 Струве Н.А. Православие и культура.— С.274. 23 Там же. — С.295. 29 Историческая. — П.С. 30 Струве Н.А. Православие и культура. — С.297. 31 Ржевский Л.Д. Творец и подвиг: Очерки по творчеству Александра Солженицына. — Frankfurt а/М.: Посев, 1972. — С.125-140. 32 Плетнев Р.В. А.И.Солженицьш.— 2-е изд., доп. — Paris: YMCA-Press, [1973]. — С.142-161. 33 Шнеерсон М.А. Александр Солженицын: Очерки творчества. — Frankfurt а/М.: Посев, 1984. —297 с. 34 Мешков Ю.А. Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время. — Екатерин бург: Диамаїгг, 1993. — 98, [2] с. 35 К тому времени. — П.С. 36 Шнеерсон М.А. Александр Солжешщын: Очерки творчества. — С. 13. 37 Мешков Ю.А. Александр Солженицьш: Личность. Творчество. Время.— С.91. 38 Нива Ж. Солженицын. — М.: Худож. лит., 1992. — С.50. 39 Хализев В.Е. Теория литературы. — М.: Высш. шк., 1999. — С.51. 40 Там же. 41 Нива Ж. Возвращение в Европу: Статьи о рус. лит. / Пер. с фр. Е.Э.Ляминой. — М.: Высш. шк., 1999. — С.228. 42 Солженицын А.И. Публицистика. — 1996.— Т.2. — С.420. 43 Шмеман А., прот. Зрячая любовь // Вестн. РСХД. — Париж; Нью-Йорк, 1971. — № 100. — С. 146. 44 Там же. —С. 142-143. 45 Там же. —С. 142. 46 См.: Там же. 47 Лосев Л.В. Поэзия и правда у Солженицына // Лит. обозрение. — М., 1999. — № 1. — С.31. 48 Клеофастова Т.В. Художественный космос эпопеи Александра Солженицына "Красное Колесо" / Киевский гос. лингв, ун-т. — Киев: Collegium, 1999. — С. 176. 49 Там же. —С. 148. 50 Штурман Д.М. Остановимо ли Красное Колесо?: Размышления публициста над заклю чительными Узлами эпопеи А.Солженицына // Новый мир. — М., 1993. — № 2. — С. 146. 51 «Красного Колеса». — П.С. 52 Штурман Д.М. Остановимо ли Красное Колесо? — С. 147-148. 53 Хализев В.Е. Теория литературы. — С. 105. 54 Цит. по: Синявский А.Д. Солженицын как устроитель нового единомыслия // Терц А. (Синявский А.Д.). Путешествие на Черную речку и другие произведения. — М.: Захаров, 1999. — С.ЗЗЗ. 55 Там же. — С.328. 56 См.: Воздвиженский В.Г. Солжешщьш? Который? // Огонек. — М., 1993. — № 48. — С.29. 57 Там же. 58 Любимов Б.Н. Март семнадцатого в "Марте Семнадцатого" // Любимов Б.Н. Действо и действие. —М.: Шк. "Языки рус. культуры", 1997. —Т.1. —С.387. 59 Урманов А.В. Своеобразие художественной концепции мира А.Солженицына: (К спо рам о методе писателя) // "Матрёнин двор" А.И.Солжешщына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст: Сб. науч. тр. / Под ред. А.В.Урманова. — Благовещенск: Изд-во БГГГУ, 1999. —С.17. 60 Можаев Б.А. Пустоплясы // Лит. газ. — М., 1992. —15 июля. — № 29. — С.З. 61 Елисеев Н.Л. "Август Четырнадцатого" Александра Солженицына сквозь разные стек ла // Звезда. — СПб., 1994. — № 6. — С. 148. 62 Дедков И.А. Любить? Негшвидеть? Что еще?..: Александр Солженицын: от "Августа Четырнадцатого" — к "Марту Семнадцатого" // Свободная мысль. — М., 1991. — № 13. — С.34. 63 См., напр.: Воздвиженский В.Г. Солженицьпг? Который?// Огонек. — М., 1993. — № 47. — С.4-6; № 48. — С.28-30. 64 Волгин И.Л. Возвращение билета: Александр Солженицын как плюралист // Лит. газ. — М., 1995. —13 дек. — № 50. — С.6. 65 Там же. С6 Аверинцев С.С. Мы и забыли, что такие люди бывают// Общая газ. — М., 1998. — 10/16 дек.— №49. — С.8. 67 Там же. 68 Год Солженицына: Анкета "ЛГ'7 В.Максимов, Вл.Новиков// Лит. газ. — М., 1991. — 20марта.—№ П. —СЮ. 69 Имеется в виду «Август Четырнадцатого». — П.С. 70 Якобсон P.O. Заметки об "Августе Четьірігадцатого"/ Пер. с англ. Т.Т.Давыдовой// Лит. обозрение. — М., 1999. — № 1. — С.19. 71 Лосев Л.В. Солжеіпіцьшские евреи// "А.И.Солженицын и его творчество", конф. (Нью-Йорк; 1988). — Париж; Нью-Йорк: Третья волна, 1988. — С.71.
Следует указать на весьма распространенную ошибку, которую воспроизводит и Р.Темпест. Слово «Колесо» в названии эпопеи Солженицын всегда пишет с прописной (проверено по наиболее авторитетным парижским и московским изданиям сочинений писателя). — П.С. 73 Темпест Р. Герой как свидетель: Мифолоэтика Александра Солженицына // Звезда. — СПб., 1993. — № 10. — С. 188. 74 См., напр.: СолженицынА.И. Публицистика. — Т.2. — С.446-448. 75 Паламарчук П.Г. Второе действие "Красного Колеса": Эпопея Солженицына окончена. Колесо катится дальше // Лит. Россия. — М., 1991. — 4 окт. — № 40. — С. 12. 76 Юдин В.А. Исторический роман русского зарубежья: Учеб. пособие. — Тверь, 1995. — С.115. 77 Там же. —С. 108. 78 Имеется в виду «Октябрь Шестнадцатого», второй «Узел» «Красного Колеса». — П.С. 79 Чалмаев В.А. Александр Солжегащын: Жизнь и творчество: Кн. для учащихся. — М.: Просвещеігие, 1994. — С.222. 80 Солженицын А.И. Публицистика. — Т.З. — С.298. 81 Паламарчук П.Г. Александр Солжеішцьш: Путеводитель II Паламарчук П.Г. Москва или Третій Рим?: Восемнадцать очерков о русской истории и словесности. — М.: Современник, 1991. —С.341. 82 Солженицын А.И. Красное Колесо. —1993. —Т.4. — С.584. 83 См.: Паламарчук П.Г. Александр Солженицын: Путеводитель. — С.341. 84 Голубков М.М. А.И.Солженицьш // История русской литературы XX века (20-90-е го ды). Основные имена / МГУ им. М.В.Ломоносова; Филол. фак. — М., 1998. — С.446-447. 85 Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. — С.541. — См. также с. 13. 86 См.: Авессаломова Г.С. Натурализм// Литературный энциклопедический словарь. — М.: Сов. энщпслопедия, 1987. — С.237. 87 Там же. 88 См.: Тураев СВ., Фохт У. Натурализм // Словарь литературоведческих терминов. — М.: Просвещение, 1974. — С.234. 89 Год Солженицына: Анкета "ЛГ7 В.Максимов, Вл.Новиков// Лит. газ. — М., 1991. — 20 марта. — № 11. — СЮ. 90 Солженицын А.И. Публицистика. — Т. 1. — С.7-8. 91 Там же. — С.8. 92 См.: Николаев П.А. "Он в высшей степени стильный писатель" / Беседу вел П.Е.Спи- ваковский // Филол. науки. — М., 1999. — № 6. — С.122-124. 93 Солженицын А.И. Публицистика. — Т. 1. — С.8. 94 Так в тексте А.Н.Архангельского. — П.С. 95 АрхангельскийА.Н. Поэзия и правда// СолженицынА.И. [Избранное]. — М.: Мол. гвардия, 1991. — С.21-22. 96 Там же. — С.22. 97 Хализев В.Е. Теория литературы. — С.94. 98 Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. — М.: Радуга, 1983. — С.358. 99 См.: Якобсон P.O. О художественном реализме // Якобсон P.O. Работы по поэтике. — М.: Прогресс, 1987. — С.387-393. 100 Аристотель. Поэтика/ Пер. с древнегреч. М.Л.Гаспарова// Аристотель. Сочине ния: В 4 т. — М.: Мысль, 1984. — С.655. 101 Лотман Ю.М. Вігутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. — М.: Языки рус. культуры, 1996. — С.318,320. 102 Там же. — С.ЗЗО. 103 Там же. 104 Солженицын А.И. Публицистика. — Т.З. — С. 198. 105 Речь идет о Боге. — П.С. 106 Солженицын А.И. Публицистика. — Т.З. — С.325. 107 Там же. — СЗОЗ. 108 Там же. — С.194. 109 Там же.— Т.2. — С.432. 110 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. — С.323. 1,1 Там же. — С.321. 112 Там же. 113 То есть последовательно, а не ретроспективно. — П.С 114 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. — С.324-325. 115 Солженицын А.И. Красное Колесо. — 1997. — Т. 10. — С.559. 116 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. — С.325. 1.7 Солженицын А.И. Публицистика. — Т.З. — С.297. 1.8 Там же. — С.451. 119 Там же. — С.326. 120 Там же. — Т.2. — С.426. 121 Там же.— Т.З. — С.256. 122 Струве Н.А. Православие и культура. — С.297. 123 Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике // Ю.М.Лотман и тартуско-москов- ская семиотическая школа. — М.: Гнозис, 1994. — С.52. 124 Мочульский К.В. Кризис воображения: (Роман и биография) // Звено. — Париж, 1927. — 1авг. —№2. —С.78. 125 Там же. — С.79. ,2в Там же. — С78. 127 Там же. —С.79. 128 Так в тексте Мочульского. — П.С. 129 Мочульский К.В. Кризис воображения. — С.81. 130 Там же. 131 Там же. — С.80-81. 132 Там же. — С.77. 133 Кожинов В.В. Форма и содержание // Литературный энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1987. — С.471. 134 См.: Кормгагов СИ. Содержание и форма // Современный словарь-справочник по ли тературе / Сост. и науч. ред. С.И.Кормилов. — М.: Олимп: ACT, 1999. — С.489-490. 135 Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки лит. жизни. — М.: Согласие, 1996. — С.17. 136 Речь идет о «Красном Колесе». — П.С. 137 Солженицын А.И. Публицистика. — Т.2. — С.433. 133 См.: Кожинов В.В. Форма и содержание // Литератургалй зішиклопедический словарь. — М: Сов. энциклопедия, 1987. — С.471. 139 Солженицын А.И. Публицистика. — Т.2. — С.421. 140 Лосев А.Ф. Строение художественного мироощущения // Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. — М.: Мысль, 1995. — С.301. 141 Солженицын А.И. Публицистика. — Т.З. — С.288. 142 Солженицын А.И. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания// Но вый мир. — М., 1999. —№ 2. — С.81-82. 143 Имеется в виду автор «Красного Колеса». — П.С. 144 Шнеерсон М.А. Документальная правда и художественный вымысел: (Из ігаблюдений над "Красным Колесом" А.Солженицына) // Стрелец. — Париж; Нью-Йорк, 1987. — № 1. — С.2
Постановка проблемы
Полифония (от греческого nokbq — многочисленный и рв щ — звук, голос) — это один из видов многоголосия. Данный музыкальный термин был переосмыслен и введен в литературоведческий обиход М.М.Бахтиным в его книге «Проблемы творчества Достоевского» /1929/. Понятие полифонии в интерпретации Бахтина связано с выявлением нового жанра — полифонического романа и необычного художественного мышления, которое предполагает особую позицию автора по отношению к своим героям и утверждает их «самостоятельность», внутреннюю свободу и неподвластность окончательной и завершающей авторской оценке. При этом слово героя (и его мировоззрение) оказывается столь же полновесно и авторитетно для читателя, как и авторское слово и мировоззрение. Полифоническая композиционная структура предполагает равноправное взаимодействие голосов персонажей и голоса автора. Согласно научной концепции Бахтина, в полифонических романах Достоевского все эти голоса находятся в состоянии принципиально бесконечного конфликтно-диалогического взаимодействия, а объектом художественного изображения становится сложнейшее столкновение индивидуальных сознаний персонажей.
Солженицына полифония интересует давно. Так, еще 23 июня 1967 года в 25 номере журнала «Посев» было напечатано интервью, в котором писатель, в частности, указал на то, что считает наиболее интересным жанром «полифонический роман, точно определённый во времени и пространстве. Без главного героя». По словам Солженицына, «автор романа с главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему». При этом полифонизм писатель определил так: «Каждое лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не даст предпочтения. ... Однако ему нельзя терять почву под ногами»2. В 1984 году в беседе с Н.А.Струве А.И.Солженицын подчеркнул: «Полифоничность, по мне, метод обязательный для большого повествования. Я его придерживаюсь и буду придерживаться всегда»3.
В 1970-е годы в научной литературе о Солженицыне среди исследований, посвященных поэтике его произведений, стали появляться работы о полифонии. Наиболее детально эту проблему исследовал Владислав Георгиевич Краснов, защитивший в 1974 году в Университете Вашингтона (Сиэтл, США) докторскую диссертацию на тему: «Polyphony of "The First Circle": A Study in Solzenitsyn s Affinity with Dostoevskij» («Полифония романа "В круге первом". Исследование сходства Солженицына с Достоевским»). Главы из нее печатались по-русски в виде статей, а в 1980 году Краснов выпустил монографию4, в которой дополнил материал своей диссертации анализом «Ракового корпуса» /1963-1967/ и первоначальной, однотомной, редакции «Августа Четырнадцатого» /1937, 1969-1970/ — первого «Узла» «Красного Колеса».
По мнению Краснова, и «В круге первом» /1955-1968/, и «Раковый корпус», и «Август Четырнадцатого» — полифонические романы, в художественной структуре которых исследователь находит чрезвычайно много общего с поэтикой романов Достоевского и поэтому считает возможным применить к ним бахтинскую концепцию полифонического романа. Так, Солженицын, по мнению Краснова, использует в «Августе Четырнадцатого «подлинную полифонию идеологических голосов, разнообразных, ясных и фактически независимых от него самого»5, — полифонию, основанную на диалоге6. Однако, по справедливому замечанию Ж.Нива, «солженицынская полифония решительно лишена драматизма театра Достоевского, той почти равной напряженности сталкивающихся голосов, того невыносимого равновесия pro и contra, которые возникают, по-видимому, независимо от воли самого автора»7, а это означает, что описанный Бахтиным полифонический диалог, который Краснов приписывает всем трем вышеупомянутым произведениям Солженицына, в сущности, к творчеству писателя отношения не имеет. Это означает и то, что солженицынская полифония построена на каких-то иных принципах, сильно отличающихся от тех, которые описал Бахтин8.
Весьма интересные соображения о солженицынской полифонии были высказаны Жоржем Нива. Французский исследователь считает, что, в отличие от Достоевского, «речи у Солженицына играют роль намного менее важную», а «настоящая полифония выражается у него не во внешних, а во внутренних речах»9. Ж.Нива отмечает тяготение писателя к несобственно-прямой речи: « ... постоянное впечатление, будто это не автор говорит, размышляет, иронизирует, возмущается, а кто-то из персонажей. ... эта неизменная окрашенность "устной речью" может быть определена как полифонический сказ, т.е. скрещение голосов различных рассказчиков, среди которых автор делает, конечно, свой выбор, но не в большей мере, чем автор телепередачи "с места событий", который должен немедленно выбрать между тремя или четырьмя одновременными планами»10.
Важно подчеркігуть особую значимость для поэтики Солженицына внутренней речи персонажей. Однако, если обратиться к идее Нива о «полифоническом сказе», то, очевидно, сказ никак не может быть основой солженицынской полифонии, поскольку писатель использует этот тип повествования лишь при изображении «простонародных» персонажей (в «Красном Колесе» это Арсений Благодарёв, Терентий Чернега, Козьма Гвоздев, Тимофей Кирпичников и другие), а они в эпопее Солженицына сравнительно немногочисленны.
Проблема полифонии в творчестве Солженицына современным литературоведением до сих пор не решена. Данная глава посвящена раскрытию основных особенностей полифонии в эпопее «Красное Колесо». Именно в этом произведении полифонизм художественного мышления Солженицына проявился наиболее последовательно, ярко и полно. При этом необходимо учитывать, что поэтика «Красного Колеса» весьма необычна. По словам В.М.Живова, это произведение «получает структуру, совершенно отличную от традиционного реалистического романа», а «формальная новизна» солженицынской эпопеи до сих пор продолжает «приводить в смятение критиков»11. Средства сценарной драматургии («экран»), монтажи газетных материалов12, главы, состоящие из фрагментов (каждый в несколько строк), смелое языковое новаторство (подробнее об этом см. ниже, в третьей главе диссертации) и многие другие черты модернистской поэтики13 соседствуют здесь с такими элементами художественной структуры, которые заставляют вспомнить о поэтике постмодернизма. Например, как будет показано ниже в данной главе, единый образ автора в этом произведении подвергается своего рода деконструкции, которая, однако, далеко не тождественна постмодернистской деконструкции. К тому же Согокеницын весьма далек как от концепции «смерти автора», так и от релятивистской аксиологии, характерной для постмодернизма. Не случайна и резкая критика последнего14. Однако, при глубочайшем различии между автором «Красного Колеса» и постмодернистами, все же очевидна и их некоторая типологическая близость в сфере поэтики. Деконструкция единого образа автора, частое использование монтажного стыка, коллажа и ряда других приемов, конечно, не превращают Солженицына в «постмодерниста», но еще раз демонстрируют, что в конце XX века некоторые идеи носятся в воздухе, и вместе с тем окончательно разрушают легенду о писателе-«архаисте».
Анализ нарративной структуры
Имплицитный автор, или абстрактный автор, — это образ автора, не воплощенный в художественном тексте в виде персонажа-рассказчика. Этот образ возникает лишь в сознании читателя. В то же время имплицитный автор — это повествовательная инстанция, которая по представлениям нарратологии вместе с соответствующей ей парной коммуникативной инстанцией, имплицитным читателем (то есть образом «идеального» читателя, правильно понимающего все авторские интенции), обеспечивает художественную коммуникацию всего произведения в целом19. Для того чтобы отчетливее представить систему повествовательных уровней, лучше всего воспользоваться схемой.
С нарратологической точки зрения повествовательные уровни «вложены» друг в друга, наподобие матрешек. Персонажей {акторы), действуя в изображаемом мире, создают событийный ряд {историю — в нарратологическом смысле). Показывающий {фокализа-тор), изображая этот событийный ряд под тем или иным углом зрения, создает материал для повествования {рассказа — в нарратологическом смысле), которое и осуществляет повествователь {иарра-тор), причем в рамки повествования (рассказа) включается не только речь повествователя, но и речь персонажей (с нарратологической точки зрения повествователь цитирует их дискурсы). И наконец, организует все элементы повествования имплицитный автор, от которого они и зависят (с точки зрения читателя).
В процессе художественной коммуникации на каждом из повествовательных уровней участвуют как отправитель, так и получатель сообщения: показывающему {фокализатору) соответствует имплицитный зритель; повествователю {нарратору) — слушатель {нар-рататор); а имплицитному автору, как уже говорилось выше, — имплицитный читатель2. В то же время, как известно, имплицитный автор в разных произведениях одного и того же писателя может быть различным . По словам Бахтина, «всё, что стало образом в произведении ... , является созданным, а не создающим. "Образ автора", если понимать под ним автора-творца, является contradictio in adjecto; всякий образ — нечто всегда созданное, а не создающее»22, — подчеркивал ученый. Таким образом, повествовательные инстанции реального автора {автора-творца) и имплицитного автора оказываются четко разграниченными. Первый является реальным создателем художественного текста, второй — лишь созданием, образом в самом тексте. А следовательно, как и любой другой образ, он находится во власти автора-творца и может быть преобразован в соответствии с художественными намерениями последнего. Как замечает А.Ю.Большакова, возражения Бахтина против термина «образ автора» «часто основаны на неприятии смешения реальной биографической личности автора и специфического литературного образа — но это неприятие сближает Бахтина с Виноградовым .. . »".
В связи с этим заслуживают внимания слова В.В.Виноградова из его письма 1927 года к Н.М.Виноградовой-Малышевой: «Я поглощен мыслями об образе писателя. Он сквозит в художественном произведении всегда. В ткани слов, в приемах изображения ощущается его лик. Это — не лицо "реального" житейского Толстого, Достоевского, Гоголя. Это — своеобразный "актерский" лик писателя»24. В книге «О языке художественной литературы» Виноградов подчеркивал, что «"образ автора" открывается во внутренней связи всех элементов повествования»25. Очевидно, что Виноградов писал как раз о той повествовательной инстанции, которая в современной нарратоло-гии обозначается термином «имплицитный автор».
Как правило, в литературном произведении имплицитный автор один и он, соответственно, «отвечает» за все произведение в целом, однако Солженицын подвергает единый имплицитный образ автора своего рода деконструкции и, используя эту повествовательную инстанцию в качестве нарративной маски, максимально удаляет имплицитного автора от своей собственной точки зрения. В главах, посвященных одному персонажу, имплицитный автор и повествователь (нарратор) совпадают по точке зрения в плане идеологии, психологии и, частично, фразеологии26 с изображаемым персонажем. Сам Солженицын говорит об этом следующее: « ... для меня главный герой тот, кому посвящена данная глава, и я должен строить всю главу полностью в его психологии27, и стараясь передать его правоту28. Больше того, я свой язык — не прямую речь, а свой авторский язык — строю так, чтобы он был верным фоном именно этому герою, именно в этой главе29. И вот у меня столько точек зрения в романе, сколько героев»30. Результатом такого авторского «слияния» с точкой зрения героя (но только в пределах главы, посвященной данному персонажу) оказывается читательское ощущение, что автор чрезвычайно близок именно этому герою. Такой повествовательный прием был использован Солженицыным еще в рассказе «Один день Ивана Денисовича» /1959/, но там имплицитный автор был един и максимально приближен по точке зрения в плане идеологии, психологии и, частично, фразеологии к Шухову. Еще в 1963 году Ф.Ф.Кузнецов отмечал: «Автор как бы перевоплощается в своего героя и ведет повествование от его имени, его языком, создавая уже этим — интонациями и красками на-родной речи — законченный, четко очерченный характер» . Затем, в 1965 году Т.Г.Винокур дала развернутый анализ этого нарративного феномена.
Постановка проблемы
Предметом исследования в данной главе является содержательная функция художественной формы на примере онтологической символики. Как уже отмечалось выше, эпопея «Красное Колесо» буквально переполнена онтологической символикой, которая является одним из важнейших приемов отражения жизненной реальности в данном произведении.
Символ (от греческого оицроХюу — злак, опознавательная примета) — это универсальная эстетическая категория, близкая к категориям художественного образа, с одной стороны, и знака и аллегории — с другой. По словам С.С.Аверинцева, символ «есть знак, наделенный всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа. ... Переходя в символ, образ становится "прозрачным"; смысл "просвечивает" сквозь него, будучи дан именно как смысловая глубина, смысловая перспектива»1. Иначе говоря, содержательная наполненность этой художественной формы весьма велика.
А.Ф.Лосев подчеркивал, что «всякий символ, во-первых, есть живое отражение действительности, во-вторых, он подвергается той или иной мыслительной обработке, и, в-третьих, он становится острейшим орудием переделывания самой действительности»2. В литературном произведении символ является средством художественного отражения и в то же время трансформации первичной, внехудожест-венной реальности, позволяющим по-новому взглянуть на изображаемое, увидеть в нем множество дополнительых смыслов. Принципиальная многозначность символа, отличающая его от знака и аллегории, предполагает, в свою очередь, и пробуждение встречной активности читателя, одной из задач которого оказывается выявление всей этой, иногда далеко не очевидной полисемантичности.
Вместе с тем, по мысли Аверинцева, «сама структура символа направлена на то, чтобы дать через каждое частное явление целостный образ мира»3. Иначе говоря, скрытый онтологизм имманентен самой природе символа. Поэтому онтологическая символика, прямо связанная с художественно-интеллектуальным осмыслением осново-пологающих начал бытия, является лишь наиболее ярким воплощением этой изначальной тенденции.
Об особом интересе Солженицына к онтологической символике как одной из важнейших форм отражения жизненной реальности уже говорилось выше, во введении и первой главе данной диссертации. Писатель, остро ощущающий глубинный символизм первичной, вне-художественной реальности, конечно же, не мог не отразить эту важнейшую особенность собственного мировидения и в своем литературном творчестве, что проявилось, в частности, и в эпопее «Красное Колесо».
В связи с этим заслуживают внимания слова А.Н.Архангельского, который говоря об этом произведении, замечает: « ... сквозная "знаковость" бытия, через которую нам дано въяве зреть предначертания Божественного промысла, уже не может быть подвергнута сомнению. ... вот факты, попробуйте в них усомниться»4, — так формулирует критик позицию самого Солженицына. И с этим невозможно не согласиться.
Вместе с тем в литературе о «Красном Колесе» онтологическая символика, являющаяся одним из важнейших элементов художественной структуры этого произведения, практически почти не исследована. Неизученным остается и вопрос о соотношении этой разновидности поэтики эпопеи с первичной, внехудожественной жизненной реальностью. Так, например, можно обратиться к тексту монографии Н.М.Щедриной «Проблемы поэтики исторического романа русского зарубежья (М.Адданов, В.Максимов, А.Солженицын)» (большую часть этой книги занимает анализ тетралогии «Красное Колесо», причем исследовательница считает данное произведение историческим романом): один из раделов данной монографии посвящен рассмотрению мотивной структуры солженицынской эпопеи5, однако вопросы о религиозно-онтологическом осмыслении выделяемых в этой работе мотивов и об их соотнесении с первичной, внехудожественной жизненной реальностью в книге Щедриной не ставятся.
Разумеется, объем данной диссертации не позволяет рассмотреть все онтологически значимые символы в тексте эпопеи. Поэтому в качестве объекта для изучения выбраны лишь те из них, которые являются наиболее репрезентативными для художественной системы «Красного Колеса» и дают наиболее адекватное представление о специфике символического отражения жизненной реальности в этом произведении.
Среди важнейших онтологически значимых мотивов «Красного Колеса» особо выделяются символические образы Вавилонской башни и мирового колодца, появляющиеся в «Августе Четырнадцатого», первом «Узле» эпопеи. В 59-62 главах солженицынской тетралогии читатель оказывается свидетелем резкого идеологического столкновения между четырьмя персонажами. С одной стороны, это две пламенные сторонницы революции, Адалия Мартыновна Ленартович и ее сестра Агнесса, а с другой — их юная племянница Вероника со своей подругой Ликоней. Обе девушки, находясь под сильным влиянием модернистских веяний своей эпохи, проявляют возмутительное, с точки зрения тети Адалии и тети Агнессы, равнодушие к идеалам общественной борьбы и революционного террора. Но особое негодование сестер Ленартович вызывает Ликоня, «сгусток отравы этого времени ... — играющая шалью, ломкой талией, натолканная символистическим вздором, то в роли апатичной, то в роли мистичной, то как бы призрачной до умирания. То и дело она декламировала, кстати и некстати, своих модных, туманный бред:
Созидающий башню — сорвётся, Будет страшен стремительный лёт, И на дне мирового колодца Он безумье своё проклянёт»6.
Имплицитный автор 59 главы «Августа Четырнадцатого», откуда заимствована данная цитата, выражает идеологическую, психологическую и, частично, фразеологическую (языковую) точку зрения тети Адалии, ничего не понимающей ни в поэзии русского модернизма, ни, в частности, в тексте прочитанной Ликоней первой строфы стихотворения Н.С.Гумилева «Выбор» /1908/, однако читателю ясно: эти стихи оказываются в высшей степени весомым ответом на пламенную революционную романтику, проповедуемую сестрами Ленартович. При этом, как справедливо отмечает В.Г.Краснов, очевидно, что в процитированных строках стихотворения «Выбор» речь идет не о создании какой-либо абстрактной башни, но об одном из древнейших ар-хетипических мотивов, заимствованном из Библии — попытке соору-жения Вавилонской башни «высотою до небес» (Быт. 11:4). Именно поэтому так страшно падение с нее, в результате которого строитель окажется «на дне мирового колодца», пространственного антипода сооружавшейся башни, своего рода антибашни, направленной в толщу земли. При этом уникальная глубина «мирового колодца» указывает на столь же уникальную высопгу Вавилонской башни. В то же время неизбежность и катастрофичность падения с нее во многом предопределены словами Христа: « ... возвышающий сам себя, унижен будет ... » (Лк. 14: 11; 18: 14). Христианская интеллектуальная традиция была весьма значима для Н.С.Гумилева, и тем более она значима для А.И.Солженицына.
Постановка проблемы
Лексическое «расширение» — неотъемлемая часть стилистики «Красного Колеса» и в то же время одна из важнейших форм отражения жизненной реальности в тексте эпопеи. Это связано с тем, что смысловая значимость «необычных» слов, использованных в тексте тетралогии, весьма велика и поэтому заслуживает специального рассмотрения в качестве одного из проявлений содержательной функции художественной формы данного произведения. Кроме того, неповторимо своеобразный язык произведений Солженицына является одной из форм первичной условности, преобразующей изначальный внеху-дожественный материал в новую реальность художественного произведения.
Вместе с тем лексическое «расширение» является весьма существенной составной частью языковой реформы Солженицына. Писатель стремится обогатить современную русскую литературную речь за счет введения в нее большого количества «необычных» слов, что неизбежно обращает на себя внимание практически всех читателей его произведений. Лексика Солженицына всегда удивляет. Быть может, первое, что бросается в глаза при знакомстве с любым произведением писателя — это появление большого количества «странных» слов. Одной из первых на необычные свойства солженицынской лексики обратила внимание Т.Г.Винокур, подчеркнувшая особую значимость работы писателя над словом1. Уже тогда радикальный отход Солженицына от «общеобязательной» языковой «нормы» обратил на себя внимание. В то же время у эстетически консервативной части читательской аудитории столь очевидный разрыв с языковыми «стандартами» мог вызвать (может вызвать и ныне) непонимание, даже раздражение. Показательна в этом смысле реакция А.И.Кондратовича (в 1961 году второго заместителя главного редактора «Нового мира») на авторский машинописный текст «Одного дня Ивана Денисовича», в то время имевший название «Щ-854 (Один день одного зэка)»: «Взял Кондратович, и с первых же строк понял, что безымянный (подписана фамилия не была, тем я как бы замедлял враждебный ход событий) темный автор лагерного рассказа даже расстановки основных членов предложения толком не знает, да и слова-то пишет какие-то дикие.
Пришлось ему карандашом исчеркать первую, вторую, пятую, восьмую страницу, возвращая подлежащие, сказуемые да и атрибуты на свои места. Но рассказ оказался весь до конца неграмотный, и Конд-ратович с какой-то страницы работу эту бросил» .
Возникает вопрос: почему Кондратович, человек, вне всякого сомнения, весьма просвещенный, столь грубо ошибся? По всей видимости, причина — не столько в его индивидуальных качествах, сколько в том, что солженицынская поэтика требует особого, обостренного восприятия, освобожденного от расхожих стереотипов языковой «нормы». Так, ныне вполне очевидно, что тот порядок слов, та лексика, которые показались «дикими» второму заместителю главного редактора, необходимы. Они являются неотъемлемой частью авторского стиля, придают ему особую гибкость и динамизм, привносят уникальную, только поэтике этого писателя присущую выразительность.
Вместе с тем сама ориентация Солженицына на «расширение» возможностей лексики отнюдь не случайна. Она связана с тем, что активный словарный запас современного русского языка в настоящее время сокращается. Некоторая «компенсация» за счет заимствования иностранных (главным образом английских) слов не только не смягчает остроту проблемы, но лишь засоряет язык, привнося в него морфемы, чуждые русской речи. Если против заимствования названий технических устройств или научной терминологии возражать не приходится, то такие слова, как «уик-энд», «брифинг», «консенсус», «масс-медиа» и т.п., не только чужды русскому языку по звучанию, но и практически не вносят в него новой семантики. И особенно тревожно то, что нынешний наплыв такого рода неологизмов сопровождается стремительным сокращением синонимического богатства современной устной и письменной речи. Все это грозит крайним обеднением лексики и тотальным господством штампованного «новояза». Более того, состояние современной устной и письменной речи грозит самому существованию художественной литературы, которая в высшей степени зависима от языка и вне живого многообразия лексики существовать не может. Для России это особенно важно: русская культура литературоцентрична3, а следовательно, находится под тем большей угрозой.
Не случайно Н.Г.Комлев, говоря «об иноязычной интервенции в русскую речь, бескультурье варваризмов» и о ряде других проблем, связанных с массовым пренебрежением элементарной языковой культурой, отмечает: «Речевая бедность выражается, кроме того, в эксплуатации незначительного числа сверхчастотных слов, появление которых в текстах легко предсказуемо. А что предсказуемо, то не информативно. Напротив, обычно слова малочастотные больше привлекают внимание, вызывают больше интереса и чаще всего конкретизируют детали сообщения»4. Именно поэтому Солженицын стремится обогатить современную русскую литературную речь непривычной для читателя лексикой.
Проблема «расширения» активного словарного запаса современного рз сского литературного языка волнует Солженицына давно. Еще будучи в изгнании, писатель в 1990 году выпустил в свет «Русский словарь языкового расширения»/1947-1988/. Это итог сорокалетней работы, направленной на возрождение лексического богатства современного русского языка. «Повышенное внимание, — указывал Солженицын в предисловии, — я уделял наречиям и отглагольным существительным, ценя их энергию. Я опирался на личное звуковое чутьё5, примеряя, какие слова ещё не утратили своей доли в языке или даже обещают гибкое применение. ... В этом словарном расширении мы встречаем слова сотен новых оттенков, непривычного числа слогов и ещё никем не употреблённых рифм»6, — подчеркивал писатель.
В основе солженицынского словаря — самая разнообразная лексика, в частности заимствованная из словаря В.И.Даля, но лишь та, которая, по мнению писателя, «имеет право жить»7, способна обогатить современный русский литературный язык семантически и стилистически. Кроме того, как отмечал Солженицын, здесь использован «словарный запас других русских авторов, прошлого века и современных (желающие могут ещё много найти у них, и словарь значительно обогатится); также исторические выражения, сохраняющие свежесть; и слышанное мною самим в разных местах, — но не из штампов советского времени, а из коренной струи языка»8.
«Лучший способ обогащения языка, — замечает Солженицын, — это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств. Так и французы в начале XIX века (Ш.Нодье и др.) пришли к этому верному способу: восстанавливать старофранцузские слова, уже утерянные в XVIII веке».