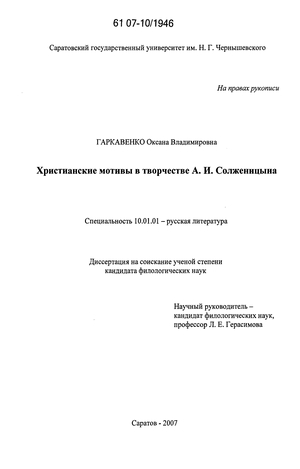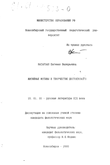Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. «Тот верный, естественный звук...» 31
1.1. Мотив покаяния в стихотворной повести «Дороженька» 31
1.2. Мотив света и тьмы в пьесе «Свет, который в тебе» 44
1.3. Мотив «памяти смертной» в повести «Раковый корпус» 60
1.4. «Архипелаг ГУ Лаг»: мотивы мученичества, христианской любви и пресечения зла 74
ГЛАВА 2. Исторические и сакральные аспекты мотива ответственности: образ Николая II в «Красном Колесе» 115
2.1. Критерии исследовательских оценок 115
2.2. Восстановление «того, что было» или «сочинённый портрет»? 124
2.3. По законам мира сего 166
Заключение 196
Список литературы 201
- Мотив покаяния в стихотворной повести «Дороженька»
- Мотив «памяти смертной» в повести «Раковый корпус»
- Критерии исследовательских оценок
- Восстановление «того, что было» или «сочинённый портрет»?
Введение к работе
В 1988 году - году, судьбоносном для русской литературы, так как именно тогда началось возвращение к русскому читателю творчества Александра Исаевича Солженицына, - Д. Штурман в завершающих главах своей книги о нем сказала: «...перед нами писатель, чей опыт и чьи мысли об этом опыте бесценны не только для его родины, но и для всего человечества» . Опыт любого человека, как известно, складывается из многих составляющих: событий его собственной жизни и событий исторических, его рефлексии по поводу этих событий. На основе пережитого опыта формируется мировоззрение. Для человека верующего - а Солженицын позиционирует себя православным христианином -важнейшим фактором мировоззрения, во многом определяющим и все остальное, являются его религиозные убеждения.
Оговоримся сразу: Д. Штурман, говоря о бесценности опыта Солженицына для всего человечества, имела в виду, конечно, его опыт художника и мыслителя, а не какой-либо иной. Присоединяясь к этой оценке его творчества, отметим, что собственно религиозный опыт даже великого писателя не может быть абсолютизирован подобным образом: в православии такой статус подобает только духовному опыту апостолов, отцов церкви, святых. Но Солженицын, разумеется, и не претендует на роль религиозного проповедника. Он художник, в силу чего его мировоззрение выражается не декларативно, а в образной форме. И в этом своем качестве оно может являться объектом филологического изучения и быть описано в литературоведческих категориях.
Внимание к религиозно-художественному дискурсу Солженицына проявлялось почти с первых его публикаций. По понятным причинам, для исследователей на родине эта сторона его творчества была закрыта. За
1 *"*
Штурман Д. Городу и миру: О публицистике А. И. Солженицына. - Париж-Нью-Иорк: Третья волна, 1988. - С. 423.
границей одним из первых отметил духовный уровень солженицынской прозы видный деятель культуры первой волны эмиграции архиепископ Сан-Францисский Иоанн (в миру - Д. А. Шаховской). Владыка Иоанн писал в статьях, публиковавшихся в газете «Русская мысль» весной и осенью 1974 г.: «Русский реализм Солженицына может быть понят по-настоящему только друзьями правды последней. Этот реализм экзистенциален, т. е. существенно непартиен, и не только в отношении какой-либо единой партии. Непартийность этого реализма - в понимании и осуществлении человека в его последней правде»2. По Шаховскому, «правда последняя» - это приближение к Солнцу Правды3. Напомним, что на языке православного богослужения Солнцем Правды именуется Христос. (Подробнее размышления Шаховского о творчестве Солженицына будут представлены в разделе об «Архипелаге ГУ Лаге»).
С начала 1970-х гг. многократно выступал со статьями о Солженицыне известный французский славист русского происхождения Н. А. Струве. Его работы о Солженицыне, а также других русских писателях и поэтах собраны в книгу «Православие и культура»4, название которой, конечно, не случайно: это «определение темы в традиции русского религиозно-философского возрождения» начала XX века, как справедливо отмечает во вступительной статье Н. Позднякова5. Среди статей, посвященных литературе, «солженицынский» блок занимает особое место, что обусловлено и масштабом творчества писателя, и его многолетними связями как с издательством «Имка-Пресс», возглавляемым Н. А. Струве, так и с журналом «Вестник РХД», который редактирует он же: «...на протяжении многих лет - в том числе самых тяжелых для
2 Иоанн, архиепископ Сан-Францисский (Шаховской). Русский реализм // Иоанн,
архиепископ Сан-Францисский (Шаховской). К истории русской интеллигенции.
(Революция Толстого). - М: Лепта-Пресс, 2003. - С. 491.
3 Там же. С. 493.
4 Струве Н. А. Православие и культура. - М: Христианское изд-во, 1992. - 337 с.
5 Позднякова Н. Узкий путь немногих: Размышления об особой позиции Никиты Струве //
Струве Н. А. Православие и культура. М.: Христианское изд-во, 1992. - С. 3.
писателя - «Вестник» регулярно публиковал произведения Солженицына, различные материалы в его поддержку»6. В сборник «Православие и культура» вошли работы Н. А. Струве, посвященные «Архипелагу ГУЛагу», «Красному Колесу», публицистике Солженицына. Исследователь отмечает, что творчество Солженицына зиждется на православной основе. (Контекстом такой оценки является полемика Н. А. Струве с целым рядом антисолженицынских публикаций. Струве пишет: «И даже идеологическое противление Солженицыну, обыкновенно слева, пронизано психологическим отталкиванием от России и от религии, на которых зиждется все его творчество»7). В статьях и выступлениях Н. А. Струве Солженицын вписывается в контекст мировой культуры как православный писатель; вместе с тем исследователь ставит принципиально важные методологические вопросы о соотношении религиозного и художественного осмысления жизни, о судьбах «пророческого» искусства.
Одной из первых монографий, специально посвященных рассмотрению христианского дискурса писателя, стала книга исследовательницы из русского зарубежья Т. Лопухиной-Родзянко «Духовные основы творчества Солженицына», вышедшая в 1974 г. в «Посеве». Автор рассматривает образы солженицынских праведников в христианской парадигме, анализирует воплощение в прозе писателя тайны бытия: претворения зла в добро через страдание, отмечает интертекстуальные связи прозы Солженицына с Достоевским. Кроме того, это, по-видимому, до сегодняшнего дня единственная работа о Солженицыне, где рассмотрены образы животных в его произведениях, причем рассмотрены они в контексте библейских сюжетов и житийной литературы. В работе Лопухиной-Родзянко содержатся тонкие наблюдения о взаимоотношениях лучших солженицынских героев с
6 Там же. С. 5.
7 Струве Н. А. «Солженицынский комплекс» // Струве Н. А. Православие и культура. М.:
Христианское изд-во, 1992. - С. 73.
«братьями меньшими» и сделан правомерный вывод: «Такое отношение человека к животным есть <...> возрождение старого христианского идеала, который нашел свое выражение в древнерусской иконописи и архитектуре храмов»8.
В книге Т. Лопухиной-Родзянко есть и спорные положения, возникающие порой из-за увлеченности исследовательницы прежде всего нравственной проблематикой произведений Солженицына. Так, восхищаясь нелицеприятным отношением автора к своим героям, она пишет: «Принадлежность к какой-то одной религии не составляет преимущества одного героя перед другим. Вообще исповедание какой бы то ни было религии играет очень незначительную роль у Солженицына. Вероисповеданием отмечен только Алёша-баптист. Но баптизм его стоит рядом с его именем как некая кличка»9. Наблюдениям над конкретными текстами («Один день Ивана Денисовича» и «В круге первом») придается чрезмерно расширительное значение, искажающее, на наш взгляд, позицию А. И. Солженицына.
Этапной в литературоведческом осмыслении творчества Солженицына стала монография швейцарского слависта Ж. Нива (вышла на французском языке в 1980 г., в русском переводе в 1984-м, лондонское издательство OPI; широкому читателю в нашей стране стала доступна в 1992 г.). Монография Ж. Нива ставит множество проблем: книга дала толчок размышлениям, дискуссиям, исследованиям. Швейцарский литературовед берет и метафизический аспект, который он рассматривает в характеросложении, в сюжетах солженицынских произведений. Однако в его осмыслении творчества Солженицына есть, на наш взгляд, и спорные моменты, к чему мы еще вернемся. Исследователь считает Солженицына религиозным писателем, постоянно подчеркивает: «Космическое чувство Творения, изначально прекрасного во всем,
Лопухина-Родзянко Т. Духовные основы творчества Солженицына. - Frankfurt am Main: Possev-verlag, 1974. - С. 49. 9 Там же. С. 23.
чувство той красоты, о которой говорит Книга Бытия, напитывает кульминационные эпизоды в любом произведении Солженицына. Мир -это поистине «нерукотворенный» образ»10. Сосредоточившись на соотношении ветхозаветного и новозаветного начал в религиозном мышлении Солженицына, Ж. Нива спровоцировал многочисленные попытки разных исследователей увидеть источник противоречий в художественном творчестве писателя именно в столкновении двух религиозных парадигм. «Христа, по всей видимости, в его творчестве нет, - пишет Нива и продолжает: - Что это? «Зияние», которое мы обнаруживаем у гностиков, или же целомудренная стыдливость, столь очевидная у великих христиан, анафемствующих современность, таких, как Бернанос или Блуа?»11. Исследование религиозной основы творчества А. И. Солженицына Ж. Нива продолжил в последующих своих работах. Есть у него статья и о литургичности в различных произведениях писателя12.
В 1991 г. вышла книга П. Г. Паламарчука «Александр Солженицын: Путеводитель» (ранее, в 1988-89 гг, как только в Советском Союзе стало возможно упоминание имени Солженицына, она печаталась в периодических изданиях). Это работа преимущественно описательного характера, что вовсе не является ее недостатком: по условиям времени, когда на читателей в нашей стране обрушился поток солженицынских публикаций, такой путеводитель был, безусловно, необходим. Все произведения Солженицына исследователь рассматривает с последовательно православной точки зрения.
На протяжении 1990-х и в начале 2000-х гг. появилось немало работ и других отечественных исследователей, авторы которых касались метафизических аспектов солженицынского творчества. Событием в
0 Нива Ж. Солженицын / Пер. с фр. С. Маркиша в сотрудничестве с автором; предисл. И. Виноградова. - М.: Худож. лит., 1992. - С. 94.
11 Там же. С. 94-95.
12 Нива Ж. От одной глыбы к другой // Вестник РХД. - 1988. - № 154. - С. 131-136.
13 Паламарчук П. Г. Александр Солженицын: Путеводитель. -М.: Столица, 1991. -96 с.
отечественном солженицыноведении стала вышедшая в 1998 г. монография П. Е. Спиваковского «Феномен Солженицына». Исследователь отмечает «вертикальность» солженицынского художественного мира как одну из важнейших его характеристик: «Солженицын <...> открывает нам радикально иное <по отношению к позитивистскому. - О. Г> восприятие жизни, где каждый человек, независимо от того, сознает он это или нет, постоянно находится в ситуации «вертикального» выбора между Богом и диаволом»14. П. Е. Спиваковский дал своей работе подзаголовок: «Новый взгляд». Новизна взгляда связана прежде всего с попыткой рассмотреть творчество Солженицына в свете христианских ценностей: уяснить роль онтологической символики в творчестве писателя, понять соотношение полифоничности и телеологического представления об истории в «Красном Колесе», вычленить христианскую аксиологию в рассказах 90-х годов. Результаты исследования П. Е. Спиваковского убеждают как в плодотворности избранного им направления, так и в необходимости развивать его тематически и методологически.
В шеститомной монографии М. М. Дунаева «Православие и русская культура» (конец 1990-х - начало 2000-х гг.), где предпринята попытка системного осмысления всей истории русской литературы через православие, Солженицыну отведена глава. Исследователь отмечает: «Бытие Солженицына в русской культуре не может быть осознано вне действия Промысла Божия. Разумеется, и во всякой жизни действует промыслительная воля Творца, но Солженицын не просто был ведом этой волею, но сумел сознательно ей следовать. Это и дало ему силы выдержать тягчайшие испытания, и малой доли которых было бы достаточно, чтобы сломить натуру, не опирающуюся на подлинность
14 Спиваковский П. Е. Феномен Солженицына: новый взгляд: (К 80-летию со дня рождения) / ИНИОН РАН -М., 1998.-С. 11.
веры . Это наблюдение справедливо, однако не со всеми мнениями Дунаева, на наш взгляд, можно согласиться.
Если П. Е. Спиваковский стремится прежде всего обнаружить метафизическое измерение во всех произведениях Солженицына - от рассказов до эпопеи, увидеть взаимодействие социальных, политических, личных человеческих усилий и Божией Воли в историческом повествовании, то М. М. Дунаев соотносит тексты писателя с текстами Священного Писания, со святоотеческой литературой и делает выводы о мере православности Солженицына. В современных исследованиях о Солженицыне мы видим реализацию, а чаще редукцию и того, и другого направления исследования, что актуализирует, на наш взгляд, проблемы литературоведческой методологии.
В 2003 г. вышла монография А. В. Урманова «Творчество Александра Солженицына». Как отмечает автор этого исследования, созданный Солженицыным художественный мир «не может быть понят и объяснён только под углом зрения социально-политической актуальности. Мировоззренческо-эстетический идеал Солженицына устремлен к гармонической упорядоченности всего сущего. Главная желанная цель писателя - преодоление разрывающего мир релятивистского ценностного хаоса, восстановление гармонии человека с мирозданием, возвращение человека и человечества к Богу»16. Принимая этот посыл А. В. Урманова, принимая ряд ценных аналитических наблюдений и суждений, содержащихся в его монографии, мы не можем согласиться с некоторыми его суждениями о христианской проблематике «Архипелага ГУЛага», о чем речь пойдет в параграфе, посвященном этому произведению.
В изданной в 2005 г. в Дубне монографии С. В. Шешуновой «Национальный образ мира в эпопее А. И. Солженицына «Красное
15 Дунаев М. М. Православие и русская литература: В 6 ч. - М.: Христианская литература, -
2000: - Ч. 6. - С. 280.
16 Урманов А. В. Творчество Александра Солженицына: Учебное пособие. - М: Флинта:
Наука, 2003. - С. 340.
Колесо» значительное место уделено исследованию христианских мотивов. Рассматриваются функции православного календаря в художественном времени эпопеи. Как показывает исследовательница, «лейтмотивы «Красного Колеса» <...> образуют систему образов, порожденную тем же мировосприятием, что и легенда о граде Китеже или древнерусская икона»17. В эпопее Солженицына находит отражение национальный образ мира, в значительной степени укорененный в тысячелетней христианской традиции.
Монография и статьи С. В. Шешуновой ценны, на наш взгляд, глубоким анализом христианских мотивов у Солженицына, символов Креста и Колеса, утверждением христоцентричности «Красного Колеса» в полемике со сторонниками Ж. Нива, утверждавшего: «Христа, по всей видимости, в его творчестве нет». Очень интересны выходы исследовательницы в смежные с литературоведением сферы, в частности, в сферу иконографии, ее вывод: «Богатство иконографических ассоциаций делает солженицынский образ Христа одним из наиболее глубоких и семантически насыщенных литературных изображений Спасителя»18.
Современные исследователи стремятся выявить христианскую основу мировоззрения и творчества А. И. Солженицына средствами как имманентного, так и сопоставительного, интертекстуального анализа. В монографии Л. Е. Герасимовой «Этюды о Солженицыне» (2007 г.) творчество писателя рассматривается в различных культурных контекстах XX века: от начала - «планетарное сознание» в понимании В. И. Вернадского и А. И. Солженицына - до конца: сопоставление с историософией Ю. М. Лотмана, с метафизикой И. Бродского. Анализируя эстетические и метафизические расхождения Солженицына и И. Бродского, Л. Е. Герасимова отмечает: «Солженицын понимает
17 Шешунова С. В. Национальный образ мира в эпопее А. И. Солженицына «Красное
Колесо». - Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна»,
2005.-С. 111.
18 Там же. С. 105.
достоинство как неуклонное личное сопротивление злу - внешнему и внутреннему - на всех его уровнях: от политического («Одно слово правды весь мир перетянет») до метафизического и эстетического <...>. Уверенность Солженицына в результативности такого сопротивления далека от всякого утопизма. В ее основе лежит <...> внутреннее знание о том, что смерть и зло уже побеждены Воскресением Христовым и что в свете Его Преображения устремленность к преображению человека и мира становится не только возможностью, но жизненной задачей каждого. Избегая прямых высказываний на религиозные темы <...>, Солженицын стремится мыслить последовательно христиански»19.
Далеко не все исследователи, обращающиеся к религиозному дискурсу Солженицына, согласны с тем, что Солженицын - христианский писатель. Выше приводилось мнение на этот счет Ж. Нива. Л. Лосев считает парадоксальным обстоятельством, что «у православного, вовлеченного в проблемы своей церкви, знающего ее историю Солженицына в творчестве религиозная тема почти отсутствует»20. Недостаточную (по его мнению) обращенность к христианской тематике обнаруживает в произведениях писателя и М. М. Дунаев: «Солженицын часто все и замыкает на нравственности, на душевном. <...> Необходимо
обращаться к человеку на духовном уровне» .
Христианские мотивы в разных произведениях писателя изучены с различной степенью полноты. Наиболее часто в этом плане рассматривается рассказ «Матрёнин двор», что связано, вероятно, и с тем обстоятельством, что с 1991 г. он включен в школьную программу. Неоднократно становился объектом исследовательского внимания роман
«В круге первом», которому посвящена монография Е. В. Белопольской ,
Герасимова Л. Е. Этюды о Солженицыне. - Саратов: Новый ветер, 2007. - С. 118-119.
20 Лосев Л. Солженицын и Бродский как соседи // Звезда. - 2000. - № 5. - С. 97.
21 Дунаев М. М. Православие и русская литература: В 6 ч. - М. -2000: - Ч. 6. - С. 347-348.
Белопольская Е. В. Роман А. И. Солженицына «В круге первом»: Опыт интерпретации /
Рост. гос. ун-т. -Ростов-н./Д.: Изд-во массовых коммуникаций, 1997. -165 с.
а также небольшая, но очень содержательная статья А. С. Немзера
«Рождество и Воскресение»23.
Новизна и актуальность диссертационной работы видятся в том, что после всего уже сделанного исследователями остается необходимость целостного осмысления христианского мировоззрения и поэтики Солженицына. Осмысление религиозно-художественного дискурса писателя порождает ряд проблем методологического плана. Поэтому актуальность работы связана и с ее методологией.
Приблизительно с середины 1990-х гг. среди литературоведов ведется дискуссия о возможностях осмысления произведений русской литературы в православной парадигме как одном из методов адекватного постижения их смысла. Одним из первых поставил вопрос о правомерности такого осмысления И. А. Есаулов в своей монографии «Категория соборности в русской литературе». «Нужно признать, - отмечает исследователь, - что современная история русской литературы базируется в значительной степени на наследии революционных демократов с их материалистической идеологией и аксиологией. Это наследие включает в себя и почти ритуальное дистанцирование от православной христианской основы русской культуры. Современные отечественные литературоведы, следующие этой традиции, склонны не рефлексировать - в пределах какой именно аксиологии они находятся, а потому зачастую полагают, что они занимают безоценочную, истинно научную объективную позицию. Тогда как даже в современной физике, как показывают работы, например, Вернера Гейзенберга, полученный результат описания той или иной системы зависит от позиции по отношению к этой системе исследователя, а также от его собственной системы координат»24. В 2004 г. И. А. Есаулов выпустил книгу
23 Немзер А. С. Рождество и Воскресение: О романе Александра Солженицына «В круге первом» // Лит. обозрение. -1990. - № 6. - С. 31-37.
Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. - Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1995. - С. 7.
«Пасхальность русской словесности» , где продолжил свои исследования русской литературы в том же русле.
Возможности и издержки «религиозной филологии» стали предметом многочисленных дискуссий, «круглых столов», статей. В дискуссии «Гуманитарная мысль: светская или религиозная?» на страницах журнала «Знамя» ставится вопрос: «...могут ли исследования, основанные на религиозном мировосприятии ученого (литературоведа, философа, историка etc.) - что, безусловно, влияет на понимание изучаемых явлений и их связи между собою - и учитывающие мировосприятие изучаемого автора, претендовать на статус науки? С точки зрения их оппонентов, настаивающих на редуцировании всякой религиозной проблематики как фактора субъективного, находящегося вне рациональной сферы и потому к науке не имеющего отношения, безусловно, нет» . В дискуссии приняли участие видные литературоведы, философы, культурологи. Одна из участниц, И. Б. Роднянская, отметила: «Не существует «науки» вообще, есть разные науки с разными методологиями. Еще Дильтей вполне резонно их разделил на «науки о природе» и «науки о духе», с очевидной разницей в подходах. И наряду с науками существует «сциентизм» - философия, утверждающая достоверность и ценность только знаний, верифицируемых опытно-рациональным путем. Но сциентизм не есть собственно наука, а лишь одна из философских систем, базирующаяся на столь же зыбких и недоказуемых основаниях, как и многие другие. <...> Ни гуманитарная, ни философская мысль, ни вообще осмысление каких бы то ни было явлений и положений не бывает совершенно беспредпосылочным. В основе всякого рассуждения лежат аксиомы, не предполагающие доказательств для того, кто эти аксиомы разделяет. В этом отношении теист, деист, пантеист и т. д. ничем не отличаются от сциентиста, позитивиста и пр. <...> Еще в марксистские времена всех нас, пытавшихся самостоятельно мыслить, запугивали
25 Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности- М.: Кругъ, 2004. - 560 с. 6 Гуманитарная мысль: светская или религиозная? / М. Гаспаров, С. Зенкин, В. Непомнящий, Б Парамонов, А. Ретблат, И. Роднянская // Знамя. - 2000. - № 7. - С. 189.
«субъективизмом». Это особенно смешно нынче, когда даже в «науках о природе» общепризнано, что установка исследователя и инструмент исследования не только неизбежно влияют на полученный результат, но, так сказать, законно входят в его состав»27. Приведя примеры того, как недостаточное знание христианского вероучения даже филологов -профессионалов высокого класса порой приводит к курьезным суждениям, И. Б. Роднянская далее остроумно замечает, что у исследователя, постигающего творчество верующего писателя «не совсем извне» «меньше опасности вляпаться в какие-нибудь «чудовищные» интерпретации и больше шансов остаться на почве «научного», то есть адекватного тексту, анализа»28. Наряду с крайностями позитивистского мышления, обозначенными И. А. Есауловым и И. Б. Роднянской, существует другая крайность: когда религиозный подход делается единственным критерием оценки художественного текста. Сам термин «религиозная филология» появился впервые в статье С. Г. Бочарова, явившейся, в свою очередь, откликом на статьи Т. А. Касаткиной «О литературоведении, научности и религиозном мышлении» и «После литературоведения». Этот термин содержит в себе отрицательные коннотации, что в контексте данной полемики, на наш взгляд, оправдано. Бочаров пишет: «Пионеры религиозной филологии <...> только еще приступают к <...> работе самообоснования; начала ее уверенно намечены в двух программных статьях Т. А. Касаткиной, в которых прежде всего констатируется несовместимость религиозной и научной картин мира как в целом, так и, следовательно, соответствующих пониманий художественной картины мира. <...> На свою религиозную позицию личную филолог ссылается как на теоретический аргумент, в конечном счете решающий; она возводится в концептуальное отличие, а если прямо сказать -в концептуальное превосходство. Согласимся, что это новое слово в
Там же. С. 196-197. Там же. С. 199.
литературной теории, учреждающее новую общность филологов-
посвященных на демонстративно ненаучном основании» .
Л. Е. Герасимова, напоминая о том, что «духовный критерий открывает в произведении или даже во всем творчестве писателя незримые при других подходах пласты», отмечает, что недопустимо и игнорирование эстетического критерия: «Забвение эстетической природы текста, даже недостаточное внимание к ней может стать причиной обедненного духовного восприятия. Таких примеров много. Интерпретатор прямо сопоставляет художественный текст с системой православной догматики, отмечает у писателя ошибку за ошибкой, выставляет ему невысокую оценку. При этом не различается, кому принадлежит высказывание - персонажу или автору, как перекрывается в композиции романа одна позиция персонажа другой, не слышится «оговорочное» (М. Бахтин) романное слово. В значительной мере так написана глава об А. И. Солженицыне в VI томе труда М. М. Дунаева «Православие и русская литература». Рассматривая роман «В круге первом», исследователь противопоставляет репликам персонажей евангельские цитаты, суждения святых отцов - персонажи (дворник Спиридон, Володин, Нержин), естественно, посрамлены; но ведь позиции героев меняются в развитии событий, авторское повествование не дает абсолютизировать какую-либо одну точку зрения»30.
Как курьез отметим и пример, когда благочестивый исследователь, также не различающий позицию писателя и героев, перетолковывает образ в смысле прямо противоположном авторскому, но уже «вчитывая» автору православное наполнение этого образа. В. Юдин в статье о «Красном Колесе» пишет: «А. Солженицыну импонируют те офицеры русской армии, что доблестно сражаются в бою, но стоят в своей нравственной позиции как
Бочаров С. Г. О религиозной филологии // Литературоведение как проблема: Труды Научного совета «Наука о литературе в контексте наук о культуре». Памяти Александра Викторовича Михайлова посвящается. - М: Наследие, 2001. - С.483.
Герасимова Л. Е. О соотношении духовного и эстетического критериев в оценке художественного произведения // Православие в контексте истории, культуры и общества: Сб. науч. трудов / Под ред. И. А. Дорошина. - Саратов: Летослов, 2005. - С. 213-214,216.
бы над войной, презирая и отвергая ее жестокий прагматизм, исповедуя православные императивы. Именно поэтому А. Солженицын - в традициях Л. Толстого - фиксирует свое внимание не на лихих «орлах», срывающих блеск ратной славы, а, к примеру, на созерцательно-безынициативном Благовещенском, исповедующем толстовскую теорию евангелического смирения и любви к ближнему. Традиции «Войны и мира» Л. Толстого явственно ощутимы на военных страницах «Августа Четырнадцатого»31. Традиции Толстого и полемика с этими традициями в батальной прозе Солженицына - отдельный большой вопрос, которого мы не касаемся; отметим лишь, что В. Юдин, во-первых, слишком поспешно сблизил «православные императивы» и «толстовскую теорию» и, во-вторых, проигнорировал то обстоятельство, что изображение Благовещенского Солженицыным насквозь иронично: «Генерал Благовещеский читал у Льва Толстого о Кутузове и сам в 60 лет при седине, полноте, малоподвижности чувствовал себя именно Кутузовым, только с обоими зрячими глазами» . Для писателя Благовещенский - однозначно отрицательный персонаж, один из виновников самсоновской катастрофы.
Интересно рассмотрены возможности и издержки христианского осмысления искусства в работе Л. В. Жаравиной «Проблема религиозности писателя в методологическом аспекте». Исследовательница отмечает: «К наиболее расхожим характеристикам литературы как искусства слова относятся определения в антропологической парадигме: «человековедение», «человекознание», «ключ к познанию личности» и т. п. Между тем один из уроков трагического XX столетия заключается в осознании относительности принципа Протагора, в понимании того, что человек в силу слабости и греховности натуры не может быть «мерой вещей». А это значит, что рано или поздно, в той или иной форме, но обязательно встанет вопрос об Абсолюте, т. е. о высшем измерении творчества, к которому относится
31 Юдин В. Величие и трагедия русского народа: О «Красном Колесе» А. И. Солженицына
//Москва. - 1998. - № 11. -С. 137.
32 Солженицын А. И. Красное Колесо: В 10 т. Т. 2. - М: Воениздат, 1993-2000. - С. 36.
религиозное измерение. С религиозной точки зрения основой креативности является заложенная в человеке способность к бесконечному поиску истины, надындивидуальной и априорной. Именно поэтому объяснение художественного развития лишь в свете социально-исторического опыта, определившее методологию анализа литературного процесса в эпоху позитивизма и атеизма, требует корректировки»33. В то же время исследовательница призывает не забывать и о том, что «говоря о необходимости внесения серьезных корректив в позитивистски ориентированное литературоведение, не следует превращать науку о литературе, ведущую в Европе начало с Аристотеля и Платона, в один из разделов религиоведения. Опора на многовековую христианскую традицию не отменяет акцента на эстетической сущности самого искусства. Не может существовать какой-то специфической «религиозной филологии», идущей по пути проекции на литературный материал вероучительных постулатов или церковных догматов (это тоже одно из проявлений позитивизма, причем явно протестантского толка)» . Такой подход, как справедливо отмечает далее Л. В. Жаравина, во многом свойственен монографии М. М. Дунаева «Православие и русская литература»: «С одной стороны, подобная позиция лишает искусство самодостаточности, а с другой - ведет к омирщению самой религиозности, к «эстетическому перетолкованию православия» (Флоровский), т. е. к религиозному модернизму. Более того, с последовательно выдержанной богословской точки зрения, даже самое добросовестное переложение евангельского постулата посредством художественного слова будет содержать элемент апокрифичности, подобно тому, как является апокрифом - по сравнению с иконой - любая картина на библейский сюжет. <...> Другое дело, что искусство, будучи от мира сего, в отличие от религиозного опыта, имеет свои границы. Есть сферы - особенно
Жаравина Л. В. Проблема религиозности писателя в методологическом аспекте // Литература и культура в контексте Христианства: Материалы международной научной конференции / Под ред. А. А. Дырдина. - Ульяновск: Ул ГТУ, 2005. - С. 17. 4 Там же.
в познании и описании трансцендентной реальности - недоступные художнику» . Последнее положение кажется нам особенно важным при рассмотрении образов и мотивов «Красного Колеса».
Круглый стол «Религиозное литературоведение: обретения и утраты», состоявшийся 16 ноября 2005 г. на кафедре истории русской литературы филологического факультета МГУ, выявил различные до полярности оценки этого направления. Председательствующий В. Б. Катаев положительно оценил «те новые возможности и преимущества, которые ведут к углублению и обогащению наших знаний о русской литературе, о взаимодействии русской литературы и христианства»37. Однако, заметил он далее, «нельзя не сказать и о том, что за эти годы накопились и основания для раздумий и даже для опасений. Увы, именно в этом, ставшем очень актуальным, если не сказать модным, направлении мы порой сталкиваемся с проявлениями не расширения, а сужения представлений о том или ином писателе, с подменой филологии теологией, с категорически однозначными утверждениями и выводами, порой с легковесными, агрессивно-невежественными утверждениями в этой области. Все это, несомненно, дискредитирует тот подход, объективное рассмотрение которого, конечно же, может очень многое нам сказать о судьбах нашей словесности» . В. А. Недзвецкий в своем докладе также отметил, что «религиозные литературоведы впервые с должной настойчивостью проакцентировали в своих исследованиях классических текстов те их семантические уровни, которые коренятся как в церковно-славянской лексике и фразеологии, так и в мотивах и образах Библии, святоотеческих и иных собственно духовных сочинений»39. Утраты же «религиозного литературоведения» он видит в попытках уложить «всю художественную русскую литературу в прокрустово
35 Там же. С. 23-24.
36 Круглый стол «Религиозное литературоведение: обретения и утраты» // Вестник
Московского университета. Серия 9: Филология, - 2006. - № 3. - С. 90-146.
37 Там же. С. 90.
38 Там же.
39 Там же. С. 91-92.
ложе <...> православной догматики» . При таком подходе в шеститомном труде М. М. Дунаева выясняется, что «среди писателей русских, пребывающих в литературе на рубеже веков и тысячелетий, наиболее последовательно и сознательно упрочил себя в Православии Владимир Николаевич Крупин»41. Мы согласны с В. А. Недзвецким в том, что такой подход, безусловно, утрата, а не обретение; вызывает несогласие лишь штамп «прокрустово ложе» применительно к православной догматике, которая ведь не виновата в том, что ее применяют не по назначению.
Н. Д. Тамарченко в своем выступлении заявил, что «религиозное направление в литературоведении на самом деле не литературоведение, а литературная критика, особого рода философская критика, и даже ее вид -религиозно-философская критика, но не наука в строгом смысле слова»42. Далее он приводит несколько разграничительных признаков. По мнению Н. Д. Тамарченко, это различные задачи и средства такой критики и литературоведения: «...задача того, что называют религиозным литературоведением, - это самовыражение и вместе с тем выражение определенной религиозной истины <...>. В литературоведении как строгой науке задача совершенно другого рода - это понимание чужой мысли, мысли автора художественного произведения, и понимание чужого слова, чужого текста. <...> В религиозном литературоведении <...> средство - это интерпретация содержания художественного произведения, минуя его форму. <...> Истина усматривается сразу, из текста приводятся примеры для выражения этой истины; то, что подходит - учитывается, что не подходит -не учитывается. Средства у литературоведения как строгой науки совершенно другие - это интерпретация содержания через форму»43. Н. Д. Тамарченко усматривает генезис этого направления «не только в литературной классической критике XIX века, но и в религиозно-
40 Там же. С. 92.
41 Дунаев М. М. Православие и русская литература. Ч. 6. С. 391.
42 Круглый стол «Религиозное литературоведение: Обретения и утраты». С. 109.
43 Там же. С. 109-110.
философской критике Серебряного века» . На наш взгляд, предшественницей того направления, о котором идет речь (разумеется, в лучших, а не худших его образцах), действительно является религиозно-философская критика начала XX века. Более того, и в XIX столетии были, например, статьи св. Игнатия Брянчанинова, других духовных лиц о Гоголе, и каждый раз опыт такого прочтения многое открывал. Однако нельзя согласиться с Н. Д. Тамарченко в его несколько пренебрежительной оценке русской религиозно-философской критики на том основании, что ее представители, например, Вяч. Иванов, не ссылались на литературу вопроса. Во-первых, это не совсем так: одни не ссылались, другие ссылались - С. Л. Франк, например, свои статьи о Пушкине снабжал сносками. Во-вторых, даже без ссылок работы лучших представителей религиозно-философской критики имеют и безусловную литературоведческую ценность: И. А. Ильин в статьях о Шмелеве не ссылался ни на кого, зато на него теперь ссылаются все пишущие о «Лете Господнем». Ни Ильина, ни Франка никак не упрекнуть в пренебрежении формой. И не важно, как называть их работы -литературоведческими или критическими: существенна адекватность интерпретации, глубина постижения текста. В. Н. Захаров, возражая Н. Д. Тамарченко, справедливо указал на неправомерность широких обобщений и относительно современных литературоведов, которых имел в виду его оппонент. Рассказав о научной работе кафедры русской литературы Петрозаводского университета, В.Н. Захаров отметил: «Та абстракция, которой оперировал Натан Давидович [Тамарченко], в нашем случае не работает: мы как раз через форму выходим на христианское содержание русской литературы»45. Кроме того, как отметил тот же исследователь, «явно преувеличена мера научности литературоведения в сравнении с критикой, все пользуются индукцией и дедукцией, неаргументированных суждений предостаточно и там, и здесь. <...> Мы не навязываем предмету изучения
"Там же. С. 110. 45 Там же. С. 135.
свои представления, а описываем объект в присущих ему категориях» . Отметив неудачность термина «религиозные литературоведы» («все остальные атеисты, что ли?»), В. Н. Захаров свое выступление завершил словами: «вряд ли кто-нибудь из тех, кого называл Валентин Александрович [Недзвецкий], выступает за запрет, скажем, атеистической интерпретации произведений русской литературы, но и запрещать изучение русской литературы в контексте тех идей и смыслов, которые она выражает, тоже неуместно»47.
Актуальной, таким образом, является и выработка методологии исследования религиозно-художественного дискурса писателя. Ощутима необходимость разработки методологии, позволяющей, оставаясь на позициях литературоведческой науки, анализировать столь важную часть мировоззрения писателя, как его религиозные воззрения и их экспликацию в художественных формах.
Чтобы удержать единство духовных и эстетических критериев, необходимо точно выбрать предмет исследования. Таким представляются нам христианские мотивы, поскольку мотив всегда есть единство содержания и формы. Не претендуя на самостоятельную теоретическую разработку понятия мотив, в качестве операционного определения мы выбираем то, которое сложилось в современном литературоведении в результате синтезирования трудов современных ученых.
Хотя музыкальный термин мотив употреблялся применительно к литературе еще И.-В. Гете и Ф. Шиллером48, все пишущие о мотиве неизменно отмечают приоритет А. Н. Веселовского, поскольку именно он дал научную дефиницию и практическую разработку данной литературоведческой категории. «Понятие мотива как простейшей повествовательной единицы было впервые теоретически обосновано в
46 Там же.
47 Там же. С. 135-136.
48 Щелкова Л. Н. Мотив // Введение в литературоведение: Литературное произведение:
Основные понятия и термины / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, С. Н. Бройтман и др. / Под
ред. Л. В. Чернец. - М.: Высш. шк.; Издательский центр «Академия», 2000. - С. 203.
«Поэтике сюжетов» А. Н. Веселовского. Его интересовала по преимуществу
повторяемость мотивов в повествовательных жанрах разных народов» . «Под мотивом я разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения», - писал Веселовский50. Он неизменно подчеркивал свойство неразложимости мотива. При этом, как отмечает современный исследователь И. В. Силантьев, «в качестве критерия неразложимости у А. Н. Веселовского выступает семантическая целостность мотива»51.
Последователь Веселовского А. Л. Бем продолжил разработку теории мотива. «Важно найти такое определение этого термина, - писал Бем, -которое давало бы возможность его выделить в любом произведении, как глубокой древности, так и современном» . А. Л. Бем дал следующее определение мотива: «Мотив - это предельная ступень художественного отвлечения от конкретного содержания произведения, закрепленная в простейшей словесной формуле»53.
Как известно, в дальнейшем В. Я. Пропп в своей работе «Морфология сказки» подверг критике то понятие мотива, которое предложил Веселовский. Но, как отмечает И. В. Силантьев, «исследователь осуществил замену критерия неразложимости мотива - и поэтому критиковал понятие мотива в такой трактовке, какой в работах А. Н. Веселовского никогда не было»54. В «Морфологии сказки» Пропп вообще отказался от понятия мотив и ввел другую единицу нарратива - «функцию действующего лица». И. В. Силантьев показывает, что в действительности введенное Проппом понятие «не только не заменило, но существенно углубило именно понятие
49 Там же.
50 Веселовский А. Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А. Н. Историческая поэтика /
Редакция, вступит, ст. и примеч. В. М. Жирмунского. - М.: ГИХЛ, 1940. - С. 500.
51 Силантьев И. В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике:
Очерк историографии. Научное издание. Новосибирск: Издательство ИДМИ, 1999. 104 с.
[Электронный ресурс] / И. В. Силантьев. Режим доступа: http: Загл. с экрана.
52 Цит. по: Щелкова Л. Я Указ. соч. С. 205.
53 Там же.
54 Силантьев И. В. Указ соч.
мотива, и именно в семантической трактовке последнего» , т. е. в трактовке Веселовского.
Б. В. Томашевский, в своей трактовке мотива близкий к Веселовскому, определял мотив через категорию темы: «Тема может быть у всего произведения, и в то же время каждая часть произведения обладает своей темой. <...> Тема неразложимой части произведения называется мотивом»56. А П. Скафтымов в своей работе «Тематическая композиция романа «Идиот» также подходил к анализу мотива через категорию темы (взятую в психологическом аспекте).
В настоящее время существуют различные понимания термина мотив. Общепризнанно центром изучения теории мотива является Новосибирск, где в 1990-2000-е гг. был выпущен целый ряд ценных научных изданий. В трудах Е. К. Ромодановской, В. И. Тюпы, И. В. Силантьева теория мотива получила фундаментальную, детальную разработку, анализ которой выходит за рамки нашей работы. В качестве операционного понятия примем определение И. В. Силантьева: «В самом первом приближении повествовательный мотив можно определить как традиционный, повторяющийся элемент фольклорного и литературного повествования» .
Наряду с трудами новосибирских ученых существуют и другие современные теории мотива. Так, Б. М. Гаспаров, автор теории мотивного анализа, определяет мотив следующим образом: «...в роли мотива в произведении может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» -событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т. д.; единственное, что определяет мотив, - это его репродукция в тексте, так что в отличие от традиционного сюжетного повествования, где заранее более или менее определено, что можно считать дискретными компонентами («персонажами» или
55 Там же.
56 Томашевский Б. ^.Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие / Вступит, ст. Н. Д.
Тамарченко. Коммент. С. Н. Бройтмана при участии Н. Д. Тамарченко. - М: Аспект-
Пресс, 1999.-С. 182.
57 Силантьев И. В. Указ. соч.
«событиями»), здесь не существует заданного «алфавита» - он формируется непосредственно в развертывании структуры и через структуру» . Адепт мотивного анализа В. П. Руднев, определяя этот метод как «разновидность постструктуралистского подхода к художественному тексту и любому семиотическому объекту», отмечает, что мотивный анализ зарождался в отталкивании от структурной поэтики Ю. М. Лотмана: «Там, где в структурной поэтике постулировалась жесткая иерархия уровней структуры текста <...>, М. а. утверждал, что никаких уровней вообще нет, мотивы пронизывают текст насквозь и структура текста напоминает вовсе не кристаллическую решетку <...>, но скорее запутанный клубок ниток»59. В. П. Руднев отмечает также среди источников мотивного анализа психоанализ 3. Фрейда: это «техника свободных ассоциаций, которую Фрейд описывает, например, в «Психопатологии обыденной жизни», его анализ обмолвок, ослышек, описок, и других ошибочных действий»60. Обозначив мотивную теорию Б. М. Гаспарова как одно из современных пониманий мотива, отметим ее непродуктивность, как нам кажется, для анализа мотивов христианских. Нам ближе то понимание мотива, которое предлагает Л. Н. Целкова: «Аналогии с музыкой, где данный термин - ключевой при анализе композиции произведения, помогают уяснить свойства мотива в литературном произведении: его вычленяемостъ из целого и повторяемость в многообразии вариаций»61, - а также В. Е. Хализев: «Мотив - это компонент произведения, обладающий повышенной значимостью (семантической насыщенностью). Он активно причастен теме и концепции (идее). Являя собой, по словам Б. Н. Путилова, «устойчивые семантические единицы», мотивы «характеризуются повышенной, можно сказать исключительной степенью семиотичности. Каждый мотив обладает устойчивым набором значений». Мотив <...> может являть собой отдельное
Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе XX века. -М: Наука, 1994. -С. 30-31.
59 Руднев В. П. Словарь культуры XX века. - М: Аграф, 1999. - С. 180.
60 Там же. С. 180-181.
61 Целкова Л. Н. Указ. соч. С. 203.
слово или словосочетание, повторяемое и варьируемое, или представать как нечто обозначаемое посредством различных лексических единиц, или <...> оставаться лишь угадываемым, ушедшим в подтекст. Прибегнув к иносказанию, правомерно утверждать, что сферу мотивов составляют звенья произведения, отмеченные внутренним, невидимым курсивом, который подобает ощутить и распознать чуткому читателю и литературоведу-аналитику»62.
При анализе христианских мотивов в художественном произведении необходимо, как нам кажется, учитывать следующие обстоятельства.
Это не чисто авторские мотивы, поскольку за ними стоят определенные христианские понятия, богословские термины, уже существующие в христианском вероучении. За многовековую историю литературы, основанной на христианских ценностях, сложился ряд устойчивых мотивов, которые тот или иной автор художественно варьирует.
Входя в пространство художественного текста и подчиняясь эстетическим его законам, богословские понятия с уровня сакрального переходят в область психологическую, бытовую, т. е. испытывают определенную редукцию. Степень этой редукции может быть различной -вплоть до потери изначального смысла в силу «затертости» того или иного мотива; тогда введение данного мотива в его первоначальном смысле может иметь и полемические цели (пример редуцированного до обессмысливания понимания христианской любви и восстановления писателем этого понятия в его христианском наполнении мы попытаемся проследить в параграфе 1.4). Сближаясь, на первый взгляд, с общечеловеческими архетипами, христианские мотивы тем не менее имеют достаточно выраженные смысловые обертоны. Например, мотив смерти, без сомнения, общечеловеческий - вспомним memento mori античности. Однако мотив «памяти смертной», в чем-то перекликаясь с названным, имеет и существенные отличия. Семантика тщетности человеческих усилий,
62Хализев В. Е.. Теория литературы: Учеб. -М: Высш. шк., 1999. - С. 266.
предостережения от чрезмерной надежды на земное могущество роднит эти мотивы. Но дальше начинаются кардинальные расхождения. Для безрелигиозного или языческого сознания актуальна неотвратимость, неизбежность распада: «Sed omnes una manet nox I Et calcanda semel via leti» («Всех ожидает одна и та же ночь, всем придется когда-нибудь вступить на смертную тропу»), - читаем в ОдеТ^ЭДГорация. В христианском же мотиве «памяти смертной» нет ощущения абсолютного конца и отчаяния перед небытием; но зато он осложняется мотивом ответственности за всё совершённое в земной жизни: «Внезапно Судия приидет, и коегождо деяния обнажатся...» (Тропарь Троичный); «Широк путь зде и угодный сласти творити, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатися будет: блюдися от сих, человече, Царствия ради Божия») (Канон покаянный).
В самом христианском вероучении определенные понятия находятся в иерархических отношениях, в силу чего далеко не каждое из них может редуцироваться до литературного мотива. Скажем, можно говорить о мотиве покаяния, но невозможно - о мотиве Причастия, хотя мотив жертвенной любви, добровольной жертвы за других в литературе правомерно присутствует.
Не претендуя на системное описание христианских мотивов, мы лишь попытались обозначить некоторые, на наш взгляд, специфические их особенности.
Мы специально не касаемся контаминации христианских и языческих элементов в литературных мотивах, христианской мифологии, инверсии и травестии христианских мотивов, поскольку все эти важные сами по себе
теоретические аспекты не актуальны для данного исследования .
Объектом исследования стали: повесть в стихах «Дороженька», пьеса «Свет, который в тебе» («Свеча на ветру»), повесть «Раковый корпус», «опыт
О соотношении фольклорных и христианских мотивов в творчестве Солженицына см.: Шешунова С. В. Национальный образ мира в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо».
художественного исследования» «Архипелаг ГУЛаг», эпопея «Красное Колесо». Для сопоставления привлекается публицистика Солженицына.
Предметом исследования являются христианские мотивы в творчестве Солженицына.
Цель работы состоит в том, чтобы выявить особенности христианского мировидения А. И. Солженицына, эксплицированные в его художественном творчестве.
Цель работы предполагает решение следующих задач:
представить систему христианских мотивов в творчестве А. И. Солженицына;
проанализировать средства поэтики в прозаических, драматических, стихотворных текстах Солженицына, передающие христианскую семантику образов;
рассмотреть особенности мировоззрения Солженицына, отразившиеся в образе Николая II в «Красном Колесе»; соотнести художественный образ Царя с историческими и богословскими источниками с целью уточнения представлений о христианском дискурсе Солженицына;
осмыслить все результаты исследования с точки зрения способов взаимодействия и границ исторического, художественного и мистического постижения жизни в творчестве Солженицына.
Методологической базой диссертационного исследования стали труды И. А. Ильина, С. Л. Франка, П. А. Флоренского, К. В. Мочульского, М. М. Бахтина, С. С. Аверинцева, а также работы И. А. Есаулова, П. Е. Спиваковского, С. В. Шешуновой, Л. В. Жаравиной, Л. Е. Герасимовой.
Методология диссертационного исследования предполагает интегрирующий анализ, учитывающий историко-литературный, мотивный, сопоставительный, интер- и интратекстуальный, стилистический аспекты изучения художественного текста.
Теоретическая значимость работы состоит в выявлении художественных форм и средств воплощения христианского мировидения А. И. Солженицына; в постановке вопроса о взаимодействии исторического, художественного и религиозного мышления писателя в «Красном Колесе».
Практическая значимость работы: результаты диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке лекционных курсов по истории литературы XX века, спецкурсов, посвященных творчеству А. И. Солженицына, спецкурса «Русская литература и православие», в работе спецсеминаров по творчеству Солженицына, по литературе русского зарубежья, в вузовском и школьном преподавании.
Положения, выносимые на защиту:
Анализ христианских мотивов в творчестве А. И. Солженицына позволяет говорить о единстве авторского мировоззрения на протяжении всего творческого пути и о его укорененности в христианской традиции.
Динамичная система христианских мотивов (покаяния, света и тьмы, памяти смертной, мученичества, христианской любви, пресечения зла, прощения и др.) эксплицирована по законам различных литературных жанров (повесть в стихах, драма, психологическая повесть, опыт художественного исследования), с применением широкого спектра средств поэтики (использование традиционных культурных символов и символизация бытовых реалий, аллегория, тончайший психологизм, интертекстуальные связи, выявление метафизической глубины документа). Поэтика Солженицына в ряде произведений, особенно в «Архипелаге ГУЛаге», приобретает «пневматологическое измерение» (Шаховской).
«Архипелаг ГУЛаг» - не только прорыв немоты политической и исторической, но и разговор о «последней ситуации человека в мире», опыт обретения по-христиански ответственного
понимания человеческой природы, опыт покаяния и веры, опыт духовной брани. В историческом и метафизическом понимании зла и путей его пресечения А. И. Солженицын глубинно связан с христианским вероучением. Авторы, критикующие Солженицына с квазихристианских позиций, на самом деле транслируют христианство либо через литературные (публицистика Л. Н. Толстого, его поздние произведения), а не через вероучительные источники, либо через свои собственные представления о том, каким христианству следует быть, -представления весьма далекие от православной догматики и святоотеческой традиции.
Противоречия солженицынского религиозно-художественного дискурса видны в изображении Николая II в «Красном Колесе». Не учитывая мистическую природу царской власти, писатель отходит от присущего ему телеологического, провиденциального понимания исторического процесса, делает шаг в сторону рационалистических представлений о ходе истории. Образ Николая II корректирует устоявшееся в солженицыноведении представление о последовательно христианском постижении истории автором «Красного Колеса».
Установленное в ходе анализа принципиальное значение мистического измерения как для исторической достоверности, так и для художественной убедительности образа Николая II выводит, на наш взгляд, к постановке вопроса о формах и границах постижения сакрального в художественных жанрах.
Материалы диссертации прошли апробацию на научной конференции «Саратовская филологическая школа на рубеже веков: итоги и перспективы» (Саратов, 2000), зональной XXVII научной конференции литературоведческих кафедр университетов и педвузов Поволжья «Проблемы изучения, и преподавания литературы в вузе и школе: XXI век»
(Саратов, 2000), республиканской научной конференции «Русский роман XX века: Духовный мир и поэтика жанра» (Саратов, 2001), Всероссийском научном семинаре «А.И. Солженицын и русская культура» (Саратов, 2002), Всероссийской научной конференции «Мир России в зеркале новейшей художественной литературы» (Саратов, 2004), II Межрегиональных Пименовских чтениях «Православие в контексте истории, культуры и общества» (Саратов, 2004), Всероссийской научной конференции «Изменяющаяся Россия - изменяющаяся литература: Художественный опыт XX - начала XXI вв.» (Саратов, 2005), Православном миссионерском форуме «Православная культура как основа духовного возрождения России» в рамках IV Межрегиональных Пименовских чтений (Саратов, 2006), Международной научной конференции, посвященной 90-летию гуманитарного образования в Саратовском университете «Изменяющаяся Россия - изменяющаяся литература: Художественный опыт XX - начала XXI веков» (Саратов, 2007).
Основные положения диссертации отражены в 9 публикациях.
Структура работы: Диссертация состоит из введения, 2 глав, заключения, списка литературы, включающего 244 наименования. Общий объем диссертации - 223 страницы.
Мотив покаяния в стихотворной повести «Дороженька»
Повесть в стихах (другое авторское жанровое определение - поэма) «Дороженька»64, видимо, самое раннее из сохранившихся произведений Солженицына. «Дороженька», по свидетельству ее создателя, была «начата в 1947 на шарашке Марфино; закончена в 1952 в Экибастузском лагере. Вся сочинена устно, в памяти, на бумаге никогда не записывались отрывки длиннее строк 20-30 и после заучивания тотчас сжигались»65. Помимо столь необычного способа создания, «Дороженька» примечательна еще и тем, что являет собою яркое подтверждение единства мировоззрения писателя на протяжении его творческого пути.
Многие персонажи стихотворной повести интратекстуально соотносятся с героями более поздних произведений разных жанров, где они появляются под другими, а иногда и под теми же самыми именами. Так, Сергей Нержин из «Дороженьки» отчетливо связан с целым рядом ротагонистов различных солженицынских произведений; персонажи эти наделены, как правило, автобиографическими чертами и жизненным опытом самого автора. Это Сергей Нержин в стихотворной комедии «Пир победителей» (1951), Андрей Холуденев из трагедии «Пленники» (1952-1953), Глеб Нержин из драмы «Республика труда» (1954) и Глеб Нержин из романа «В круге первом» (1955-1968), главный герой «Архипелага ГУЛага» (1958-1967). Но именно в «Дороженьке» предпринята первая попытка воплощения образа сквозного для солженицынского творчества автобиографического героя. Периферийные персонажи «Дороженьки» также будут неоднократно появляться под разными именами в произведениях более поздних лет. Яков Левин из «Дороженьки» и Лев Рубин в «Пленниках» и «В круге первом», крестьянин Кузьма Кулыбышев в «Дороженьке» и персонаж с тем же именем в трагедии «Пленники», генерал Грузнов в «Дороженьке» и комбриг Травкин в «опыте художественного исследования» «Архипелаг ГУЛаг» отмечены большим сходством. Можно обнаружить текстуальные совпадения в ряде эпизодов «Дороженьки» и «Архипелага ГУЛага». Эти «самоповторения» объяснимы тем обстоятельством, что, как правило, сюжеты солженицынских произведений опираются на реальные жизненные впечатления и на события, имевшие место в действительности. Черты сходства героев различных произведений обусловлены их происхождением от одних и тех же прототипов. Высказывалось мнение о том, что это обстоятельство связано с недостатком творческого воображения. Так, Ф. Искандер, высоко оценивая именно те солженицынские произведения, которые создавались на основе реальных событий, далее пишет: «А вот когда (уже годы спустя) я прочитал «Август 14-го», то, пожалуй, почувствовал некоторое разочарование. Объяснить его природу мне трудно - просто показалось, что в этой вещи, создававшейся как бы в отрыве от личного опыта, Солженицын что-то потерял как художник. Может быть, причина в том, что его огромному писательскому дару не в полной мере соответствует сила его писательского воображения?..»66 Иное объяснение этому стремлению Солженицына к «почти точному художественному воссозданию подлинной жизненной реальности» дает П. Е. Спиваковский. Исследователь связывает данную особенность писательской индивидуальности Солженицына с тем добровольным самоограничением, о котором писатель упоминает в «Нобелевской лекции», размышляя о двух типах художника: «Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира, и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него, - но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неудача - валят её на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или на непонятливость публики. Другой - знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя ещё строже его ответственность за всё написанное, нарисованное, за воспринимающие души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомненья в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него - и остро передать это людям»67. Комментируя это высказывание, П. Е. Спиваковский отмечает: «Если подлинный Мастер -лишь Сам Бог, бессмысленно пытаться создать что-то лучшее по сравнению с тем, что создал Он. Казалось бы, такое принципиальное самоограничение в сфере вымысла должно было приблизить Солженицына к эстетике натурализма, однако этого не происходит. Художественный мир Солженицына «вертикален», а следовательно, радикально отличен от сугубо «горизонтального», позитивистского мира писателей-натуралистов. Солженицын воспринимает мир вещей не как единственно существующий, но как лишь одну из частей многообразной и многоликой жизненной реальности, в которой присутствует не только физическое начало, но и метафизическое»68. В то же время исследователь отмечает такое парадоксальное свойство творчества Солженицына: ситуация, взятая «из жизни», не становится описанием отдельного факта, а обретает символическую многомерность - при точном, казалось бы, следовании эмпирической действительности. П. Е. Спиваковский в этой связи делает на материале рассказа «Матренин двор» весьма ценное в методологическом отношении наблюдение: «Для творческого метода писателя ... в высшей степени характерно сочетание документальной точности в воссоздании подлинной жизненной реальности с глубоким метафизическим ее осмыслением. Благодаря этому мистические мотивы в творчестве Солженицына обретают особую значимость и подлинно онтологическую весомость»69. А. Н. Архангельский в статье, посвященной «малой» прозе Солженицына, отмечает, что в авторских примечаниях к рассказам Солженицына в его собрании сочинений «основное внимание уделено ... не судьбе рукописей, не соотношению вариантов, но - укорененности художественного текста в жизни. Мы узнаем, где жила Матрёна, с кого и в какой степени списан тот или иной образ ... . Во всем тут просматривается четкая «линия»; и обычно бессмысленные ... раздражающие сведения о «жизненной подоснове» творчества, о прототипах, наполняются вдруг особым, непрямым смыслом. Эта постоянная апелляция к реальности ... служит у Солженицына прикрытием важнейшего, структурно значимого противоречия его прозы: между чрезмерной символической нагрузкой повествовательного пространства и - явственной установкой на «саморазвертывание действительности» .
Мотив «памяти смертной» в повести «Раковый корпус»
В предыдущем параграфе приводилась цитата из Ж. Нива, где исследователь говорил о том, что в «пьесе «Свеча на ветру» поставлены многие из проблем «Ракового корпуса». На наш взгляд, данное наблюдение справедливо: несмотря на различное жанровое воплощение, сходство проблематики этих произведений очевидно. (Вернее только, учитывая хронологию их создания, говорить о том, что в «Раковом корпусе» ставятся многие из проблем, ранее затронутых в «Свече на ветру»). Как в пьесе, так и в повести, речь идет о различных пониманиях смысла жизни, о мнимых и подлинных ценностях. Проверкой же разных и порой несовместимых аксиологических установок является напоминание о том, что любой человек, независимо от меры жизненных успехов, занимаемого положения, интеллекта, таланта и т. д., - рано или поздно неминуемо обречен умереть.
В «Свече на ветру» «темные» персонажи о смерти думают не больше, чем о религии - на слова Тербольма: «Мы так говорим о смерти, будто умирать будет кто-то другой, а не мы», Синбар раздраженно отвечает: «Мы так говорим о смерти, будто мы умираем каждый день! Земной шар - велик! Людей - три миллиарда» (VIII, 400). Умирающий Маврикий на пороге вечности осознает себя полным банкротом: «Ничтожная жизнь!.. Я жил в этом вертепе счастливых - и он меня съел» (VIII, 406). Разумеется, его опыт не заставит остальных персонажей-гедонистов пересмотреть свои жизненные приоритеты - Тилия, Филипп, Синбар и прочие будут продолжать жить так, как жили. Но в «Раковом корпусе» мы видим иное: само место действия задает такую ситуацию, в которой уйти от «последних» вопросов просто некуда.
Вопрос о смерти теснейшим образом связан с религией, с метафизическим измерением бытия. В зависимости от того, верит человек или нет, он по-разному относится к неизбежному уходу; в зависимости от конкретной религиозной традиции, которой он следует, он по-разному представляет себе посмертное существование.
В православных молитвах и богослужебных текстах достаточно часты упоминания о смерти. «Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и умиление», - говорится в одной из молитв св. Иоанна Златоуста. «Память смертная» - это напоминание человеку о бренности его земной жизни, предостережение от чрезмерного упования на свои силы. В то же время для христианина мысль о смерти не содержит в себе безысходного трагизма. «Нет нам причины унывать, ибо Христос всех спас», - говорил св. Серафим Саровский. В богословской литературе смерть нередко сравнивается с переходом в другую комнату. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века», - сказано в Символе Веры. Христианина страшит не смерть как таковая, а посмертная участь его души.
В произведениях Солженицына тема смерти, «памяти смертной», звучит нередко, что обусловлено как жизненным опытом писателя, так и его религиозным мировоззрением. В «крохотке» «Мы-то не умрём» противопоставляется отношение к смерти в православной дореволюционной России (или, шире, в любом традиционном обществе) - и в советском атеистическом социуме. Здесь же показано, как отсутствие «памяти смертной» приводит советского человека к утрате памяти исторической, к своего рода «выпадению» из истории, к нравственному одичанию. Имплицитно в тексте присутствует мысль, что это одичание связано с утратой религиозного понимания смысла жизни:
«А больше всего мы стали бояться мёртвых и смерти. Если в какой семье смерть, мы стараемся не писать туда, не ходить: что говорить о ней, о смерти, мы не знаем... ...
Когда-то на кладбищах наших по воскресеньям ходили между могил, пели светло и кадили душистым ладаном. Становилось на сердце примиренно, рубец неизбежной смерти не сдавливал его больно. Покойники словно чуть улыбались нам из-под зелёных холмиков: «Ничего!.. Ничего...»
А сейчас, если кладбище держится, то вывеска: «Владельцы могил! Во избежание штрафа убрать прошлогодний мусор!» Но чаще - закатывают их, равняют бульдозерами - под стадионы, под парки культуры.
А ещё есть такие, кто умер за отечество - ну, как тебе или мне ещё придётся. Этим церковь наша отводила прежде день - поминовение воинов, на поле брани убиенных. Англия их поминает в День Маков. Все народы отводят день такой - думать о тех, кто погиб за нас.
А за н а с-т о - за нас больше всего погибло, но дня такого у нас нет. Если на всех погибших оглядываться - кто кирпичи будет класть? В трёх войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов - пропадите, постылые, под деревянной крашеной тумбой, не мешайте нам жить! Мы-то ведь никогда не умрём!» (III, 179).
Однако утешительная формула «мы-то не умрем» действенна лишь до времени. Один из центральных персонажей «Ракового корпуса» «так ... чувствовал себя и вокруг себя, что ни предела, ни рубежа не поставлено Ефрему Подцуеву, а всегда он будет такой» (IV, 69). Узнав о болезни, Ефрем оттягивает лечение в тщетной, безумной надежде, что у него не рак. «Всей жизнью своей Поддуев был подготовлен к жизни, а не к умиранию. Этот переход был ему свыше сил, он не знал путей этого перехода - и отгонял его от себя тем, что был на ногах и каждый день, как ни в чём ни бывало, шёл на работу и слышал похвалы своей воле». Ранее сказано: «А это была не сила воли, а - упятерённый страх. Не из силы воли - из страха он держался и держался за работу, как только мог откладывая операцию» (IV, 70). Прежде нисколько не склонный к рефлексии, Ефрем в больнице задумывается о том, что существует и другое, непонятное, недоступное ему отношение к смерти: «Смолоду слышал Ефрем да и знал про себя и про товарищей, что они, молодые, росли умней своих стариков. Старики и до города за весь век не доезжали, боялись, а Ефрем в тринадцать лет уже скакал, из нагана стрелял, а к пятидесяти всю страну как бабу перещупал. Но вот сейчас, ходя по палате, он вспоминал, как умирали те старые в их местности на Каме - хоть русские, хоть татары, хоть вотяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут, - все они принимали смерть спокойно. Не только не оттягивали расчёт, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребёнок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегчённо, будто просто перебирались в другую избу» (IV, 72).
Критерии исследовательских оценок
Мистическое постижение истории автором «Красного Колеса» рассмотрено в работах Ж. Нива, М. М. Дунаева, П. Е. Спиваковского, С. В. Шешуновой, Л. Е. Герасимовой. Христианские мотивы в этом произведении неоднократно становились объектом исследовательского внимания.
В работе П. Е. Спиваковского «Символические образы в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо» рассматривается мотив псевдопасхи. Как показал исследователь, «по мысли Солженицына, революционная катастрофа 1917 г. была бы невозможна без постепенного массового забвения христианской системы ценностей. Так, мотив псевдопасхи связан ... и с ослаблением религиозной веры среди простого народа»164. Но не только исследователь прослеживает этот мотив и на материале эпизодов, изображающих ликование интеллигенции по поводу свержения самодержавия: «...пасхальное» настроение, стремительно распространившееся в интеллигентской среде, связано отнюдь не с собственно религиозными чувствами, но с псевдорелигиозным преклонением перед революцией, с попыткой «освящения» крайних форм воинствующего антропоцентризма, безбожного и кровавого»165. П. Е. Спиваковский отмечает, что «мотив псевдопасхи скрыто указывает на ... антропоцентрическую интенцию, лежащую в основе главного исторического события XX столетия - революционной катастрофы 1917 года»166.
Исследование мотива псевдопасхи продолжила С. В. Шешунова в своей монографии «Национальный образ мира в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо»: «...мотив псевдопасхи предстает у Солженицына развернутым и многогранным; он включает в себя трансформацию целого ряда традиций православного празднования Воскресения»167. Исследовательница рассматривает различные варианты этих трансформаций: псевдохристосование, псевдоразговление, мнимопасхальный колокольный звон, колонны арестованных городовых как зловещую пародию на крестный ход. С. В. Шешунова анализирует также символику Креста и иконы, их роль в повествовании.
Таким образом, можно говорить о том, что христианские мотивы в «Красном Колесе» активно исследуются современными солженицыноведами. Однако один из центральных в творчестве Солженицына и важных для христианского миропонимания мотивов - мотив ответственности, насколько нам известно, на материале этого произведения еще никем не рассматривался. В настоящей главе мы попытаемся проанализировать этот мотив применительно к образу последнего русского Царя, поскольку проблема ответственности православного самодержавного монарха имеет не только историческое, нравственное, но и сакральное измерение, и, соответственно, анализ решения этой проблемы в эпопее позволяет полнее представить христианский дискурс А. И. Солженицына.
Образ Николая II в «Красном Колесе» неоднократно привлекал внимание исследователей. В работах Е. Орловской-Бальзамо, Н. А. Струве, Ж. Нива, Ю. М. Кублановского, П. Г. Паламарчука, А. С. Немзера говорилось о неоднозначности авторского отношения к данному герою. Так, исследовательница из Франции Е. Орловская-Бальзамо в статье «Человек в истории: Солженицын и Ипполит Тэн» отмечает, что если любимые герои Солженицына, например, Воротынцев, отличаются своего рода историческим чутьем, то другие персонажи «вовсе не способны почувствовать момент и демонстрируют полную историческую недееспособность - неспособность повлиять на ход событий. Так, жизнь Николая II в «Красном Колесе» - это вереница нереализованных возможностей, предоставлявшихся человеку, который мог изменить ход истории. ... Можно сказать, что история по Солженицыну - это не предопределенный, а вероятностный процесс и движущей его силой являются люди. И если люди ошибаются или бездействуют в тот момент, когда требуется их волевое усилие, вина за последующую катастрофу лежит на них самих»168. Далее исследовательница отмечает: «Николай мог действовать, мог повлиять на ход истории. ... Многое можно было бы повернуть иначе. Причина неспособности царя исполнить свою царскую миссию - не в недостатке интеллекта, не в отсутствии личного мужества, не в недостаточной любви к своей стране, а в его исторической глухоте: Николай не чувствует пульсации времени, не различает его «узлов». ... Причиной трагедии Николая и краха его царствования оказывается смешение разных сфер жизни - личной и общей. Он их смешивает потому, что, в сущности, частная семейная жизнь - единственный центр притяжения его души, а остальное - только досадное приложение к ней. ... Начиная с момента отречения - после того, как Николай из царя делается частным лицом, - поведение его становится иным: он ведет себя в высшей степени достойно и уже не совершает промахов. Так происходит не потому, что он изменился (он остался таким же, что был, - просто теперь, оставаясь только внутри своей семьи, он живет истинно своей жизнью), - изменяется взгляд романиста. К Николаю - частному лицу Солженицын отнюдь не так строг, как к Николаю - государственному деятелю» . Это смягчение авторского взгляда в «Марте Семнадцатого» фиксирует и Струве: «По характеру, по свойствам своим слабый, нерешительный царь не должен был пленить боевого, волевого, смелого автора. Но когда наступает кенотический час императора, затерянного между Ставкой и Царским в литерном поезде, добровольно отрекающегося от трона, за что лишается и чести, и славы, и свободы, тогда Солженицын находит свои самые сгущенные, самые глубокие, самые интимные краски. И это не случайно. «Кенозис», по образу Христа, - «истощание», «уничижение», совлечение с себя всех привилегий, основной религиозно-философский пафос творчества Солженицына. Вспомним Матрену, «узкий путь», вспомним вхождение Володина в тюрьму, верховный час Самсонова в лесу перед самоубийством или, от противного, нежелание Русанова смириться, подчиниться равенству ракового корпуса... Красной нитью через все романы Солженицына проходит тема «положительного» отречения, приобретения через отдачу, заложенная от века в русскую душу почитанием Бориса и Глеба и так ярко выраженная и у Пушкина (станционный смотритель), и у Гоголя (Акакий Акакиевич), и у Достоевского (смирение - великая сила), и, ближе к нам, у Ахматовой (Все расхищено, предано, продано... Отчего же нам стало светло?). У Солженицына кенозис идет не только от русской традиции, но и от глубочайшего личного переживания. По существу, кенозис и есть христианская трагедия, в которой жертва - всегда искупление и восстановление в сущем»17 . Однако таким Государь показан только в
«Марте Семнадцатого». В первых двух узлах в изображении Царя преобладает негатив. Ж. Нива основным в этом солженицынском персонаже считает «какое-то буржуазное малодушие» , а Ю. М. Кублановский пишет: «Несчастливые качества государя (каждое из них выступает постепенно в процессе солженицынского повествования): зажатость, отсутствие твердости ... скрытность, неуверенность, порождающая упрямство, увлеченность, под давлением спекулятивных влияний сменяющаяся настороженностью и недоверием ... . Право, словно в самой натуре царя заключена была какая-то «онтологическая» недовоплощенность, заставлявшая его скрытничать, замыкаться и действовать даже и во вред собственным, а следовательно, и государственным интересам»172.
В целом вывод можно сделать такой: в «Красном Колесе» Николай II как частный человек довольно привлекателен (впрочем, только в «Марте Семнадцатого»), как правитель - никуда не годится, хотя те, кто пришли после него, оказались еще хуже. И все же главный виновник российской катастрофы, по Солженицыну, - именно он. Данный вывод особенно резко сформулирован в статье «Размышления над Февральской революцией»173. Уничижительные высказывания о Царе звучат порой и в публичных выступлениях писателя: «Нас в 17-й год загнали великие князья, высшие генералы, цвет нашей интеллигенции радикальной. Ну и государь Николай II многое сделал тоже»174.
Восстановление «того, что было» или «сочинённый портрет»?
Император впервые появляется в главе 65 «Августа Четырнадцатого». После выстрелов Богрова раненый Столыпин смотрит в сторону царской ложи, где стоит Государь, и крестит его левой рукой (правая пробита пулей): «Царь - ни в ту минуту, ни позже - не спустился, не подошёл к раненому. Не пришёл. Не подошёл» (II, 248). Эта фраза задает тон авторского (и формируемого им читательского) отношения к Николаю П. Далее внимание сосредоточивается на умирающем Столыпине, который мысленно молит Императора прийти, но ждать его будет тщетно. Вновь мы видим Царя в главе 72, причем действие здесь начинается с того момента, как увезли раненого: «Печальное это событие теперь удлинило антракт. ... Праздничный зал снова наполнялся, гудел, но и сдерживался в присутствии Государя. И вновь заполнились все места, кроме столыпинского в первом ряду, близ прохода. И воинственный Спиридович вложил саблю, сел на своё место в третьем. Публика потребовала, чтобы в ответ на злодейский выстрел был бы теперь непременно исполнен гимн». (Следует окрашенное авторской иронией описание исполнения гимна, который Царь слушает, стоя вместе с великими княжнами у барьера ложи). «Потом сыграли-спели 3-й акт, и Государь с дочерьми уехал. Предосторожности охраны были ещё повышены, если они допускали повышение» (II, 320-321). Всячески подчеркивается равнодушие Николая к происшедшей трагедии: он «сам удивлялся себе и
досадовал, что не испытывал уж такого сокрушения и горя. И искал причину» (II, 321). На следующий день Царь не находит времени посетить больного из-за парада войск в пригороде. Вечером 3 сентября он все же едет в больницу: «Только вечером вернулись в Киев. По пути с вокзала во дворец Государь заехал в лечебницу, видел приехавшую жену Столыпина, но сам раненый был плох, и врачи не посоветовали заходить к нему. Государь испытал и облегчение. В данную минуту и не хотелось бы разговаривать со Столыпиным» (II, 324). Во дворце Царь находит горку сочувственных телеграмм со всего света и уже с раздражением и ревностью думает о чрезмерном всеобщем внимании к премьер-министру: «Потоком этих телеграмм создавалось тоже невольное преувеличение роли министра. Николай вспомнил, как Вильгельм и Эдуард всегда жарко расспрашивали о Столыпине. Они не испытали, как несладко работать с таким своехарактерным министром, у которого все идеи уверенно настойчивы, и монарх ощущает, что не может сохранить самостоятельности. Так и в газетах этих лет установился к Столыпину нездоровый тон повышенно-подробных сообщений: что он делает в данную минуту, что он собирается делать, как если б это был единственный центр государственной жизни» (II, 324-325) . А умирающий Столыпин в это же время думает о Царе: «Слабый, и сам несчастный своей слабостью, уклончивый, отвращённый - так и не пришел» (II, 301). Отмечая случаи глумления над памятью Столыпина, автор резюмирует: «А главный тон им всем - задавал Государь. Никак не осталось незамеченным, что он посетил лечебницу всего один раз - и даже не прошёл к самому больному. ... Передавали устно - и просочилось в печать: «Говорят, Государь не считает особенной потерей» (II, 304).
Что и говорить, Император выглядит здесь весьма непривлекательно. Это отметил и Бернар Пиво, бравший у писателя интервью 31 октября 1983 г. в связи с выходом в свет французского перевода «Августа Четырнадцатого»: «Но вы сурово относитесь к облику Николая Второго. Вы его изображаете слабым, несмелым, неблагодарным к Столыпину». Ответ Солженицына: «Одно могу уверенно сказать, что я не сочиняю его портрет, а очищаю от всевозможных искажений то, что было» (Курсив мой. -О. Г.)
Так ли это? В какой мере Царь в столыпинских главах настоящий, а в какой - «сочиненный»? Обратимся к мемуарам очевидцев, где события выглядят несколько иначе. Вспоминает воспитательница Великих Княжон С. И. Тютчева, в момент покушения находившаяся в ложе, соседней с царской: «Вдруг я увидела, что в проходе между рядами кресел появился какой-то человек, посмотрел на царскую ложу (позднее я узнала, что великая княжна Ольга убедила государя выпить чаю и они перешли в аванложу) и спешно подошел к группе у рампы. Раздался какой-то треск (как мне показалось) и крик в оркестре. Я вскочила и бросилась в царскую ложу. «Что случилось?» - взволнованно говорили великие княжны. «Какая-то ложа обрушилась», - предположила Ольга Николаевна. «Сверху упал бинокль», -сказал вошедший флигель-адъютант Александр Александрович Дрентельн. Но на это возразила Татьяна Николаевна: «А почему же Петр Аркадьевич в крови?» В зале поднялся шум, крики, требования гимна. Государь вышел из аванложи, девочки старались его удержать, я тоже сказала: «Подождите, ваше величество». Он мне ответил: «Софья Ивановна, я знаю, что я делаю». Он подошел к барьеру ложи. Его появление было встречено криками «ура» и пением гимна»191. Киевский губернатор А. Ф. Гире вспоминал: «Увидя
Государя, вышедшего в ложу и ставшего впереди, он Столыпин поднял руки и стал делать знаки, чтобы Государь отошел. Но Государь не двигался и продолжал на том же месте стоять, и Петр Аркадьевич, на виду у всех, благословил его широким крестом» . Поведение Царя в тот момент очевидцами воспринималось как мужественное и достойное. Никто тогда не знал, сколько террористов находилось в театре. Встав на видном месте, чтобы успокоить зал и остановить начинавшуюся панику, Император мог оказаться удобной мишенью, и присутствующие это хорошо понимали. В недавно изданном сборнике архивных материалов об убийстве Столыпина опубликована подборка писем современников событий, дающая представление об их реакции на трагедию 1-го сентября. Киевлянка (неустановленное лицо), находившаяся в театре в тот вечер, писала 4.09 Е. П. Васильчиковой в Петербург, вспоминая о первых минутах после покушения: «Когда унесли Столыпина, весь театр запел гимн и «Спаси, Господи, люди Твоя». Крестились, крестили Государя, протягивали к нему руки. Государь стоял один, без дочерей, у самой рампы ложи грустный, сосредоточенный и бесконечно спокойный. Если бы в театре были сообщники, то было бы очень опасно. У всех нас явилось чувство, что он стоит под огнем. Взглядом он держал всех нас, отвечал всем нам, оборачиваясь ко всем. Паники не было -была молитва, и театр обратился в храм, и Государь был Царем»193. Лейб-хирург профессор Г. Е. Рейн вспоминал: «Государь показался в ложе, и торжественные звуки «Боже, Царя храни» огласили театральную залу. Раненый министр бледнел все больше и больше и был близок к обмороку, очевидно, вследствие внутреннего кровотечения. Обстановка шумного театра была совсем неподходящая для тяжкого больного, а потому мы его вынесли на руках в вестибюль театра» .