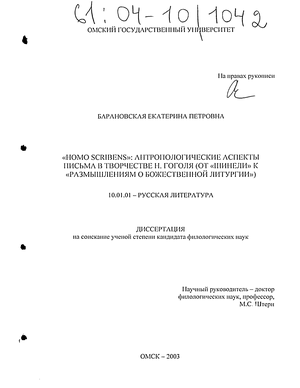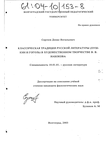Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Архетип скршпора в мифоиоэтической и исторической перспективе 29
1.1 Мифопоэтический мотив «начать писать» и становление архетипа пишущею человека в эпоху Средневековья 29
1.2 Становление европейского Хозяйства письма и Писание как составляющая таинства Брата в древнерусской агиографической традиции 40
1.3 Скринторы в русской культуре переходного времени: архетипы «Лифима Шсшкова» и «голого» / «служилого» человека 41
1.4. Три этапа освоения Петербурга Гоголем-скриптором 46
1.5 Апостасийная эволюция пишущих образов-персонажей в «Вечерах на хуторе (мів Диканьки» и «Миргороде». Формирование негативной антропологии обыденного человека 50
Глава 2 Пишущий чиновник в литературе 30-х годов XIX века. Поэмы Пушкина как антропологическое преддверие эпохи Гоголя 55
2.1 Оппозиция чиновник/ человек и механизм третироваиия бедного чиновника в русской культуре и. XIX века. Анекдотический генезис «Шипели» и «Записок сумасшедшего»... 55
2.2 Тексты-синтезы И. Павлова и В. Одоевского: отапеклота к психологической понести и сказке 61
2.3 Романтические парадигмы Письма. Гоголь и Гофман, Гоголь и барокко 66
2.4 «Медный всадник» Пушкина: новый художественный н антропологический код петербургского текста 70
2.5 Гоголевская теория Письма в контексте учительско-ученическнх парадигм и философии Г. Сковороды. Пути оправдания «мурашкипой» фигуры 75
Глава 3 Антропологический план «Шипели» - притчи о братстве. «Записки сумасшедшего» и проблема кризиса творчества как историко-литературной доминанты XIX века 83
3.1 «Шинель» в контексте раннего творчества Гоголя. Тип Шиопьки и тин Акакия. Семиотические сюжеты Письма (переписывание, неучастие, удержание) как сакральной службы 83
3.2. «Шинель» как житие и «зародыш» Книги о пасхальном человеке 91
3.3. «Записки сумасшедшего» как сюжет о починке ветхого мира 126
Глава 4 Антроподицея Гоголя в свете апологетических триад и литургической эстетики .. 133
4.1 Причины актуализации душевно-нравственной степени триад Оригена в визаитмйской традиции и в позднем творчестве Гоголя 133
4.2 Литургические идеалы Гоголя против «страхов и ужасов» современного человечества. Три функции поэзии 140
4.3 Парадигма письма Акакия. «Шинель» как М-иритча. Телеологический срок 149
Заключение 152
Приложение
- Мифопоэтический мотив «начать писать» и становление архетипа пишущею человека в эпоху Средневековья
- Оппозиция чиновник/ человек и механизм третироваиия бедного чиновника в русской культуре и. XIX века. Анекдотический генезис «Шипели» и «Записок сумасшедшего»...
- «Шинель» в контексте раннего творчества Гоголя. Тип Шиопьки и тин Акакия. Семиотические сюжеты Письма (переписывание, неучастие, удержание) как сакральной службы
- Причины актуализации душевно-нравственной степени триад Оригена в визаитмйской традиции и в позднем творчестве Гоголя
Введение к работе
«...Гоголь действительно был одностороиеи и (в конечном счете) не умен (...) Он гешииьио и истинно выразил (...) те «первичные и всеобщие формы», какие являет русская действительность, когда у русского человека души нет (...). Он не onucai и не вьіразіа (хотя, по-видимому, «вдашувидел») тоже сущие у нас Протозоа нашего одушевления (...) но, конечно, ото слишком маю и далее ничтожно около вечных отрицательных изваяний (...) не Гоголь один, но вся русская литература прошла мимо Сергия Радонежского...»
В. Розанов. Мимолетное .
Задача художественной антропологии - разносторонняя интерпретация литературных образов-персонажей, появившихся в результате воссоздания человека в авторском мире и в поэтике конкретных художественных текстов. На сегодняшний день выделены и описаны такие аспекты художественной антропологии как «человек мыслящий» и «человек чувствующий», «человек внепиіий» и «человек внутренний», «человек играющий» и «человек пишущий» (Homo scribens), к которому относится бедный чиновник, вечный титулярный советник - герой И. В. Гоголя, ставший объектом настоящего диссертационного исследования. Специфика литературного творчества как истолковывающего пересотворения человека выводит на первый план поэтику телесности, образ души, соотношение лица, лика, маски, движение от конкретного образа-персонажа к образу-архетипу - все то, что по-прежнему привлекает внимание гоголсведов. Исследователи неизменно подчеркивают вторичность предмета художественной антропологии но отношению к антропологии исторической или психологической: она имеет дело не с реальным человеком, а с era образом. Уникальность творчества Гоголя в том, что его человек действительно первоначален: интерпретация «Шинели» или «Записок сумасшедшего» всякий раз оборачивается моделированием пути русской культуры, истории - явлений, почти подчиненных сугубо литературному материалу. Проблема в том, как оценивается первичность гоголевского человека на протяжении вот у":е двух столетий.
1 Розанов В. В. Собрание сочинений. Мимолетное. - М.: «Республика», 1994. - С. 145 - 146.
Эпиграф из В. Розанова - самый яркий пример негативного восприятия как Гоголя, так и его персонажей, названных «вечными отрицательными изваяниями» [55. стр. 145-146]. Философ имеет в виду тип Акакия Акакиевича, происхождению которого он посвятил специальную заметку [53. стр.143-151]. Ее принципиальное значение состоит в том, что Розанов едва ли не впервые интерпретирует текст «Шинели» как антропоцентрический, с начала и до конца оставаясь в фокусе, в ауре чиновника для письма. По мнению Л. Черной, современного специалиста в области философско-антропологической проблематики русской литературы XVII - XVIII веков, самое главное преимущество антропологического подхода заключается в открывшейся возможности корректировать деятельность как «реального», так и «пересотворенного» человека путем соотнесения ее с чем-то высшим, вечным. Это особенно важно для скриптора -вертикальная подсветка, парадигма памятования, удерживание в образ*.: света прообраза, несение в типе идеального прототипа. Проблема в том, что пишущий человек в «Шинели» и «Записках сумасшедшего» (повестях, канонизировавших тип Акакия Акакиевича) суть петербургский низший чиновник, к тому же особое знаковое существо - копиист. В этом случае неизбежна имманентность антропологии онтологии петербургского текста, состоящего из негативных модальностей, из сюжетов обмана, подмены, когда мертвые, вторичные фигуры фикции замешают живое, органичное. С конца XVIII века известна метонимия Петербург - чиновник, означающая, что пространство города «фантасмагорическое, колдовское, но искусственное, античеловеческое» [111. стр.З-6]. К оппозиции чиновник / человек следует добавить оппозицию чиновник / поэт, восходящую как к исконному противопоставлению буквы /голоса, так и к онтологии петербургской цивилизации, подменившей в ходе истории средневековый концепт служения, традицию «византизации» всех структур практикой государственной слу.жбы, узаконенной Табелью о рангах. В записи от 6 июня 1915 года, включенной в «Мимолетное», Розанов противопоставляет буквальное и духовное зрение, письмо, чтение, отказывая и способности прозревать чиновнику: «...Петербург наполнен тысячами незримых грамот, сверх «мира ви-
димого» есть действительно «мир невидимый», в нем, в этом самом прозаическом и деловом Петербурге, но для третьих и индифферентных эта грамота не читается и не мешает им жить, играть в карты и переписывать бумаги в канцелярии, а «доходит» она до того - к кому «относится». [55. стр.157]. Вина Гоголя, по мнению философа, заключается даже не в создании мертвых «первичных» форм (Розанов избегает произносить «человек»), а в том, что сам Гоголь был не поэтом, а чиновником, Фомой Опискиным, превратившим поэзию, завешанную Пушкиным, в скверный анекдот.
На сегодняшний день написано множество статей, полемизирующих с отношением В. В. Розанова к Гоголю, но до сих пор в сфере гоголевской художественной антропологии остается неразрешенной проблема движения от конкретного образа-персонажа к образу-архетипу, то есть от чиновника - копииста к «человеку пишущему», а также проблема соотнесения письма поэтического и канцелярского, сакрального текста (грамоты) и бюрократической бумажки («соотношения»). Эта проблема стоит особенно остро с тех пор, как гоголеве-дение, обратившись к учительным контекстам творчества писателя, столкнулось с тем, что, оказывается, не отработаны анализ и интерпретация, предметом которых является «перевод» идеологического дискурса (прежде всего религиозного) в поэтическую систему Гоголя. Следствием этого оказывается невозможность применить к труду Башмачкина и Поприщинатех духовных аспектов письма, которые представлены в той же учительной словесности и подробно освещены в трудах отечественных историков культуры. Что может быть общего между вечным титулярным советником и прилежным писцом, описанным на страницах книги С. С. Аверинцев «Поэтика ранневизантийской литературы»? Можно ли соотнести труд Акакия с чудом собирания букв в книгу, о котором пишет В. II. Топоров в исследовании «Святость и святые в русской духовной культуре»? В. Бычков рассматривает образы пишущего человека как один из наиболее характерных моментов теории и практики византийского монашества, осмысленных в высоко эстетизированной форме, неприложимой к канцелярским заботам гоголевских чиновников. Недаром С. Гончаров предварил свою
монографию «Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте» следующим наблюдением: «И если пафос преображения и духовного устремления учительной культуры, определяющие важнейшие черты гоголевского мировоззрения, его жизнетворческие задачи, тип писательского и бытового поведения, освещены в гоголеведении значительно полнее, то художественная антропология только начинает описываться» [140. стр.6]. Избранный нами аспект вовсе не является частным, поскольку проблема письма обостряется в переходные эпохи, обеспечивая уникальность места скриитора в историко-литературной перспективе. В этом отношении диагностической является статья С. Бочарова «Холод, стыд и свобода. История литературы sub specie Священной истории», где происходит диалог с В. Розановым, увидевшим в Башмачкине лишенный движения образ. Чиновник, корпящий над бумагами, - всего лишь внешнего человека «in statu», не растущий, а «съежившийся, оскопленный, с облезлыми на голове волосами, с морщинистыми щеками». [53. стр. 147-148]. Все чер^ы персонажа уходят «бесконечно вниз» и соединяются в «пук лучей» - свет не естественный, а лабораторный. Что скрывается за оценкой Розанова? Только ли отношение к букве как мертвой непросветленной природе? Пет, автор «Шинели» обвиняется в создании такого социально-культурного пространства, которое принципиально не способно к синтезу, а значит, и к решению проблемі.' «человека», провоцируя не у одного Розанова глубоко личностное переживание неизбежности антиномизма и конца. Переоценка концептов «маленький человек», «вечный титулярный советник» сопряжена не только с пересмотром классической модели пути русской культуры, сложившейся в начале XX века, но и с корректированием ее апокалиптического опыта, названного Розановым «рукодельным». Под этим следует понимать усложнение проблемы порядка истории «своими» антиномиями - наиболее «опасными», когда они не разрешены. Так считает Г. Флоровский, по чьему мнению происхождение этих антиномий датируется петербургским периодом - «узлом русской трагедии» [240. стр.91]. Розанов, впервые совместив «падающий» сюжет «Шинели» с трагическим сюжетом русской истории предопределил па целое столетие вперед не только от-
ношение к гоголевскому «чиновнику», но и концепцию перехода от него к человеку Достоевского («Не литература, а литературность ужасна» [58. стр.106]. «И все пьесы его (...) и «Шинель» - просто петербургские анекдоты, которые могли быть и которых могло не быть (...) Странная элементарность души. Поразительно, что Гоголь совсем не развивался» [58. стр.399] ).
Статья Бочарова возвращает нас к контуру гоголевского мифа, сотворенного серебряным веком. Именно Бочаров указал на особую природу гоголевских текстов, подчеркнув, что і} них есть сфера содержания, не имеющая выражения. Чтобы эксплицировать это содержание, Бочаров едва ли не впервые учел каноны герменевтического понимания, осуществив самую блестящую интерпретацию «Носа» в контексте понятийного аппарата философии серебряного века [116]. Постоянно возвращаясь и исходную мифотворящую точку, автор перестраивает методологическую базу, что не меняет отношение к Гоголю и типу Акакия Акакиевича: если Пушкин - рай, то Гоголь - распад, а Достоевский - синтез. Переход от Гоголя к Достоевскому мыслится как позитивный: Достоевский должен был совершить поворот в том же гоголевском «теле», а под «телом» понимается пустое место редуцированного человека, замешенного чиновником. В характеристиках Гоголя, данных ему серебряным веком, постоянен «мотив холода его дара, взгляда, слова, смеха, анализа личности» [118. стр. 137]. Эти эпитеты оформляются в образ демона русской литературы, у которого «нет человеческих образов, а есть (...) клочья людей» [9. стр. 126]. В 1918 году Гоголь-демон появляется в одном из писем В. Розанова к II. Котляревському виновником того, что теперь «ломят морозы», а вся литература переброшена в «мертвую зону», «пустое пространство» и нет «никакой надежды согреться»: «холод, холод, холод, мертвый холод и больше ничего» [56. стр. 82-83]. Их третьих рук попадает к философу анекдот о чаепитии у Гоголя, когда его гостям «ничего в горло не шло, вследствие ледяного его отношения ко всем» [58. стр.139 - 140]. В «Распаде атома» Г. Иванова (1938) главный герой -тип Акакия Акакиевича, явленный в ипостасях некрофила, фетишиста, порнографа, переписчика Песни песней. Гоголь растлил своим чердачным капцеляр-
ским мифом рой поэзии Пушкина, но в финале поэт обвиняет и ее: она обманула [34. стр. 32], потому что «у людей нет лиц, у слов нет звуков, ни в чем нет смысла, никакого воздуха нет» [34. стр. 15]. Если в предсмертных стихотворениях Иванова пушкинская Россия реабилитируется, то гоголевская - никогда: в одном из них поэт грезит об идиллии чаепития с Пушкиным как идеальном круговороте общения [35. стр. 553]. Таким образом, большинство исследователей, работая в области художественной антропологии, переворот приписывают Достоевскому, в тексты которого пришла нагая и растрепанная действительность, полученная в наследство от Гоголя. Его персонаж оценивается только как переписчик, тогда как герой Достоевского пусть изломанно, расслабленно, болезненно говорливо, но все же выговаривает себя. Бочаров убежден, подобно всем другим, что именно Достоевский предоставил Акакию Акакиевичу слово, впервые сконструировав и поняв личность маленького человека, данного как «преображающая вертикаль, формообразующее начало» [118. стр. 147]. «Шинель» лишь собрала максимум всех мотивов, явившись проводником универсального мифа русской литературы, записанного в «Бедных людях», - таков главный вывод. О. Г. Дилакторская также считает переход от Гоголя к Достоевскому позитивным. В книге «Петербургская повесть Достоевского» (1999), отвечая на вопрос, почему Достоевский должен был начать свой путь с гоголевского чиновника для письма, от которого так далеко потом ушел, она заключает: «Петербург Гоголя вместе с человеком погружен во тьму с проблесками сумеречного света или неверно мигающего света уличных фонарей, город окован морозом, стянут холодом (...) населен подобием человеческих душ. Время от времени это пространство продувает пронизывающий до костей ветер и уносит петербургских мертвецов, обращающихся в привидения, вершащие суд над мертвыми» [145. стр. 11-12].
Выстраивая похожие модели пути, литературоведы до сих пор не прояснили то обстоятельство, что Достоевский имеет дело не с гоголевским скринто-ром, а с его «натуралистическим» шаблоном: к 1847 году сюжет о чиновнике для письма канонизируется на основе обиходного материала, сложившегося
уже к началу 30-х годов, задолго до написания петербургских повестей Этим фабульным остовом и пользуется Достоевский: «Жил-был чиновник, разумеется, в одном департаменте. Ни протеста, ни голоса в нем никогда не бывало, лицо вполне безгрешное. Белья на нем почти тоже не было. От бедности, холода и голода он вдруг заговорил, как Валаамов осел, но заговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом» [249. стр. 50]. Характерная черта русской культуры 20 - 30-х годов XIX века - разрозненность антропных составляющих, когда все духовные разработки «человека» находились на периферии, а в светской литературе он оставался за пределами языка. 'Гак митрополит Филарет ужасается «раздроблению личности» [229. стр. 42], которое функционировало в ту эпоху как идеологический канон. В одном из писем к своему отцу-священнику Филарет напрямую связывает эту идеологию с невозможностью человека стать цельным субъектом, что усугублялось острейшим конфликтом сущности - явления; содержания - формы; человека - чина. Л. Я. Гинзбург в результате исследования документальной прозы первой половины 19 века обнаружила, что «душа оставалась делом настолько частным, что не существовало возможности закрепить ее движение в словесных формах» [229. стр. 46]. Любое нарушение идеальной разносторонности влекло за собой риск сделаться посмешищем: комедии, сатиры того времени третируют всякие интеллектуальные и поведенческие эксцессы, что остро испытал на себе Гоголь, попавший по приезде в столицу в целую серию литературных анекдотов. О низших существах и говорить не приходится: если человек «еще только наклевывался» [7. стр. 682] то «чиновник» за два века превратился в архетип Петербургского текста, его фиктивного пространства. Этот этап сразу сменяется антропологическим горизонтом русской литературы 40-50-х годов, в который уже не входит трансцендентальный идеал, а на первом плане оказывается тема взаимодействия натуры со средой, проблема «тела» как эмоционально-физиологической природы человека [222. стр. 58].
Согласно хронологической схеме современного философа М. Хомякова, последние годы жизни Гоголя пришлись на период ожесточенного нротпво-
стояния официального православия и поколения «новых людей». Эта ситуация сходна с первыми веками христианства, когда апологеты, решая проблему толерантности, разработали практику братского преображения мира, начинающегося с образования церковной двоицы, первой парія братьев, призванной воздействовать на непримиримое сообщество религиозно-художественной силой Слова. М. Хомяков, структурируя русскую культуру Нового времени как апологетическую, первой «двоицей» считает пару А. Бухарев - Ф. Достпгвский, совершенно не беря во внимание тот факт, что главные труды а. Феодора («Три письма», «О православном отношении к современности») были написаны на основе анализа произведений Гоголя [248]. По мнению Бухарева, «Петербургские повести» впервые поставили в литературе вопрос о человеке в свете возможного единства устремлений духовного и светского миров через преодоление рокового раскола общества на «своих» и «чужих». Персонажи Гоголя интересовали арх. Феодора не как литературные типы, а как явление «человека» в его онтологической сущности, поэтому он не ищет у них усложненного сознания. Эти факты совершенно не учитываются М. Хомяковым, строящим цепочку наследования от Бухарева к Достоевскому и Розанову как автору следующих строк: «Тут уже начинается храм, куда входят и созвездие, и вся история, и все надежды человеческие; где сближаются иудей и эллин, мерцает свет и Вавилона, и Египта» [248. стр. 123]. Получается, что в храм входят все, кроме типа Акакия Акакиевича и самого Гоголя, человеку которого буквально ист места в историко-литературной перспективе.
В. Розанов в брошюре «Место христианства в России» пересказывает 3 книгу Пророчеств Ездры, содержащую древнейший образец сюжета о нетерпимости человека, не желающего, чтобы кто-то другой был приобщен к Божьему слову. Розанов пишет об ужасающем холоде «вавилонских речей» Ездры [54. стр. 15], противопоставляя им событие, случившееся «на дальнем берегу средиземного моря, в глухой уединенной стране без шума и незаметно, когда Он говорил слова бедной Самаритянке» [54. стр. 17]. Поразительно совпадение этого примера с исторической зарисовкой в ранней заметке Гоголя «Жизнь», в
которой описаны сменяющие друг друга три этана развития человечества. На смену глухим, слепьім и неподвижным Египту, Греции, Риму приходит бесшумно с Востока новорожденное Слово: «За низкою и ветхою оградою стоит ослица. В деревянных яслях лежит младенец, над ним склонилась мать (...) над ним высоко стоит звезда, и весь мир осияла чудным светом. Задумался древний Египет (...) глянула Греция, опустил очи Рим, приникла ухом Азия, нагнулся Арарат» [18. стр. 247-249]. Ветхий мир получает новые свойства: способность видеть, слышать, поклоняться не мертвым идолам, а живому слову. Совпадение текстов можно было бы объяснить их общим апологетическим источником, если бы не факт: в одной из своих последних статей «Аиокалиитика русской литературы» В. Розанов полностью переписей «Жизнь», дав ей высокую оценку: «В меньшем числе строк нельзя сказать больше его (...) И все оголенное существование Отечества, кажется, не стоит этих единственных во вес шрной письменности строк. По их законченности. По их универсальности. По их неисчерпаемости» [118. стр. 147]. И вдруг после этого философ начинает обвинять Гоголя в искажении, отклонении пути русской письменности, в бессмысленности существования, воплощение которой философ увидел в типе чинов-иика-переписчика. В записи от 11 августа 1916 года, включенной в «Последние листья», Розанов заключает: «Чиновник все губит» Да, но это '/г истины. Всем давно известная. Есть и другая половина (...). «Чиновник все и поправляет» (...) Бунт и был бы. По пришел чиновник Худенький, ледащий (...). При нем столоначальники. Чиновник что-то поплевал. Что-то написал» [57. стр. 209]. К Розанову присоединяется и Бочаров, назвав «Жизнь» «поэтической картиной», которой Гоголь изменил, «застыв, обледенев от ужаса» [118. стр. 147]. По нашему мнению, причину негативного отношения к Гоголю точнее всего сформулировал его современник Г. Батеньков. Приступив в 50-е годы к созданию новой концепции «человека», он в письме к автору «Мертвых душ» задолго до Розанова строит модель рай - грехопадение, представленную субъектами сравнения Жуковский / Гоголь. Первый воплотил «светлое» понятие, второй - «отрицательное» [161. стр. 108]. Батеньков обвиняет Гоголя в поношении и уни-
чижении, перенеся на него демонические свойства самой «оголенной» действительности. С. Бочаров в статье «О стиле Гоголя» замечательно пишет об одном эффекте в «Шинели», когда текстовая фраза вместе с реальностью не реагирует на слово Башмачкина, отворачивается от него, обрастая «корками» и «скорлупами» [117. стр. 430-432]. Но в точно таком же положении оказывается сам Гоголь, от авторской исповеди которого отвернулись все. К началу 50-х годов цензура запрещает в литературе употреблять слово «чиновник», уважение к которому «издавна поколеблено Гоголем и другими сатириками» [257. стр. 184]. М. Уваров в книге «Архитектоника исповедального слова» трактует исповедь как паузу, установившуюся тишину, как такое универсальное словесное явление, которое организует хаос сознания человека и осуществляет его соприкосновение с мыслями и состояниями других людей [240. стр. 9]. Показательно, что ни в одном из петербургских текстов философ не находит даже следов существования неуничтожимого вектора исповедального слова. Для Бочарова момент, когда единственная не косноязычная фраза Акакия локализуется в повести в форме преображенной речи и рождает эффект внезапной «остановки» среди жизненного потока - только стилистический эффект. «Гуманное место» словно лишается антропологических параметров, оцениваясь как пример катастрофического общения, а подлинного у Гоголя быть не может. Здесь Бочаров ссылается на П. Анненкова: «Он помогал ближнему советом (...), но никогда не переживал с ним горечи страдания, никогда не был с ним в живом, так сказать, натуральном общении» [117. стр. 431]. Исповедальное слово - выход за пределы своих антиномий и становится ясно, что введение понятия «катастрофичности» исключает понимание этой сцены в духовном свете.
Все рассмотренные модели подчиняют антропологические открытия Гоголя бинарной структуре петербургского текста, в котором действует оппозиция человек/чиновник. При этом гоголевская художественная реальность пересотво-ряется исследователями как имманентная «оголенному существованию», «растрепанной действительности» XIX века, которая падает в образах-персонажах, перенесших операцию отделения человека внешнего от человека внутреннего.
В современном литературоведении понятие «кризис творчества» стало своеобразной мифологемой, применяясь уже не к одному Гоголю, а вообще к литературному движению XIX столетия. С эволюционной точки зрения, «кризис творчества» означает прорыв за собственно эстетические границы во внутренний процесс самопознания, и для этого был необходим пережитый Гоголем опыт кризиса души, идущий, по мнению большинства исследователей, от признания аштшомичности человеческий природы, в которой борются дьявольское и божественное начала. Но поскольку эта борьба диалектически разворачивается в широкой историко-литературной перспективе, ее исход вынесен за рамки жизни и творчества Гоголя. Т. В. Захарова считает, что он в «Выбранных местах» переживает кенозис - такое, по П. Флоренскому, «опустошение», «обнищание», «истощение», которое переходит в обратную перспективу восстановления в Духе, в Боге [155. стр. 38]. Константой го гол сведения является признание кенотической антиномичности творчества писателя, в переписке которого сакральная исповедь-покаяние становится одновременно человекоборче-ской, включающей в себя и демонические мотивы. Т. В. Захарова особо отмечает 4 письмо о «Мертвых душах», где предельно обостряется и обобщается кенозис автора как «кризис творчества», антиномично-мифологически завершенный актом сожжения рукописей [155. стр. 40]. Получается, что Гоголь -первый этап кенозиса (самоуничтожение и богооставленность), а Достоевский -заключительный (покаяние и самоотдача), что соответствует модели С. Бочарова. Только в переходе от Гоголя к Достоевскому образуется сюжет о смерти и сожжении как воскресении и очищении. И. Л. Есаулов главным мотивом творчества Гоголя считает мотив подверженности мира губительному влиянию злого духа - противника любви, что рождает центральную тему духовной защиты человека. Автор вводит в литературоведение понятие апостясии - последовательного отпадения мира от Бога [149. стр.63-75]. Творчество Гоголя трактуется как падающее движение от цикла к циклу, от соборного родства людей к вражде между ними. Цикл «Миргород» рассматривается как пересечение христианских и мифологических контекстов понимания, когда 4 ступеням неук-
лонной апостасийности мира соответствует эстетический сюжет его деградации в ходе развития от Золотого века в «Старосветских помещиках» к железному веку в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови-чем». В свете этой модели цикл «Петербургских повестей», в который входит два канонических текста о пишущем чиновнике («Шинель» и «Записки сумасшедшего»), можно трактовать только как предел отпадения, окончательное погружение мира и человека в «египетские тьмы». Разве Гоголь не рисует здесь картины полного отступления от евангельского завета любви к ближнему? И разве не является бедный чиновник для письма фигурой мертвого закона, эволюционирующей из образа малороссийского писаря - черта? Наконец, В. Савельева в книге «Художественная антропология» разбивает «Шинель» на 6 смысловых кругов, в последнем из которых, по ее мнению, демонология Гоголя находит свое окончательное воплощение в образе чиновника-призрака [215. стр. 265].
Самые последние исследования, посвященные проблеме гоголевского человека, показывают, что ни один из традиционных критериев не способен победить инерцию негативного восприятия образа чиновника для письма. Ми критерий онтологический, когда превращение Акакия в привидение обнажает фиктивную сущность его как петербургского чиновника. Ни критерий социальный, с помощью которого О. Дилакторская доказывает, что в чиновничьей «приниженности» и «забитости» виноваты петербургский климат и государственная машина [145. стр.101]. Ни критерий антитетический, на основании которого в ряде новейших публикаций вокруг Гоголя - демона и созданного им «петербургского текста» концентрируются вообще все «диссонансные» мифы русской культуры. Например, Н. Белова в статье «Гоголевский Петербург», посвященной 300-летию города, называет его «античеловеческим пространством», в котором правит демон, и на улицах которого «теряют укорененность и родовые связи персонажи Гоголя» [111. стр.4 - 6]. Примечательна также рецензия, написанная киноведом С. Добротворским на фильм С. Сокурова «Тихие страницы», снятый по мотивам «Преступления и наказания»: «Нет ничего, ладонь леденеет
в могильной стуже (...) Обманчиво-жилые склепы подавляют своей храмовой надчеловечностыо (...) кладбищенские пейзажи организуются в них не вдоль, но вертикально - в предчувствии новой макабрической готики, в восходящей к смерти строительной симметрии» [146. стр. 196].
До сих пор нам не встретилась ни одна работа, в которой гоголевские сюжеты, так или иначе связанные с пишущим образом-персонажем, трактовались бы не как «падающие» (антижития, антисказки, антипримеры). Исследований, посвященных типу Акакия Акакиевича, много, но, различаясь методологическими установками, все они приходят к хрестоматийному выводу, к общей художественной идее: «Человек, Божье создание, обладающее душой и выши-ми добродетелями, сбивается с пути, влекомый к ложному идеалу, и и конце концов губит свою душу» [119. стр. 206]. Для М. Вайскопфа гоголевский скриптор - изначально мертвый «бумажно-чернильный гомункул», «бледное исчадье писанины», чуждое романтическим теориям письма, восходящим к каббалистическим и барочным традициям [124. стр.243.319.323]. Своеобразным интерпретационным трафаретом является теория нарративной недовоп.ющен-ности, в свете которой образы Гоголя, включая чиновника для письма, оказываются в равной степени наделенными сакральными значениями и демоническим потенциалом [124. стр.356]. В отличие от М. Вайскопфа, Арпад Ковач исследует «Записки сумасшедшего» с опорой на адаптированные романтизмом мистические контексты, сквозь призму которых пишущий Поприщин ьидится семасиологической и онтологической загадкой. Сюжет повести трактуется как полная редукция на всех уровнях текста типа «чиновника для письма», вследствие чего рождается автор записок и «человек» в строгом этимологическом смысле слова. Функция пера и бумаги - воссоединение расторгнутых связей Красоты и Мудрости, осуществленное в форме эскапизма, выводящего «человека» далеко за пределы чиновничьего Петербурга, где нет никого и ничего [167. стр.52]. Установка на онтологическую самодостаточность атрибутов письма позволяет Л. Ковачу находить в творчестве Гоголя сцены немотивированного рождения субъектности, когда достаточно первого касания бумаги и
пера, чтобы персонаж стал Автором. Такое преображение осуществляется помимо его сознания как чистая функция повествовательного дискурса. М. Эп-штейн, исходя из духовных источников, сравнивает пишущих Акакия и князя Мышкина в свете культурного архетипа переписчика. Размышляя об огромном значении «деталей» письма в структуре двух образов, Эпштейи оспаривает мнение о пишущем Башмачкине как целиком «внешнем человеке», так как его труд имеет сакральное происхождение. Тем не менее «Шинель» прочитывается традиционно как сюжет «падения» престижа писца до жалчайшего состояния в противоположность герою Достоевского, обладателю не канцелярских талантов, а идеального монашеского почерка, напрямую связывающего Мышкина-копииста со средневековым прототипом [262]. Похожую оценку письма самого Гоголя мы обнаружили в зарубежном литературоведении (А. Ханзен-Леве, К. Д. Олоф, X.- 10. Герик, К. Трост и др.): разложение художественной речи на анаграмматические нулевые знаки, обрыв речи и отказ от нее как центральный мотив «Шинели»; существование чиновника под знаком страха, абсурда, аномалии, бессмысленности, цинизма; задавленность маленького человека техническим обществом Нового времени.'
На другом полюсе находится религиозно-философская традиция толкования гоголевского человека, которая к концу XX века описала его в духовном свете, установив характер взаимодействия Гоголя с александрийской богословской традицией, с первобытной христианской проповедью, с учительной культурой, с «поведенческим текстом» отцов Церкви, канонами православного благочестия и даже традициями неопиетизма и протестантизма. Р.-Д. Кайль, Э. Хииписли, Е. Ветловская особенно часто указывают на соответствия, возникающие между «Шинелью» и агиографической традицией, Новым Заветом, Житием святого Акакия. Это позволило гоголеведам увидеть в гоголевском скринторе подвижника буквы, «средневекового» человека, осуществляющего миссию личного спасения, что доказывается топикой радости и сладости его
" См: Сулакова Е. К. И. В. Гоголь в немецкоязычном литературоведении (70-90-х гг. XX в.) /Автореферат на соискание ст. кандидата ф. н. - М., 1999.
«внутреннего» труда. Однако даже глубокий интертекстуальный анализ произведений Гоголя в контексте церковной словесности не решает семиотическую проблему перехода от пишущего петербургского чиновника к пишущему человеку (монаху / святому / копиисту). В ходе любого анализа текст «Шинели» и особенно «Записок сумасшедшего» распадается на отдельные семиотические сюжеты по причине нерешенности ряда принципиальных вопросов: сакрально ли письмо Башмачкина и Поприщина? Соотносится ли их «текст» с гоголевскими теориями письма? В какой момент в творчестве Гоголя, на основании каких традиций и вследствие каких закономерностей историко-литературного процесса происходит актуализация образа скриптора, превращение чиновника для письма в главную фигуру петербургского текста? Каким образом она связана с пишущими героями ранних циклов Гоголя и с литературной обиходностью 30-40-х годов, в пространстве которой складывается отрицательный пит Акакия Акакиевича1? Внимание к одной апостасийной стороне творчества Гоголя приводит, как мы убедились, к обострению антиномических черт его художественного мира (Бог/ злой дух; сакральное /демоническое; внутреннее / внешнее; человек как образ и подобие Божие / чиновник как пустое место; «Петербургские повести / «Размышления о Божественной литургии; братство / нражда и.т.и.). Подчеркивание оппозиций и дискурсивных различий затрудняет восприятие всего созданного Гоголем как художественного, духовного, кенотиче-ского целого. В большинстве современных работ, наследующих идеи В. Зень-ковского, Д. Чижевского, К. Мочульского, обнаруживается некоторая произвольность в выборе символических ключей для анализа гоголевских текстов как иносказательных. Результаты исследований определяются лишь интуицией литературоведов, убежденных, что Гоголь никогда не раскрывал секретов своего творчества, оставляя читателей в неведении. Например, П. Е. Бухаркии в статье «Об одной евангельской параллели к «Шинели» Гоголя в рамках проблемы внетекстовых факторов смыслообразования указывает на созвучие между повестью и 19-21 стихами б главы Евангелия от Матфея, на которое впервые указал П.Тирген, обнаружив отражение в «Шинели» Нагорной проповеди.
П. П. Кухаркин сразу оговаривает, что «в тексте «Шинели» нет прямых отсылок к данным стихам [119. стр.200], но это не мешает ему рассматривать их как один из основных источников повести на основании «вообще характерной для Гоголя завуалированности инертекстуальных связей» [там же]. По мнению исследователя, они просто не эксплицированы в тексте, открываясь не посредством цитат, а через сходство и созвучия. Автор статьи находит в Башмачкине до падения «душу и высшие добродетели», но нигде не оговаривает, в чем они состоят и каким образом проявляются. Также В. Кривонос в статье «Мотив испытания в «Петербургских повестях» Гоголя» не объясняет переход от негативных характеристик в сферу сакральных значений. Сначала делается вывод об «уровне человеческой редуцированности в пространстве, в котором имитируются свойства человека», о чипе как функции «нечистого места» [171. стр.100], в финале исследователь заключает, что «все же Гоголь не отказывает и герою этого типа в возможности мгновенного возвращения себе свойств человека -образа Божия» [171. стр.104]. Письмо и слово Башмачикина - чиновника не берутся во внимание автором при анализе «гуманного места» как «реальности чуда воскрешения в царстве мертвых», свидетельства «онтологической укорененности человека в высшем мире, давшем ему имя и лицо» [171. стр.105].
Методологической основой нашего исследования стали: современные фи-лософско-антроиологические разработки, учение о трех мирах Г. С. Сковороды; работы И. Есаулова, Т. Захаровой, В. Савельевой, С. Аверинцева, В. Топорова, Л. Пумпянского, 10. Левина, М. Уварова, Л. Черной, А. В. Михайлова, А. Ковача, Ф. Кануновой; труды X. Лопарева, А. Бухарева, В. Зеньковского; монографии С. А. Гончарова, связавшего «Шинель» с учительной традицией, система антроподицеи, созданная П. Флоренским с целью последовательного оправдания конкретного человека, и эпистолярное наследие Гоголя. Все эти источники доказывают непрерывность духовной традиции в решении проблемы «человека». При философско-антронологическом подходе к историко-культурным явлениям особое значение приобретает тип человека, принимаемый культурой за образец в разных социальных слоях. Этот метод позволяет выявить общие за-
кономерности развития, функционирования того или иного типа человека, Среди предшественников Гоголя и а. Феодора главное место принадлежит украинскому философу Г. С. Сковороде, чье жизнетворчество явилось синтезом религиозной философии и риторики, примером внутрицерковной секупяриза-ции мысли, когда усвоение Оригена и Отцов Восточной церкви шло через дидактическую литературу 17-18 веков. В последнее время наблюдается возрождение интереса к личности Сковороды и к основанному им субъективному принципу уединенно-индивидуальной духовной жизни: переизданы работы В. Эрна, в 1999 году были изданы сочинения Сковороды в новых переводах и опубликовано житие философа, составленное его любимым учеником М. Кова-линским. Наконец, в 2002 году вышло первое в России исследование Софроно-вой Л. Л «Три мира Григория Сковороды», представляющее его творчество в целостном виде и в современном научном освещении. В работе изучена проблема риторики и художественного начала в сочинениях философа, исследована его концепция Христовой философии, которая объявила самостоятельными мирами Библию, мир и человека, сложно взаимодействующими друг с другом на основе антитезы Бог / Дьявол. Философия Сковороды питалась многими источниками, благодаря чему он оказался на перекрестке разных кругов славянской культуры, что предоставило ему, как позже и Гоголю, большую свободу в подходе к человеку. Сковорода сумел примирить дискурсы, потому что творил внутри эпохи Просвещения, не выходя окончательно из культурного пространства барокко и уже используя сугубо романтическую свободу в интерпретации Библии и духовных задач.
По нашему мнению, задача преодоления различных типов непонимания личности и творчества Гоголя наиболее полно решается в трудах С. А. Гончарова. Он первым обратил внимание на то, что до сих пор всему написанному Гоголем сопутствует буквальность восприятия, и это противоречит гоголевской идее необходимости постижения духовного, внутреннего смысла, который проецируется им не только на художественные тексты, но и вообще на свое «слово», на свою «биографию». Также впервые за столетие Гончаров об-
ратился к украинскому гоголеведению начала века, которое, несмотря на оо-ширную просветительскую и педагогическую деятельность в области изучения и сохранения духовного наследия Гоголя, находилось на периферии религиозно-философской традиции. В последних публикациях С. Гончаров подчеркивает продуктивность исследовательских подходов, ориентированных на анализ поэтической системы Гоголя в ее соотношении со словесной природой религиозно-учительной культуры, ее особенной риторикой и литературностью. По причине нерешенности этой глобальной проблемы анализ «Шинели», предпринятый самим С. Гончаровым в книге «Творчество Н. В. Гоголя и традиции учительной культуры», противоречив в том, что касается интерпретации сущности образа главного героя.
Гончаров очень подробно освещает религиозную тему «долга» / «служения», восходящую к посланиям а. Павла, трудам Киево-могилянской академии и сочинениям Г. Сковороды [141. стр.47.57]. Сквозь эту призму автор переосмысляет романтическую идею «соприкосновения высшегг» и трансцендентального с прозаическим и повседневным» [141. стр.31.55], обнаруживает в повести символику соборности, братства, а самое главное -рассматривает Акакия Акакиевича двояко: в тленном мире он - мелкий чиновник, переписчик; в вечном - истинный, внутренний человек. Однако, связь между двумя мирами не выстраивается, потому что не найдено условие соприкосновения внешнего и внутреннего, не рассмотрены полно истоки удивительной заинтересованности героя в своем низшем чиновничьем труде. Акакию Акакиевичу вменяется в вину отсутствие рефлексии («в нем нет и намека на самосознание и самоусовершенствование») - обвинение, прозвучавшее и в знаменитой статье Ч. Де Лотто: Башмачкип «н^ мудр смыслом», что влечет за собой процесс зарождения и развития страстей в его душе [141. стр.31.66]. По нашему мнению, такой вывод противоречит факту привлечения к анализу повести некоторых положений литургической эстетики. Это храмовое действо для того и воплощало предельно оити-иомичные догматы христианства в поэтических формах и антропологических символах, чтобы с их помощью снять антиномии в структуре художественного
образа. Катастрофическая обостренность восприятия времени как движения к концу снималась в глубоко поэтическом и толерантном акте богослужения, приобщая ветхого человека к мажорному празднику души. Случай Гоголя одновременно парадоксален, и симптоматичен: к его произведениям широко применяется духовная традиция, но она неизменно лишается в ходе анализа своей главной - антропологической - цели, что является знаком живучести «антитетического» гоголевского мифа. Почему? Потому что, по всеобщему мнению, глубочайшая идея петербургского текста состоит «именно в этой несводимой к единству антитетичности и антиномичности - категорий, которые самое смерть кладут в основу новой жизни, понимаемой как ответ смерти и как ее искупление, как достижение более высокого уровня духовности» [237. 5]. Мы не оспариваем правоту этого заключения, подтверждающегося многими текстами. Но, выйдя за пределы апокалиптики русской литературы, можно обнаружить и другой «словарь», помимо «одной и той же» фразы, что в Петербурге нет ни жизни, ни смерти, нет ничего, одни жертвенные камни истории. В настоящем исследовании мы предприняли попытку на материале «Шинели» Гоголя показать, как в основу «нового» образа человека и мира кладется не «камень» смерти, а .живое слово в строгом соответствии с литургической эстетикой и каппадокийской экзегезой, необыкновенно внимательной к каждому человеческому жесту, если он связан с рождением слова.
По этой причине в качестве методологической основы была выбрана антропологическая система П. Флоренского Как отмечает иеромонах Андроник (Трубачев), «хранитель» наследия о. Павла, до него термин «антроподицея» не встречался в литературе, хотя в нем и обоснована древнейшая традиция оправдания человека, согласующая идеею совершенства с наличным несовершенством, закладывающая основы фундаментальной идеи обоження всего человеческого существа [33. стр.59]. В «Заметках по антропологии» Флоренский конкретизирует это понятие как телеологическое: «Понимание цели, ради которой все существует в человеке, и будет антропологией, то есть позитивной энтелехией человека по отношению к божественному». [33. стр.60].Эта мысль являет-
ся методологическим ключом к нашей интерпретации образа пишущего чиновника как телеологического существа, соотнесенного в акте письма с прообразом, и эта живая зреющая связь типа и прототипа, как нами предстоит убедиться, соединяет героя не только с архаическим и средневековым прошлым, но и с будущим, где несоответствия уже преодолены. Под «антроподицеей» подразумевается целая область духовно-нравственных вопросов, поставленных столь широко, что стало возможным применение этого понятия к целому ряду культурных явлений, не ограниченных строго богословской спецификой. Эту своеобразную свободу, не выходящую за апологетические рамки, унаследовал В. Зеньковский, пишущий в статье «Принципы православной антропологии» о необходимости обращения не к эмпирической реальности в человеке, а к сиянию прообраза сквозь ее внешние слои [157. стр.117]. Мы воспользовались антроподицеей как уникальной, действенной системой, подобной «вееру явлений», о котором пишет О. Мандельштам в статье «О природе слова» [40. стр.227]. Эта система разворачивается вокруг каждого человека, образуя особого рода защитное поле: все явления в нем свободны от антиномий и диссонансов, от гнетущей «временной зависимости» и подчинены «внутренней связи», осуществляемой через человека. Система антроподицеи корректирует классическое понятие «художественная антропология»: речь идет не об одних способах изображения человека, а прежде всего об оправдании его словом и в слове со всех сторон, что влечет за собой и оправдание мира человеком пишущим /говорящим. Такую телеологическую модель пути мы и обнаружили в «Шинели», впервые реставрировав ее во взаимосвязи трех абсолютов: мира, субъекта, текста. Большинство исследователей до сих пор игнорируют не только антропные символы «Шинели», но и антропологические идеи, целые проекты, изложенные Гоголем в переписке, лекциях, статьях. От невнимания к этой части его наследия постоянно возникает иллюзия, что Гоголь никогда не ставит читателя в известность относительно особенностей и целей своего творческого процесса, отказываясь от мотиваций, провоцируя неведение авторскими оговорками. Исключением являются статьи С. Бочарова, содержащие обширные цитаты из гоголевских писем, привлеченных в качестве
голевских писем, привлеченных в качестве идеологической программы, религиозно-поэтической композиции. Этот материал доказывает устремленность Гоголя к эстетическому универсализму, историософской всемирности; его умение мыслить широкими художественными обобщениями, в рамках которых органично спрягаются различные эстетические установки и пласты культурно-исторического материала.
В заключение мы хотели бы указать на еще одно крупное достижение в области изучения «Шинели», не включенное нами в методологическую базу по причине его особой природы: находясь за рамками научного метода, это событие создало прецедент в гоголеведении, указав специалистам путь преодоления многолетней инерции восприятия «типа Акакия Акакиевича». Мы говорим о режиссере-мультипликаторе 10. Норштейне, впервые поднявшем образ пишущего чиновника на самый высокий уровень обобщения. Перекладочная кукла, составленная в каждом кадре заново из множества кусочков, поражает абсолютной заинтересованностью своей «предельно спокойной, сосредоточенной работой, которую герой выполняет с душевным сопереживанием. Хотя эта работа не имеет ничего творческого и от нее не зависит, быть миру или нет, но само отношение его с листом и буквами, а через них с миром - вот это и есть момент гармонии» [197. стр.84]. Норштейн не решает антропологической задачи: она уже решена в акте письма, в котором Башмачкин получает «магическую точку», пульсирующую, как у всех новорожденных. Режиссер тоже прочитывает повесть как историю «падающую», проецируя исковерканную психологию маленького человека на самые страшные обстоятельства русской истории 20 века, но все-таки главной в мультфильме остается сцена переписывания, в которой персонаж замыкает на себе пространство Петербурга, и обмен между миром, человеком и текстом бесконечен. Важно, что главным прототипом пишущего Акакия Акакиевича Норштейн назвал канон иконописного человека, взятого в позе поклонения: «В сцене с Акакием, когда он чистит перо о рукав (...) сразу проявился этот элемент кротости. Я тогда не думал об иконописи, но, увидев подобный жест в иконе, стал внимательнее смотреть с точки зрения бы-
тового жеста. И открыл для себя бесконечность бытового действия, которым пронизаны иконы» [197. стр.89-90]. Ю. М. Лотман, впервые увидев первые 20 минут фильма, был поражен, по собственному признанию, загадочным, молочно-белым сиянием, исходившим от обыкновенного листа писчей бумаги и от всей фигуры чиновника для письма. [178. стр. 193]. Это был ни «лабораторный» свет, ни «демонический хронотоп», ни «странное мерцание» - это была аура живого прикосновения, которое, по самой смелой ассоциации мультипликатора, сроднило пишущего Пашмачкина с Пушкиным как архетипом Поэта. В свое время именно знакомство с анимационным материалом «Шинели» подтолкнуло нас к разработке средневекового архетипа скриптора как высшего прообраза гоголевского персонажа.
Научная новизна данного исследования состоит в том, что оно впервые представляет творчество Гоголя с точки зрения воплощения в нем архетипа скриптора и средневековой модели письма как созревания буквы в голос, последовательного просветления ветхого человека. Именно фигура скриптора, благодаря выявленным сакральным источникам гоголевского концепта «служения», позволила нам не только связать художественный и литургический периоды гоголевского творчества, но и восстановить его единую динамику как возрастающую, а не апостасийную. По контрасту с ней, «Шинель» - «Выбранные места» - «Размышления о Божественной литургии», составляющие религиозно-мифологический горизонт русской литературы, впервые осмыслены как-своеобразная литературно-богословская / художественно-апологетическая триада. С ее помощью мы показываем, что искомый кеиотический переход осуществляется не в историко-литературной перспективе (от Гоголя к Достоевскому), а в самом гоголевском человеке, который, переписывая, получает надежду. Соответственно этому, целью исследования становится такое оправдание чиновника для письма, которое телеологически влечет за собой просветление ветхой цивилизации словом о братстве. Как и «кенозис», термин «антроподицея» (оправдание конкретного человека) принадлежит П. Флоренскому. Отказ от классического понятия «художественная антропология» объясняется тем,
что в гоголсведении оно вот уже более века употребляется с эпитетом «негативная». Цель мотивирует ряд конкретных задач исследования:
Выделить в творчестве Гоголя скрипторский пласт, исследовать его поливариантную природу и с помощью образов пишущего человека структурировать аспекты «падающей» (апостасийной) и «восходящей» (литургической) эволюции от ранних циклов к «Петербургским повестям» и духовным произведениям;
Найти основания для соотнесения пишущих чиновников Гоголя с ранне-средневековым пластическим каноном писца / переписчика, с сакральной семиотикой письма в практике византийского государственного служения и монашества, а также выстроить апагогическую связь между питом Акакия Акакиевича и его прототипами;
Определить значение и содержание образа пишущего чиновника в русской культуре Нового времени, чтобы установить новые границы «эпохи Гоголя», транслирующей сходное (анекдотическое) содержание в иной жанровый, стилистический и антропологический модус;
Доказать, что «Шинель», герой которой впервые не совпадает со всей литературной традицией и практикой социального действа, - не антижитие и не повесть о несостоявшемся просветлении низшего чиновника в акте письма, а житийное чудо, М-притча о братстве, рождении и сеянии Слова в условиях ветхой цивилизации;
Установить такое антропологическое и телеологическое равновесие между буквой и голосом', чиновником и человеком, чиновником и поэтом, которое противодействует петербургской апокалиптике и мифу о Гоголе-демоне.
Утвердить феномен петербургского текста Гоголя как текста о таком очеловечивании мира, когда не смерть кладется в основу нового порядка вещей, а живое слово, украшающее мир в литургическом чинопоследова-нии человека.
В первой главе настоящего диссертационного исследования мы не ставили перед собой цель рассмотреть историю и технологию различных письменных практик. Мы стремились воссоздать архетип скриптора, сложившийся в эпоху Средневековья. Гоголевский пафос преображения как основная черта его мировоззрения, а также концепт служения - средневековые по своей природе. Исследователи подбирают к «Шинели» и «Запискам сумасшедшего» те или иные контексты религиозной традиции, но приоритеты до сих пор не найдены, дискурсивные инстанции не определены - задача, которую мы попытались решить. В первой главе генетический порядок сменяется хронологическим, когда от идеального сгущения фактов в свете прообраза, от нанизывания текстоп вокруг общей точки зарождения архетипа, мы переходим к анализу сложившегося многообразия индивидуальных скрипторских типов в контексте историко-культурной динамики Запада и Востока. Решающее значение имеет рассмотрение антропологических типов русской культуры «переходного периода», когда фигура пишущего человека стала синтетическим выражением «человек? нового» и символом Золотого века письма. Здесь же поставлен вопрос о влиянии на творчество Гоголя сатирической литературы 16-17 веков, в которой сформировались «бунташные» типы голого и служилого человека, восходящие к традициям смеховой культуры. В финале рассматривается аностасийная («падающая») эволюция пишущих образов-персонажей в ранних циклах Гоголя анализируются пути формирования негативной антропологии обыденного человека.
Вторая глава посвящена оппозиции чиновник / человек в русской литературе 30-х годов XIX века, в которой отрицательный «тип Акакия Акакиевича», низшего чиновника для письма, становится главным объектом третирова-ния, архетипом петербургского текста, функционирующего как анекдоїр Смысловым центром главы является интерпретация «Медного всадника» Пушкина с учетом всех черновых редакций поэмы, показывающих рождение «готового» чиновничьего текста русской литературы, а также становление нового антропологического и художественного кода петербургской повести. Герой поэмы трактуется как элегический чиновник, чья хрупкая идиллия гибнет от столкно-
вения с темной цивилизацией. Рассмотрение проблемы соотношения светского и религиозного дискурсов в русской культуре XIX века дало нам возможность обнаружить в скрииторских проектах Гоголя учительско - ученические парадигмы и традиции «теоцентрического» барокко, воплотившиеся в сочинениях «трансцендентного учителя» Г. С. Сковороды.
Третья глава посвящена «Шинели» и «Запискам сумасшедшего» - ыавным текстам гоголевской антроподицеи. Нашей задачей было описание механизма перехода от раннего творчества Гоголя с его ярко выраженной «падающей» динамикой к «Петербургским повестям», в которых тип Акакия контрастен питу Шпоньки. Именно возрождение семиотических сюжетов письма как сакральной службы (переписывание, неучастие, удержание) способствует преодолению апостасийной энергии. В этом контексте «Шинель» рассматривается нами как житие и сковородинская притча, в строгом соответствии с апологетическими триадами и с 9 ступенями похвального жития, матрицу которого составил в 1914 году X. Лопарев. Маше прочтение повести является парадигматическим: все философские «фабулки» Сковороды, имеющие эквиваленты в тексів Гоголя, образуют сюжет созревания от одного чиновника к братской «двоице». Огромное влияние на жизнь и творчество Гоголя кенотического и демонического архетипов приводит к тому, что в «Записках сумасшедшего» литургическая модель уступает место сюжету о починка ветхого мира и человека, что приводит к обострению антитетических черт петербургского текста, литературное!.і литературы и кризису авторства. В результате художественное творчество Гоголя сменяется религиозным, и одна из главных проблем современного гоголеведе-ния - как соотнести два дискурса? Каким образом религиозное мировоззрение Гоголя отражается в его поэтической системе и наоборот? Ответы на эти вопросы содержатся в четвертой главе: описание литургических контекстов антроподицеи Гоголя нацелено на примирение религиозного и эстетического дискурсов в свете многовековой традиции оправдания словесных искусств. Синтез (S) воплощен в фигуре Акакия Акакиевича. Мы приходим к выводу о том, что в образе пишущего чиновника Гоголь персонифицировал идеальную
сущность русского человека и культурного человечества, вступивших на телео-
^ логический путь созревания, отмеренный сроком в 200 лет.
Мифопоэтический мотив «начать писать» и становление архетипа пишущею человека в эпоху Средневековья
"Начать писать" - древнейший мотив, являющийся вариантом мифопо-этического мотива становления пророка-поэта после того, как пчелы слепили на его губах соты или он вкусил сладкие письмена [99. стр.207,213,214,215]. Позже пластика античной легенды сменяется пластикой ранневизаитийских и христианских преданий, где бытует сюжет «неспособности способного»: Епи-фаний, автор «Жития Сергия Радонежского», повествует о том, что Варфоломей, в отличие от своих братьев, никак не мог научиться грамоте, не приемля те формы, в которых этот дар ему предлагался. У чудесного старца мальчик попросил «паче всего умети грамоту сию», затем вкусил просфору и вдруг стал превосходно читать, писать, смысл толковать [232. стр.379-381]. По происхождению это апокрифический мотив: в «Книге о рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя» противопоставлены два способа получения знаний [3. стр.74-77]. Жития Романа Сладкопевца рассказывают, что этот прославленный в веках поэт сначала был не способен сочинять, пока явившаяся во сне Богородица не дала ему вкусить хартии. Так же объясняет история дар Ефрема Сирина и Иосифа Песнописца. X. Лопарев в исследовании "Греческие жития святых 8 и 9 веков" (часть 1) подводит итоги: "В том случае, когда нужно было объяснить появление у святого необыкновенного дара песенного творчества, агиографы с 10 века усвоили себе библейский образец, будто бы некий святой давал этому мужу съесть свиток; муж проглатывал его и преисполнялся чудного дара творчества» [177. стр.30]. В Византии даже существовал удивительный ритуал: что бы мальчик легче учился грамоте, ему предписывалось написать чернилами на дискосе 24 буквы греческого алфавита, затем смыть их вином и выпить ополоски. "Вы - письмо Христово, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца", - уверяет ново- заветный автор [99. стр.214]. Отголоски ритуала мы находим в "Шинели": Акакий как будто прикасается к исписанной бумаге лицом, потому что на нем, "казалось, можно было прочесть всякую букву, которое выводило перо его". [27. стр.90]. Научение в этом конексте может быть только чудом. Якоб Беме однажды встретил таинственного незнакомца, повелевшего ему читать с тщанием Священное Писание. В течение семи дней Якоб пребывал в странном состоянии, после чего осознал: «моя задача заключается в том, чтобы писать», но «я не для того пишу это и выпускаю в свет, чтобы каждый мог намарать вслед за мною... Ибо дух пронзил меня... я начал писать, как мальчик в школе, и записывал познанное с большим рвением» [127. стр.92-93.97-98]. П. Флоренский в «Рассуждении на случай кончины отца Алексея Мечева» рассказывает, что источником письма было «видение, представшее внутреннему взору о. Алексея: «Ног дает мне детскую веру. Л так я неграмотный, не понимаю» [92. стр.59]. "Главный" миф о происхождении письма был вымышлен Платоном, учеником Сократа, не написавшего за всю жизнь ни одной строки и не скопившего ни одной книги. В конце платоновского диалога "Федр" говорится об укорах фараона Тамуса египетскому богу Тоту - изобретателю письмен. У. Эко в лекции "От интернета к Гуттенбергу" упоминает Гермеса, отождествленного с Тотом в поздний период античности [260. стр.5]. С. Аверинцев настаивает на невыразительности этого мотива, чуждого традиционному облику Гермеса -изобретателя лиры, покровителя ораторов и гимнастов. Греки, по словам исследователя, "ограничивались указанием на то, что к ним буквы были занесены с Востока финикийцем Кадмом... Есть статуи Гермеса в позе оратора, но ни один античный ваятель или живописец не изображал бога с писчими принадлежностями" [99. стр.204]. Главными символами классической каллокагатии Гораций объявил ораторство и физкультуру, то есть постановку голоса и тренированность мышц - именно они цивилизовали дикие нравы первобытных людей. Грамотность была необходимым подспорьем этой каллокагатии, но не могла войти в ряд ее символов, будучи для греков и римлян всего лишь "канцелярщиной", "писаниной". Однако, Эко, соглашаясь с тем, что письмо замешает дар памяти, а Авершщев с тем, что и письме происходит подмена личностного контакта между учителем и учеником «всяким сочинением», обнаруживают очевидную иронию Платона, вложившего все эти сомнения в уста не публиковавшегося и потерпевшего поражение в академическом плане Сократа. X. Л. Бор-хес, называя в числе наследников платоновского опасения самого Христа, лишь однажды написавшего несколько слов на песке, убежден, что предпочтение голоса все же не затмевает влюбленности в букву. Сохранилась ваза V века до нашей эры, изображающая пишущую Афину. Величайшие педагоги в среде русских старцев практически не писали, зато пишет Лвраамий Смоленский, переписывают под личным покровительством Сергия братья-монахи. Когда в IX веке придворная культура вытесняется латинской культурой монастырей, письменный труд уже не будет нуждаться в специальном оправдании, как и средневековые писцы, замурованные в библиотеках и скрипториях.
Оппозиция чиновник/ человек и механизм третироваиия бедного чиновника в русской культуре и. XIX века. Анекдотический генезис «Шипели» и «Записок сумасшедшего»...
В. Зеньковский в «Истории русской философии», осмысляя факг взаимопроникновения «живого» средневековья и светских форм, приходит к очень важному для нас выводу о религиозности культуры, которая развивалась уже за рамками церковной традиции [I56. стр.104-106]. Переход к новым скриптор-ским типам не ослаблял силу воздействия средневекового прообраза до тех пор, пока этот переход был знаком динамики культурного творчества. С начала XVIII века идиллия письма постепенно разрушается, как и своеобразная поэзия труда подьячих. Фигура писаря демоиизируются, что связано с сохранением вплоть до начала XIX века ветхой бюрократической обрядности [257. стр.23].Сложная техника делопроизводства поспособствовала расцвету придворных мифов о канцеляристах - существах иного порядка, как бы «перво-иредках», не имеющих ничего общего с типом пишущего чиновника, узаконенного Табелью о рангах. С 1798 года на каждого государственного чиновника заводится формуляр: человек и его «список» меняются местами. «Он карикатура на письменный формуляр, человек почти без смысла, - скажет барон М. Корф о генерале Эссене, находившемся, по слухам, в полном подчинении у правителя собственной канцелярии Оводова [257. стр.19]. Один из последних примеров писарской чертовщины датируется 1802 годом, когда первым министром финансов стал Л. Васильев, управлявший канцелярией Л. Вяземского. В те же годы личный состав государственной канцелярии уподобляется «гвардии», в которой члены совета - ничто, а секретарь - все [257. стр.71]. По постепенно эта «домашняя» бюрократическая демонология, некогда сменившая чиновничьи феерии петровских и елизаветинских времен, замещается прототипами сюжета о бедном чиновнике, служащем из обедневших дворян и податного сословия, чье письмо больше ничего не решает. Как бы .мало ни был обеспечен служащий, он должен был соответствовать чипу. В рукописных воспоминаниях П. Хавского читаем: «Па 19 году жизни произведен из канцеляристов в коллежские регистраторы (...) В последующие дни везде воспринимали меня как своего брата дворянина, спрашивали, почему нет крепостных?» [257. стр.23-24]. Уже в царствование Павла тема «одежды», «шитья», акции ревизии «ветхого» приобретают масштаб культурной рефлексии: «вещественные» реформы приводят к реформе человека, которого подменяет буква, фикция [208. стр.303]. Этот этап явился отправной точкой для выделения низшего чиновничества на топографическую и культурную периферию. Петербургский человек постепенно вовлекается в непрерывную знаковую баталию, что обуславливает уникальность чиновничьей проблематики в царствование Николая. Посетив Сенат, он остался недоволен ветхой организацией службы, образцовым было признано делопроизводство одной Государственной канцелярии, где переписка бумаг отличалась изяществом, а в должность писцов привлекались каллиграфы из высших сословий. После 1825 года формируется поколение служащей молодежи, собирательный образ которой дан в «Шинели». В журнальный обиход входят понятия «карьеры», «каучуковой спины». Письменные должности, окончательно утратив собственную магию, ассоциируются лишь с «пряжкой в петлице, да болью в пояснице». Например, С. Жихарев так описал свою службу в Иностранной коллегии: «Я думал бог весть какая важность, ан гора родила мышь: перевести 2 листика с французского! Я тут же перевел в один присест...после ушел в любезный казенный департамент болтать». [144. стр.262].
Культура того времени ориентируется на военного человека. В готической традиции солдат одновременно воспринимался и как носитель рационального порядка, и как архаический воин, посредник между мирами. Темная праоснова Петербурга как раз воплощается в ирреальной фигуре военного чиновника. В одном анекдоте семеновцы предстают грозными призраками -мстителями. В «Шинели» обнову Башмачкина воруют люди с усами, и сам герой по ту сторону оказывается «солдатом» с огромным кулаком и большим ростом. В реальном мире на место «маленького» переписчика приходит рослая анонимная фигура. В «Невском проспекте» студент Пискарев пугается во сне «звезды» и «толстого эполета». Вытеснение из культуры скрипторской архаики сопровождается развитием практики третирования низших чинов на фоне возрождения сюжета о Петербурге как преисподней. В этом контексте нонсенсом казалась политика высокопоставленного бюрократа Л. Перовского, любившего окружать себя пишущими людьми, которых он переводил из губерний в министерство, назначая на выгодные места. Это едва ли не единственный след скрипторской идиллии «переходного периода», живо связанной со средневековьем. Петербургский текст формируется как негативный, потому что в элементах метаописания, в показателях модальности, а самое главное - в антропологической сфере главенствует пустота. Первое слово, которое произносит II. И. Тургенев по приезде в столицу в 1817 году - «ничего». Жуковский пишет о мелких, убийственных рассеяниях, когда нельзя иметь души [235. стр.264-265]. Л. Я. Гинзбург приходит к выводу о том, что внутренняя жизнь, душа оставались в эту эпоху делом настолько частным, что не существовало возможности закрепить ее движения в словесных формах [229. стр.46]. По замечанию У. Тод-да, даже те из русских писателей, кого в н. 19 века интересовали вопросы внутренней жизни, говорили о них, используя назидательные места и описывая разрозненные, мимолетные эмоции [229. стр.47]. Когда Б. Гаспаров называет Гоголя первым писателем мирового масштаба, так как его творчество протекало в новых условиях, не ясно, о каких условиях идет речь [133. стр.20]. Более точен А. Михайлов, для которого творчество Гоголя - «эпоха» по контрасту с «анекдотом» на тему «где в Петербурге найдешь человека?». По мнению Михайлова, эпоха, окружавшая Гоголя, и его эпоха не совпадают [191. стр.329].
Ко времени приезда Гоголя в Петербург накопились знаки, украшавшие интерьер литературного сознания эпохи. Цейтлин пишет о сложении таких пассивных знаков в «фабулаторный остов», «эмбрион» сюжета о бедном чиновнике [249. стр.2,5].
«Шинель» в контексте раннего творчества Гоголя. Тип Шиопьки и тин Акакия. Семиотические сюжеты Письма (переписывание, неучастие, удержание) как сакральной службы
С учетом всего вышесказанного, очевидно, что цикл петербургских повестей не является продолжением апостасийной проблематики «Вечсргл...» и «Миргорода»: общие темы, мотивы, образы транспонируются Гоголем в иной жанровый, стилистический, а самое главное - антропологический модус. Целью этого перехода является победа над негативным архетипом обыденного человека, увенчавшего процесс отпадения всего мира от Нога, что выразилось в почернении лика, подмене своих книг, опустении церкви в праздник. Все повести цикла традиционно рассматриваются как торжество «метафизики небытия», особенно «Шинель» и «Записки сумасшедшего», главным героем которых является пишущий чиновник - потомок Шпоньки. Актуализация религиозно-мистической традиции, но мнению исследователей, двигает этот шип по шкале все более острого разделения человека па внешнего и внтуреннего, что усугубляет глубоко амбивалентную природу текстов Гоголя, усиливает бинарный архетип, энергию антиномий. Но когда С. Гончаров настаивает на необходимости более полного описания круга контекстов, он имеет в виду именно неразре-шенность проблемы человека, подрывающую апостасийную целостность гоголевского творчества как падающего начала и до конца. «Шинель» сохраняет сильную семиотическую связь с ранними циклами, но в то же время усложняет их мифологическую модель православным подтекстом - темой любви к ближнему и неестественности одиночества человека как начала, противоположного соборности и братству. На этом этапе творчества Гоголь разрабатывает собственную скрипторскую методику, нацеленную на преодоление разрыва между чиновником и человеком, чиновником и поэтом, канцелярским письмом и письмом сакральным, наконец, между современностью и средневековьем, новейшей историей и старосветской идиллией. Всю вторую половину жизни Гоголь колеблется в выборе между двумя способами де-апостасии: католическим и православным, «чужим» и «своим», и в таких текстах, как «Вий», «Тарас Бульба» и «Мертвые души» это колебание выразилось с наибольшей трагической остротой. Уникальность положения «Шинели» заключается втом, что, избрав фигуру пишущего чиновника в качестве главного образа-персонажа, Гоголь смог примирить дискурсы, создать свой, православный в буквальном, но и широком смысле слова текст, реставрирующий Миргород человечества. Сквозь призму многих традиций скриптор суть место, тот самый центр, который был утрачен в процессе отпадения. Если «Ночь перед Рождеством» завершилась строительством новой хатки, то «Повесть о ссоре...» - образом непраздничной церкви, и тогда канцелярия в «Шинели», на первый взгляд,- доводит до предела тенденцию опустошения мира. Но активизация рассмотренных контекстов возвращает к жизни христианскую топику праздничного, сладкого, сродного труда, символику места, уголка. «Шинель» дает ответ на вопрос из «Вия», «что там написано в этих книгах». В литературе, посвященной Лкакию, недоумение по поводу странной заинтересованности персонажа в своем труде зачастую приводит к предположению, что, может быть, он переписывает вовсе не канцелярские бумаги, а нечто другое? Когтист из «Вия» портит книги, дезорганизует силу Слова, а что делает Башмачкин? Какие есть основания, чтобы утверждать, что он чинит свою поврежденную при рождении природу? Где следует искать корни закрытости сферы внутренней жизни героя, которую С. Гончаров возводит к барочному инфантилизму и нарциссизму Шпоньки?
Найти ответы на данные вопросы необходимо, поскольку именно копии-стская сущность Лкакия до сих пор служит источником негативного, обессмысливающего прочтения «Шинели». Гоголь восстанавливает в ней семиотические основы переписывания как сакрального практики, сложившейся еще на заре христианства в монашеской аскезе. С этой практикой Гоголь непосредственно познакомился во время посещений Оптиной пустыни, сохранившей вплоть до XX столетия атмосферу, описанную В. Топоровым книге «Святость и святые в русской духовной культуре». Структура монашеской общины была ло-сосиой, когда все дела и заботы стояли под знаком собирания «букв» в премудрое «целое», в Книгу - обряд, сопряженный с чудом. Картины монашеских будней - сочетание молитвы, духовного пения, умерщвления плоти, покаяния с физическим трудом и писательской деятельностью, и «только в этой сфере и на этом уровне, между величайшей свободой и смиреннейшим послушанием, творчество развивает свои высшие энергии» [233. стр.290]. И в агиографической практике на первый план выходит аспект послушания, самоограничения, аскетизма пишущего человека, берегущего себя от «пакости» буквенного произвола через беспрекословное подчинение серии запретов на «оригинальные», самовольные ходы. Как отмечает Топоров, создателю жития отказано в праве быть автором-творцом, только - составителем, «композитором», переписчиком, находящимся в ауре уже сотворенного канонического текста, смиренно воспроизводимого. Так, агиограф «Жития преподобного Лвраамия Смоленского» указывает на сладость труда «списывателя» - ключевой фигуры церковно-служебной литературы. В повести-житии о Сергии Радонежском Епифаиий добродетели тихости, кротости, безгпевин и простоты без пестроты складывает в одну общую особенность, которую можно обозначить как такое «перса-гироканис на мир (нулевая на уровне видимого реакция на него), которое не возмущает этот мир (...) В философском смысле это - уступление себя миру, которое дает уступающему высшую степень свободы (...) В религиозном смысле это - недопущение в себя зла мира» [232. стр.396].
Причины актуализации душевно-нравственной степени триад Оригена в визаитмйской традиции и в позднем творчестве Гоголя
Итак, следует смотреть на Гоголя как на такого «последнего», т; торый ближе всех к первым апостолам, апологетам и герменевтам. Отсюда - специфика его эрудиции, телеологические принципы работы с материалом культуры, актуализация этапа письма. С. Гончаров указал на перспективность сопоставления Гоголя с первыми толкователями Библии: Филоном Александрийским, Оригеном, Климентом Александрийским [141. стр. 14-15]. Уже у Филогл складывается модель толкования Священного Писания на основе неоплатонической троичности. Его опыт систематизирует Ориген, чья троичная схема толкования Библии соответствует трем уровням развития человечества. Для начала философ выделяет две ступени письма: буквенную и духовную по аналогии с двумя стадиями развития человека (детство и зрелость). Стоя на низшей ступе-и христианского развития, люди не идут далее буквы, которая есть покрывало Духа, скрывающее внутренний, высший, таинственный смысл. В зависимости от уровня его постижения Ориген выделяет три степени: духовная (те, кто в будущем унаследует блаженство); нравственная (наша душа); буквальная (тело, принадлежащее тем, кто жил прежде нас и имел «зрак раба») [109.стр.2-12-244; 120. стр. 100-101]. Этой триаде соответствуют три формы мудрости: истинное знание; «мудрость века сего» (постижение земного мира с помощью специальных энергий, инспирирующих, например, поэзию); «мудрость князей века сего» (египетская философия») [120. стр.115]. Трем формам мудрости соответствуют три вида разумных существ: небесные (высший вид существ, никогда не отпадающих от Бога); земные (существа, отпавшие по своей воле, но способные еще вернуться иод воздействием учения); преисподние (существа, павшие настолько глубоко, что сами не могут просветлеть и ведут борьбу с людьми, ко глубоко, что сами не могут просветлеть и ведут борьбу с людьми, пытающимися постичь истину) [120. стр.117]. «Шинель» заключает в себе все три схемы, а ее герой динамично располагается между третьей и второй степенями. В. Бычков замечает, что вряд можно говорить о поступательном возрастании гно-сиса у Оригена, это более правомерно в отношении Климента и позднейших апологетов [120. стр.92-93]. Ориген же не устает порицать тех христиан, которые полагают, что Иерусалим будет восстановлен из драгоценных материалов. Он суров к существам и явлениям третьих степеней: «Мы своей рукой пишем расписку наших грехов, а писание Христа напечатлевается на плотяных скрижалях нашего сердца, не чернилами, а Духом живого Бога. Рукописанье согрешений наших Спаситель раздрал на кресте (...) Перестаньте же писать новые списки...ограничьтесь письмом Бога» [109. стр.269].
Когда Барсов утверждает, что схема Оригена есть постепенное созревание от плоти к Духу, он следует православной традиции, для которой огромное значение имеет как раз письменное / буквенное слово, помогающее решить три основные задачи: питание души, укрепление сердца, подготовка к познанию Бога [109. стр.268]. В этом контексте низший уровень получает телеологическую мотивировку. Поскольку для славян свет веры и свет книги, принятие христианства и обретение письменности совпали во времени, письмо не нуждалось в специальном оправдании и тем более в порицании. Вся византийская образность основана на культе книги как засеянного семенами поля (борозда -строка, семя - буква, сеянье - писанье, сбор урожая - чтение). Герменевтическая матрица обогащается сюжетом собирания букв в Премудрое Слово. Благодаря Оригену проповедь впервые стала использоваться не только для произнесения, но и для записьшания с целью максимального воздействия на современность. Негативное отношение к письму и к пишущему человеку - декларативная сторона философии Оригена, далекая от интеллектуальной реальности. В результате именно ему суждено было оказать огромное влияние на грекоправо-славное богословие, а его методика легла в основу александрийско-каппадокийского символизма. Кроме того, Ориген заслуженно считается предтечей монашеского гпосиса, сложившегося со временем в концепт медленного созревания человека от буквы к духу. Скорректированные аспекты экзегезы Оригена обнаруживаются, например, у Десницкого: «Как в естественном состоянии младенец, родившися, не вдруг мужем, совершенным человеком становится, но мало помалу приходит от возраста в возраст...так точно и в духовном состоянии человек не вдруг может из ветхого учиниться святым, но мало помалу доходит до совершенства через разные духовные упражнения» [31. стр.87]. Такая же «естественная» лестница намечена Гоголем в «Шинели»: «Все земные события, история, судьбы отдельных лиц, каждая йота или кавычка Писания заключает в себе высший смысл (...) мы покрыты прахом земли, но образ Божий существует в нас (...) когда вы изгладите эти краски, воссияет в вас вновь образ, созданный Богом» [109. стр.270]. В соответствии с библейским оламом и сквозь призму православной экзегезы система Оригена может быть представлена следующим образом: 1. Буквальный уровень - нравственный уровень - духовный уровень; 2. Мудрость князей мира - мудрость века сего - истинное знание; 3. Преисподние существа - земные существа - небесные чины.
Подход к «Шинели» как к первому тому телеологической трилогии позволит избежать негативного толкования. Поступательное размещение уровней Оригена ясно показывает, что Башмачкин преодолевает низшую степень: в акте письма просветляется его зрак раба, тело темного рода и египетская мудрость. Несмотря на глубочайшее отпадение героя под предводительством Петровича, он успевает посеять нетленные слова и дважды образовать братскую двоицу внутри царства мертвых. Движение от буквы к смыслу имеет целью осияние души божественным светом, о котором писал в 11 веке Симеон Новый Богослов и который, нисходя на человека, настолько преображает его духовную и телесную структуру, что и он начинает излучаться (свидетельства о сиянии лица самого Симеона, ведущего литургию) [120. стр.530-531]. Световая эстетика византийцев, целиком средневековая, утратила свою актуальность в Новое время, символизированное петербургскими фонарями. В «Шинели» соблюдено симеоновское противопоставление света внешнего и внутреннего: