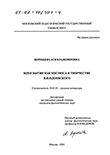Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. «Мир мне чужой, но стройный и прекрасный» проблема истины-равновесия
1.1. Истина-равновесие в ранних стихах Н. Гумилева и художественный гнозис романтиков: поиск гармонии
1.2. Истина-синтез в «творимых» мирах акмеизма и романтизма: сотворение гармонии
1.3. Истина-инобытие в художественных мирах Н. Гумилева и поэтов «озерной школы»
Глава 2. «Не знаю я, что значит бытие...»: проблема инобытия в художественных исканиях Н. Гумилева и С. Т. Кольриджа
2.1. «Огонь» как «логос» художественных миров
2.2. Инобытие как мир: трагедия творения
2.3. Мир как инобытие: трагедия познания
Заключение
Список использованной литературы
- Истина-равновесие в ранних стихах Н. Гумилева и художественный гнозис романтиков: поиск гармонии
- Истина-синтез в «творимых» мирах акмеизма и романтизма: сотворение гармонии
- «Огонь» как «логос» художественных миров
- Инобытие как мир: трагедия творения
Введение к работе
Проблемы взаимодействия творчества Н. Гумилева с предшествующей и современной литературно-философской традицией всегда привлекали повышенное внимание отечественных и зарубежных гумилевоведов. Анализируя принципы сотворения гумилевской поэтической вселенной и особенности гумилевской художественной гносеологии, раскрывая первоисточники идей и образов в произведениях поэта, ученые устанавливают характер отношений гумилевской поэзии с широким кругом различных идей, оказавшихся востребованными в эпоху глубокого мировоззренческого кризиса, переживаемого российской культурой в начале XX в., когда «изменился весь строй и порядок понятий о действительности, изменился строй и порядок мыслей о моральных ценностях, углубилась антиномия между личностью и обществом, догматические решения основных противоречий жизни вновь стали проблемами и только проблемами».1
Однако, уделяя особое внимание осмыслению поэтом учения И. Канта и влиянию на него православной эсхатологии, анализируя элементы восточной духовности и оккультные мотивы в его текстах, прослеживая параллели с учениями Гераклита Эфесского и Ф. Ницше, антропософией и теософией , авторы гумилевоведческих трудов нередко оставляют за рамками своих исследований взаимосвязи художественного мироздания Н. Гумилева с идеей, которая составила основание художественно-философских исканий русской литературы в тот момент, когда «мир и природа стали для человека чем-то особенно чужим, роковым и на него тяготеющим». С идеей, которую сами поэты и мыслители определили как «идею романтическую», подразумевавшую «органическую культуру и органический строй общества» , поиск «новой связи с природой и ее стихиями», установление «гармонии мировых сил».
Для русских художников-модернистов, ощутивших необходимость выстоять под напором хаоса, который размывал «песчаные обрывы материка истории и культуры» , и вновь стать «сынами гармонии» , особенно значимым становится поиск единомышленников среди поэтов европейского романтизма рубежа XVIII-XIX вв., выдвинувших в качестве идеала «преодоление противоположностей, стремление к синтезу... разума и чувства, сознания и бессознательного, природы и духа, личности и общества, особенного и всеобщего, посюстороннего и потустороннего». Гумилевские современники-символисты, как правило, избирают в качестве ориентира романтизм немецкий с его специфическими представлениями о совмещении противоположностей и достижении абсолютной гармонии и красоты, которые нашли отражение в мотивах призрачности конечной земной действительности и «возвращения» в истинный, бесконечный мир.9 Для Гумилева же, стремящегося к «большему равновесию сил», более близким оказывается тот способ гармонизации хаоса, который был предложен и опробован старшими английскими романтиками, в чьих построениях «идея в форме духовности или субъективности» не перевешивала «природную чувственную форму».10
Но если проблема генетических связей творчества западноевропейских и русских романтиков и поэзии русского символизма является достаточно хорошо изученной11, то воплощение романтической идеи в поэтических исканиях Гумилева до настоящего времени не получило достаточно подробного освещения. Сам поэт признает, что миры, творимые поэтами-романтиками, оказывали на него «гипнотизирующее действие»12; говорит о том, что творческие искания современных поэтов «сродны» поэзии С. Т. Кольриджа, В. Вордсворта, Р. Саути, по-своему примирявших «миры невидимый и видимый»13; неоднократно ссылается в своих программных работах на поэтический и теоретический опыт «озерной школы».1
Истина-равновесие в ранних стихах Н. Гумилева и художественный гнозис романтиков: поиск гармонии
Ведь анализируя «семантическую систему, определяемую знаками начала движения, пути и цели», которая оказывается «определяющей для стилистической и поэтической специфики очень широкого круга произведений Гумилева разных лет творчества»77, мы обнаруживаем, что гумилевский «путь» (вернее - «черные пути») свершается в сопровождении не только «привыкшего к сумрачным победам», но и прочих странных, зловещих и часто враждебных спутников. Среди них уже на начальном этапе находятся и беспощадный «бог Тревоги» («Избиение женихов»), и «грусть ледяная», и мысли о «счастье без рая» («Осень»), и жуткий «Призрак Счастья» («Ягуар»). И тот контекст, в котором функционируют гумилевские «вышел», «иду», «шли», «достигли», при всем желании трудно расценить как фон, на котором поиски не только «христианской», но и вообще «Истины» может увенчаться успехом : Я долго шел по коридорам, Кругом, как враг, таилась тишь... Я подошел, и вот мгновенный, Как зверь, в меня вцепился страх... Гумилев, 1, 149. Я шел один средь трав высоких, Я шел и плакал тяжело... Гумилев, 1, 156. Миро- и самоощущение гумилевского героя не претерпевает существенных изменений и к началу 1910-х гг. То есть к тому времени, когда, как полагают исследователи, «с безумствами 1906 - 1908 гг.» было покончено, Гумилев уже «вполне освободился от декадентства» и «чрезвычайно опасного имморального уклона», и гумилевский странник уже мог быть «идентифицирован как Христос». В творимой поэтом художественной реальности, где, по мнению ученых, в качестве итога странничества стало отчетливо видеться «воцерковление» и «откровение Царствия Небесного», меняется, на самом деле, немногое. По гумилевским «лесам, горам и плоскогорьям» «бегают свирепые убийцы», жаждущие «свежей крови» («Военная», 1910). А во «Встрече» (1911), где герой, на первый взгляд, имеет дело уже совсем не с тем миром, с которым он столкнулся в «Выборе» или «В пути» (теперь он видит и блеск ручья, и зеленеющие платаны, и, как кажется, преисполнен совершенно иным мироощущением - он молится, и у него «звенит душа»), вообще утверждается неизменность всего прежнего:
И все же темная тоска Нежданно в поле мне явилась, От встречи той прошли века, И ничего не изменилось. Гумилев, 2, 46. Более того - все же встретив на своем пути Того, кто направляется к «раю», гумилевский герой теперь уже точно узнает, что путь туда, как и прежде, остается для него закрытым: Он руку оттолкнул мою И отвечал: «Не узнаю!». Гумилев, 2, 47. О невозможности осуществления какого-либо идеала речь идет и в «Возвращении Одиссея», где в качестве возможной цели поиска возникают не мир гармонии и истины, а «бездна» и «рок»: Так! Но кто, подобный коршуну Над моей душою носится, Словно манит к року горшему, 79 Зобниы Ю. В. Странник духа. С. 30 - 33. С новой кручи в бездну броситься. Гумилев, 1, 227. А также в стихотворении «Как труп, бессилен небосклон...», где констатируется результат исканий равновесия: несостоятельность полюсов, которые своим взаимодействием и должны были создавать гармоничный мир: Как труп, бессилен небосклон, Земля — как уличенный тать .. . Но где же солнце, где луна? Где сказка - жизнь и тайна - смерть? Говорится здесь и о несостоятельности человека на пути познания: Ум человеческий смущен, В его глубинах - черный страх, Как стая траурных ворон На обессиленных полях. Гумилев 1, 160. Это осознание бесперспективности исканий, казалось бы, полностью подтверждает взгляд на Гумилева как на «разочаровавшегося в символистской трактовке художественного познания «агностика», нашедшего точку опоры в кантовскои «критике чистого разума» и утверждающего новое, иное видение возможностей художника, постигающего мир; противопоставляющего высшей ценности символизма — полному знанию о мире, другую, акмеистическую ценность — ценность незнания.
Действительно, как совершенно обоснованно указывают исследователи-гумилевоведы, основатель акмеизма в ходе своей полемики с символистами («гностиками», декларирующими возможность познать «все мироздание в его трансцендентальной полноте») был очень близок к известным кантовским положениям. Если Кантом устанавливаются пределы разумного познания мира, то Гумилевым проповедуется «ценность незнания», которая заключается в том, что последнее «дает возможность верить в то, что разум целомудренного художника-акмеиста не может познать». Если Кант пишет: «Наблюдения и вычисления астрономов научили нас многому, достойному удивления, но самый важный результат их исследований, пожалуй, тот, что они обнаружили перед нами бездну нашего невежества; без этих знаний человеческий разум никогда не мог бы представить себе всю огромность этой бездны»; то, по Гумилеву, «вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе».82
В «Credo» знание и вера еще рассматриваются в качестве двух взаимодополняющих сторон одного процесса, и гумилевское «знаю» вовсе не исключает возможности «верю»: Я знаю, там звенело пенье Перед престолом красоты, Когда слетались, как виденья, Святые белые цветы. И, жарким сердцем веря чуду, Поняв воздушный небосклон, В каких пределах я ни буду, На все наброшу я свой сон. Гумилев, 1,38. Однако впоследствии (в соответствии со следующим признанием Канта — «...Я должен был уничтожить знание, чтобы дать место вере, ибо догматизм Там же. Гумилев Н. Письма о русской поэзии. С. 17. метафизики, то есть стремление идти вперед без критики чистого разума, является источником всякого неверия»), Гумилев приходит к выводу о том, что «истинный мудрец всегда ограничивает свое любопытство, помня о том, что есть сферы, недоступные для человека, — то священное, тайное Начало бытия, в Которое можно только верить».83 Эти образы косного разума; Пузыри, которые, сверкая, появляются и исчезают В лепете философского тщеславия. Мне нельзя безнаказанно говорить о нем, О Непостижимом! Кроме как, трепеща, Хвалить его...
Истина-синтез в «творимых» мирах акмеизма и романтизма: сотворение гармонии
Отличительной чертой художественных систем, создаваемых как Н. Гумилевым, так и английскими романтиками, явилось одновременное присутствие в них различных групп мотивов, отражающих представления поэтов о соотношении идей истины, гармонии и инобытия. В частности, мотивов поиска гармонии и истины в инобытии; мотивов сотворения гармоничного инобытия при помощи слияния противоположностей, когда истинным становится процесс синтеза; мотивов, связанных с совмещением представлений об истине и гармоничном инобытии. В данном разделе анализируются особенности пути гумилевских лирических героев к «иному»; в контексте творческой полемики с современниками, а также во взаимосвязи с поэтико-теоретическими исканиями поэтов «озерной школы» прослеживается формирование идеи синтеза в художественном мироздании Н. Гумилева, когда на передний план выдвигается мысль о создании мира гармонии и равновесия.
Параллельно с осознанием безрезультатности поисков идеала в данной действительности (в частности, в мире «природы») в поэтической системе Н. Гумилева зарождается мысль о неком гармоничном ином. Так, например, в стихотворении «Воспоминание» мы обнаруживаем не только констатацию бессмысленности и «ложности» поисков мечты здесь, «в жизни», — Тот сон, что в жизни ты искал, Внезапно сделается ложным, И мертвый черепа оскал Тебе шепнет о невозможном. - но и вторую часть оппозиции: ожидание иного у других «берегов»: Но миг! И, чуя близкий плен, С душой, отдавшейся дремоте, Ты промелькнешь средь белых пен В береговом водовороте. Гумилев, 1, 243. Примеры подобного соприсутствия мы видим уже в самых ранних текстах поэта.
В «Романтических цветах» в стихотворении «На мотивы Грига» пути лирического героя (в данном случае — пути по морю: «...И в лунной грезе морская влага / Еще прозрачней, еще чудесней...»), отказу от прежде манящих «замков», которые оборачиваются лишь «грезой» («Родятся замки из грезы лунной, / В высоких замках тоскуют девы, / Златые арфы так много струны, / И там маняще звучат напевы»), совершенно отчетливо сопутствует устремленность к «иному»:
Но дальше песня меня уносит, Я всей вселенной увижу звенья, Мое стремленье иного просит, Иных жемчужин, иных каменьев. Гумилев, 1, 69. И теперь уже на этот новый мир - иные звенья вселенной — переносятся представления о равновесии и об истине:
А на высотах, столь совершенных, Где чистых лилий сверкают слезы, Я вижу страстных среди блаженных, На горном снеге алеют розы.
Гумилев, 1, 70. На новом уровне художественного мироздания могут быть достигнуты гармония «лилии» (веры, чистоты) и розы (страсти) (кроме того, в мистических традициях в паре белое-красное, считающейся conjunction solis et lunae — соединением солнца и луны, происходит разрешение антиномии противоположных сил).
Пример параллели путь — истина — новое бытие мы обнаруживаем и в стихотворении «Искатели Жемчуга», где говорится об открывающимся за водами и глубинами новом «красивом мире».Ведь здесь путь к новым «берегам» осуществляется одновременно с поиском «жемчуга», который «используется для обозначения духовных сил» («От зари / Мы, как сны; / Мы цари / Глубины / ... Жемчугов ... / Уж готов / Полный груз») (Гумилев, 1, 88). И, таким образом, «охотник за жемчугом является искателем истины: он опускается в море материальной иллюзии в поисках понимания, называемого посвященными драгоценнейшей жемчужиной».
Совмещение представлений о гармонии и о новом мире, где возможно счастье, мы видим и в «Зачарованном викинге»:
Зачарованный викинг, я шел по земле, Я в душе согласил жизнь потока и скал .. . В ярком солнечном свете — надменный павлин, В час ненастья — внезапно свирепый орел, Я в тревоге пучин встретил остров ундин, Я летучее счастье, блуждая, нашел.
И ладья моя так легка. Вообще же «философия движения», являющаяся «основой художественного мировидения поэта» , приобретает со временем все более явный «гносеологический» уклон, и гумилевскии лирический герой уже в «Жемчугах» оказывается не просто способным «считывать с текста природы» содержание, «недоступное взгляду непосвященного».9 Так, в цикле «Капитаны» за внешней традиционно романтической канвой ощущаются и совершенно иные идеи. Ю.В. Зобнин особое внимание обращает на следующие гумилевские строки: «Вы все, паладины Зеленого Храма, / Над пасмурным морем следившие румб, / Гонзальво и Кук, / Лаперуз и де Гама, / Мечтатель и царь, генуэзец Колумб! / Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбий, / Синбад-Мореход и могучий Улисс, /
«Огонь» как «логос» художественных миров
Сотворение «высшего совершенства» — мира, в котором, наконец, было достигнуто полное слияние абсолютных противоположностей, должно было знаменовать собой и для Н. Гумилева, и для Кольриджа разрешение проблемы установления гармонии и постижения истины. Однако важнейшим свойством художественного мироздания как русского, так и английского поэтов, оказалась его непрерывность - постоянное взаимодействие всех элементов, приводящее к появлению все новых частей. И между «множествами» Кольриджа, и между множественными «иными возможностями бытия» Гумилева возникают промежуточные звенья, не позволяющие разомкнуться художественно-онтологической цепи и препятствующие достижению полностью гармоничного состояния. Неотъемлемым элементом данных и новых реальностей в поэтических системах Гумилева и Кольриджа становится образ огня, в котором возникают и исчезают художественные миры и в котором сгорают и возрождаются лирические герои.
В лирике Н. Гумилева об особом значении «огня» речь идет уже в самых ранних произведениях «Пути конквистадоров». Здесь впервые звучат и восхищение его «красивой яркостью» (Гумилев 1, 82), и желание быть «сожженным»: О миг, не будь бессильно плоским, Но опали, сожги меня И будь великим отголоском Веками ждущего Огня. Гумилев, 1, 87. Здесь же впервые происходит и непосредственное столкновение пламени и лирического героя: Лазурных глаз не потупляя, Она идет, сомкнув уста, 102 Как дева пламенного рая, Как солнца юная мечта. Гумилев, 1, 47. На этом начальном этапе своего пути гумилевский герой к встрече с первой «созданной из огня» оказывается неготовым: Он видит деву, блеск огнистый В его очах пред ней потух.
Гумилев, 1, 48. Однако смущение, в которое повергает его «пламенное» создание, превращается в точку отсчета в неудержимом стремлении к слиянию с огненной стихией. А строки о «палящем зареве мечты» (Гумилев, 1, 48), в котором «горит» и сам царь, потерявший «деву солнца», и его мир, становятся своеобразным прологом к огненным смерчам и кострам из «Завещания» и «Лесного пожара», «Больной земли», «Открытия Америки», «Природы», из текстов «Шатра» и «Огненного столпа».
Как правило, образ огня, возникающий в гумилевских текстах, анализируется в контексте взаимодействия поэта с духовными исканиями его современников-символистов или же в русле библейской традиции вне всякой связи с важными для Гумилева идеями равновесия, синтеза, инобытия. Однако при сопоставительном анализе гумилевского «пламени» с образами огня, пламени, костра, созданными русскими символистами, а также при тщательном соотнесении «огня» Гумилева с образами Ветхого и Нового Заветов выясняется, что традиционные трактовки не являются столь несомненными.
Ожидание всесожигающего огня, будь то пламя, о котором сказано в Евангелии от Луки: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (XII, 49) , или же знамения антихриста ; «невидимый запредельный свет горы Фавор»159 или «злое пламя земного огня»1 , составляло средоточие русских эсхатологических настроений конца XIX - начала XX веков.
«Мы всегда окружены бесконечным миром, для которого мы закрыты. ... И нужно, чтобы огонь сошел с неба, чтобы расплавить затверделость нашего обыденного сознания. ... Нужна катастрофа сознания, чтобы раскрылись нам целые миры. Огонь духовной лавы должен расплавить наше сознание. ... Откровение есть огонь, исходящий от божественного мира, опаляющий нашу душу, расплавляющий наше сознание, сметающий его границы», - убеждает современников Н. Бердяев. О «воспламеняющей, очищающей и перерождающей силе религиозного огня, первая искра которого зажигается в отдельных душах, но который разгорается потом во всемирноисторический костер», — пишет С. Булгаков.
Гораздо более осязаемым, чем катастрофы в сфере духа или «отдельные лучи и отблески божественного мира», проникающие в земную действительность1 , пламя предстает в декларациях поэтов русского модернизма, воспевавших огонь и огненную стихию. Так, у Ф. Сологуба звучит призыв к «огненному крещению»: Стремленье гордое храня, Ты должен тяжесть побороть, Не отвращайся от огня, колдовского и фокуснического свойства. Достоверно известно, dass sein Hauptwerk ein Feuerwerk sein wird: «И творит знамения великие, так что и огонь заставляет нисходить на землю перед лицом людей» (Апокал. XIII, 13) » (Соловьев Вл. Краткая повесть об антихристе // Соловьев Вл. Сочинения в 2 т. Т. 2. 428). Сжигающего плоть... И как же к цели ты дойдешь, Когда не смеешь ты гореть? Сологуб, 177. В произведениях К. Бальмонта огонь возникает и в качестве предмета поклонения — Молиться пламени сознанье не устало, И для блестящего мне служат ритуала Уста горячие, и солнце, и вулкан. Бальмонт, 323; и в образе «пожара беспредельного» («И плыли они без конца, без конца...»), и как «страшный рубеж» («Лесной пожар») и «огонь очистительный» («Гимн Огню»), наконец, как «предвещанье» гибели: Я окружен огнем кольцеобразным, Он близится, я к смерти присужден... ... Я гибну. Пусть. Бальмонт, 213. В творчестве поэтов-символистов эта последняя функция являлась, пожалуй, наиболее распространенной, проявляясь в своих многообразных вариантах в построениях художников и старшего, и младшего поколений. Сначала поэтами предрекалась гибель отдельного человека, бессильного каким-либо образом противостоять стихии огня, как, например, в приведенном бальмонтовском фрагменте. Со временем модернистское пламя разгорается все сильнее, захватывая все более обширные области художественного бытия. И вот уже у Бальмонта звучит мысль не об индивидуальном горении, но о набирающем силу неком всемирно-космогоническом огне: И в страшных кратерах - молитвенные взрывы; Качаясь в пропастях, рождаются на дне 105 Колосья пламени, чудовищно-красивы, И вдруг взметаются пылающие нивы, Устав скрывать свой блеск в могучей глубине. Бальмонт, 323.
Инобытие как мир: трагедия творения
Особые свойства «огня», напрямую повлиявшие на специфические характеристики новых миров, возникающих в художественной системе Кольриджа, прослеживаются в целом корпусе текстов поэта. В «Поэме о Старом Моряке» огонь с самых первых строк таит в себе угрозу, олицетворяя злое начало и готовя читателя к мысли о том; что рассказ морехода о своем 129 плавании не будет иметь счастливого конца. Приведем лишь некоторые примеры из первых строф: All in a hot and copper sky, The bloody Sun, at noon, Right up above the mast did stand. Coleridge, 7. About, about, in reel and rout The death-fires danced at night; The water, like a witch s oils, Burnt green, and blue and white... Coleridge, 11. В горячем и медно-красном небе Кровавое Солнце в зените Стояло прямо над мачтой... Всюду, всюду, в стремительном вихре Кружились в ночи огни смерти; Вода, как краски ведьмы, Горела зеленым, и синим, и белым... Представления автора о демонической сущности огня находят отражение также и в том, что он с самого начала связывает и сам огонь, и огненное солнце с образом запада (местоположения страны мертвых), придавая тем самым описываемым сценам особенно мрачный колорит: The western wave was all a-flame. The day was well nigh done! Almost upon the western wave Rested the broad bright Sun; When that strange shape drove suddenly Betwixt us and the Sun. Coleridge, 19. На западе вся волна была в огне, День уходил; И над самой западной волной Повисло огромное горящее солнце; Когда странный призрак вдруг Между нами встал и ним. Не менее отчетливо «злобная» и «жестокая» сущность огня передается Гумилевым в «Открытии Америки», где так же, как и в «Поэме о Старом Моряке» Кольриджа, обыгрывается зловещий закат солнца: Все прошло как сон! А в настоящем Смутное предчувствие беды, Вместо славы - тяжкие труды 130 И под вечер — призраком горящим, Злобно ждущим и жестоко мстящим, — Солнце в бездне огненной воды. The skiff-boat neared: I heard them talk, "Why, this is strange, I trow! Where arc those lights so many and fair, That signal made but now? ... It hath a fiendish look (The Pilot made reply)... Coleridge, 35.
Гумилев, 2, 23. Строки двух авторов объединяет не только сам центральный образ -угрожающий огненный закат, но и сопутствующие ему явления: огненная вода, присутствующие в обоих текстах представление о солнце как о жестоком призраке. При этом сам Гумилев, внеся некоторые коррективы в текст Кольриджа в процессе перевода поэмы, как представляется, в полной мере раскрыл «скрытую» суть и английского, и своего собственного «огня». Если Кольридж, говоря о «злом» характере своего пламени, только намечает связь всего происходящего с «бесовскими» силами, Челнок приблизился: Я слышал, как они говорили,
Все это странно, я думаю! Где те яркие и многочисленные огни, Что привлекли нас сюда? ...это был жестокий, враждебный взгляд — Воскликнул кормщик... — то русский поэт сразу же акцентирует внимание именно на «дьявольской» стороне представленного в поэме акта: Челнок был близко. Слышу я: - Здесь колдовства ли нет? Куда девался яркий тот, Нас призывавший, свет? - То были взоры сатаны\ (Так кормщик восклицал). Кольридж С. Т. Стихи. С. 173 - 174. Семь Лампад, плывущих вокруг трона, (Тайные Слова Небес), Разрешающий дали знак... 131 Эта особенность кольриджевского огня подтверждается аналогичными образами, которые встречаются и в других произведениях поэта. В «Оде уходящему году» автор с самого начала задает двуплановый характер своего «пламени», контаминируя библейские и языческие образы, помещая рядом с новозаветными «лампадами» — Till wheeling round the throne the Lampads seven, (The mystic Words of Heaven), Permissive signal make... Coleridge, 74. — «Божества Природы»: Кровожадного Духа, прекрасного Духа Земли, Духа Природы, а в финале — и Бога Природы (который в переводе М. Лозинского совершенно справедливо отождествляется с Перуном ).