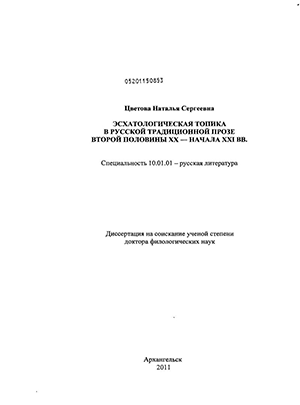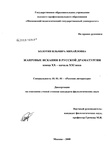Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Православная эсхатология в современном гуманитарном сознании
1.1. Философия и культурология о православной эсхатологической концепции как религиозно-мировоззренческом феномене 21-39
1.2. Русская литературная эсхатология в отечественном литературоведении 39-51
Глава 2. Эсхатологическая топика в русской прозе советского периода
2.1. Кризисная литературная эсхатология эпохи революционного Апокалипсиса 52-82
2.2. Эсхатологическая топика в русской традиционной прозе второй половины XX века
2.2.1. Феномен «деревенской прозы» в контексте русской традиционной литературы второй половины XX века 83-109
2.2.2. Смерть праведницы в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор» 109-125
2.2.3. Национальный хронотоп жизни в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы» 126-150
2.2.4. Бытийные мотивы в поздней лирико-философской прозе В.П. Астафьева 151-190
2.2.5. Личная эсхатология шукшинских «чудиков» 190-208
2.2.6. Дискурс смерти в прозе В.Г. Распутина 209-236
2.2.7. Экзистенциальная природа мотива смерти в повести Ю. Трифонова «Обмен» 236-248
Глава 3. Мортальные мотивы в прозе последних десятилетий
3.1. Онтологическая проблематика в трактовке постмодернизма 249-257
3.2. Концепт «смерть» в современных массовых текстах 258-270
3.3. Формирование новой литературной эсхатологической модели в прозе рубежа ХХ-ХХ1 веков 270-276
Заключение 277-281
Библиография 281 - 295
- Русская литературная эсхатология в отечественном литературоведении
- Феномен «деревенской прозы» в контексте русской традиционной литературы второй половины XX века
- Бытийные мотивы в поздней лирико-философской прозе В.П. Астафьева
- Концепт «смерть» в современных массовых текстах
Введение к работе
Степень изученности темы. Русская литературная эсхатология новейшего времени – одно из конституциональных явлений национального культурного пространства. Но несмотря на многолетний интерес филологии к самым разнообразным и менее значительным формам контакта художественного творчества и теологии, к отечественной онтологии и духовной традиции, к апокалиптике, современные теоретико- и историко-литературные исследовательские методики и подходы к данному сегменту словесности находятся на этапе становления.
Сложившаяся ситуация отчасти обусловлена тем, что вплоть до начала 1990-х годов высказывания об эсхатологической направленности мысли и мирочувствования современных писателей, о возможности соотнесения духовного и эстетического начал новейшей прозы, о наличии выражающего эту соотнесенность глубочайшего подтекста в силу известных причин воспринимались не только официальной критикой и литературоведением, но и всем гуманитарным сообществом почти как крамольные. Историко- и теоретико-литературные стереотипы, возникшие в советскую эпоху, оказались настолько мощными и жизнеспособными, что и в условиях преодоления многих идеологических табу они продолжают оставаться серьезным препятствием, в частности, при исследовании бесспорно, однозначно проявляющихся эсхатологических установок безрелигиозного или неконфессионального сознания, воплощенного в недемонстративном, глубинном модусе. До сегодняшнего дня предпринимались единичные попытки анализа эсхатологических мотивов в творчестве отдельных художников, значительно реже – художественных алгоритмов освоения эсхатологической топики разными школами и направлениями (статьи Е.В. Азаровой, Е.И. Алещенко, М.А. Глушковой, Е.В. Аленькиной, А. Дырдина, Н.Н. Козновой, В.В. Компанейца, О.А. Лекманова, М.К. Лопачевой, О.В. Молодкиной, Л.А. Ольшевской, Е.А. Осьмининой, Т. Рудомазиной, Т. Рыжкова, В. Сисикина, И. Сисикиной, А. Татаринова, кандидатские диссертации А.Н. Варламова, С.Н. Сморжко и др.).
Актуальность проблематики диссертационного исследования обусловлена
– прямой соотнесенностью с антропологической направленностью большинства сегодняшних филологических изысканий, с общей нацеленностью современной отечественной гуманитарной мысли на постижение национального мироощущения;
– необходимостью оппонирования не только редукционалистской и релятивистской антропологии (фрейдизм и постмодернизм) и соответствующим трактовкам доминантных мотивов новейшей прозы, но и субъективно-оценочной интерпретации произведений прозаиков-традиционалистов;
– назревшей потребностью в создании целостной, непротиворечивой по сути своей историко-литературной концепции.
Главное – очевидной потребностью в реинтерпретации ключевых фактов истории советской литературы, которая не может быть удовлетворена без переосмысления темпоральной составляющей традиционалистского вектора новейшей русской прозы, позволяющего снять упреки во влечении к Танатосу или в катастрофичности художественного сознания, адресуемые критикой крупнейшим художникам завершившегося столетия.
Научная новизна диссертации определяется
– системным подходом к анализу русской литературной эсхатологии новейшего времени: ретроспективным и интердискурсивным характером предпринятого исследования;
– наличием необходимых в данном случае культурологического и теологического экскурсов;
– естественным и логически оправданным разграничением личной (частной, малой) и общей эсхатологии, эсхатологии и апокалиптики, за пределы которых выводится мортальная – танатологическая и экзистенцианалистская – художественная рефлексия;
– культурно и художественно обусловленной сосредоточенностью на анализе литературного воплощения частной эсхатологии, которая как переживание личного жизненного времени составляет духовную оппозицию апокалипсическому напряжению современной эпохи.
В реферируемой работе впервые литературный материал исследуется через актуализацию универсально-личностной эсхатологической топики, ориентированной на преодоление человеком (литературным персонажем) страха смерти.
Объектом предпринятого исследования является русская традиционная проза второй половины ХХ – начала ХХI веков.
На принципы отбора эмпирического материала повлиял характер предмета исследования. Внимание к эсхатологическому литературному дискурсу определило интерес к произведениям, в большинстве случаев являющимся образцами высокой литературы, с наибольшей очевидностью представляющим три кризисные эпохи отечественной истории – революционную, время предчувствия катастрофы в застойный период и кульминационный этап перестройки. Авторы отобранных для анализа текстов, преодолевая эпохальную сосредоточенность на социально-исторической проблематике, стремились к постижению особенностей национального психо-ментального комплекса.
Предметом исследования стала художественная эффективность текстовых реализаций эсхатологической топики. Опора на топику при литературоведческом анализе традиционных текстов, отличающихся особого рода кодифицированностью, позволила продемонстрировать внутреннее единство анализируемого материала, избежать противопоставления формы и содержания и минимизировать опасность ложной или произвольной интерпретации, дала возможность обнаружить зафиксированную в художественных образах сопряженность всех граней бытия: искусства, морали, памяти, воображения, хаоса и гармонии, времени и пространства, общественной и индивидуальной жизни.
Цель диссертационного сочинения заключается в исследовании новейшей русской литературы, ее ядра (традиционной прозы) – как литературно-эсхатологического феномена, характеризующегося определенной системой топосов, структура которых сложна, а словесное выражение неразрывно связано с доминантами духовной эволюции мира и человека.
С этой целью соотносятся конкретные задачи исследования:
– обоснование необходимого терминологического инструментария;
– изучение особенностей рецепции православной эсхатологической концепции, получившей наиболее определенное, системное воплощение в Откровении Иоанна Богослова;
– формирование общего представления о наиболее значительных этапах эволюции отечественного литературно-эсхатологического дискурса с преимущественным вниманием к апокалипсически-напряженным периодам;
– анализ «деревенской прозы» как уникального варианта русской литературной эсхатологии через описание соответствующей топики;
– выявление идейно-эстетической перспективы развития русской традиционной прозы, не исчерпывающейся и не ограниченной литературным опытом «деревенщиков»;
– исследование момента распада классической литературно-эсхатологической традиции, восстановленной «деревенской прозой», и художественных способов и приемов ее модернизации, создаваемых новым поколением литераторов;
– осмысление на материале постмодернистской прозы и медийных текстов этапности наблюдаемого в современной словесности увлечения танатологией.
Теоретическая основа диссертационного исследования – идеи интегративного характера, которые в отечественном литературоведении впервые отчетливо были обозначены в двухтомном издании материалов Всесоюзной научно-творческой конференции (ИМЛИ РАН, 1989), получили развитие в последнем варианте академической теории литературы (том «Литературный процесс») и в более поздних работах Ю.Б. Борева, А.Д. Михайлова, П.Е. Спиваковского, В.В. Ванслова, Ю.С. Степанова, Л.И. Сазоновой, В.К. Кантора, К. Касьяновой (В.Ф. Чесноковой), Н.А. Хренова, В.С. Жидкова, К.Б. Соколова, А.А. Королькова, М.А. Виролайнен, С.А. Никольского, В.П. Филимонова и мн. др.
В основании избранного научного подхода, во-первых, предложенное Д.С. Лихачевым понимание культуры «как некоего органического целого явления, как особого рода среды, в которой существуют общие для разных аспектов культуры тенденции, законы, взаимопритяжения и взаимоотталкивания…». Данное определение является актуальным, так как задает и мотивирует современную интеграцию гуманитарных наук, развитие национальной компаративистики, возникновение которой предсказал М.М. Бахтин, уверенный в том, что «наиболее напряженная и продуктивная жизнь культуры происходит на границах отдельных областей ее; а не там и не тогда, когда эти области замыкаются в своей специфике».
Во-вторых, учитывались современные принципы интерпретации художественного текста, базирующиеся на концепции лингвостилистического анализа, разработанной академиком В.В. Виноградовым; идеи К. Юнга о прямой и непосредственной зависимости индивидуально-авторской картины мира от опыта предшествующих поколений; ключевые, с методологической точки зрения, принципы «обратного историзма» и «археологии гуманитарных наук», разработанные М. Фуко, заставившим размышлять над культурно-историческими предпосылками явлений истории литературы, предостерегавшим от приписывания этим явлениям тех свойств, качеств, атрибутов, которые к ним исторически не могут иметь отношения.
В-третьих, не игнорировались участившиеся филологические попытки обновления методов описания «внутренней структуры произведения», презентующие художественные тексты в одном смысловом поле с другими текстами культуры (в том числе бытовыми, поведенческими), выявляющие их мифологичность, социологичность, психологизм, политические, бытовые, религиозные составляющие, совмещающие литературоведческий и лингвистический опыт работы с художественным текстом и некоторые черты психоаналитического и культурологического подходов.
Методологическую базу диссертации составляют научные труды, в которых представлены описательно-аналитические, мифологические, текстологические, интердискурсивные, интертекстуальные аналитические подходы. Это работы С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, Ю.Б. Борева, В.В. Ванслова, В.В. Виноградова, Д.С. Лихачева, А.Ф. Лосева, А.М. Панченко, Ю.С. Степанова, В.Н. Топорова, Г.П. Федотова и др.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Присутствие эсхатологической топики в художественном тексте является одной из онтологически значимых особенностей русской литературной традиции, формирование которой началось в древнерусскую эпоху. Постижению этой традиции препятствует уже сложившийся литературоведческий подход к анализу эсхатологического дискурса в прозе, предполагающий отождествление эсхатологической темы с темой смерти, либо приводящий к подмене исследования литературной эсхатологии литературной же апокалиптикой. Этот подход во многом спровоцирован модернизацией литературной эсхатологии в послепушкинский период, сопровождавшейся реанимацией национальных доэсхатологических представлений и оформлением по сути своей обновленной танатологической концепции.
2. Наиболее серьезным испытаниям литературная эсхатология подверглась в революционную эпоху начала ХХ века, когда, с одной стороны, возникла угроза полного и абсолютного подавления ее мортальными мотивами, с другой – вытеснения светской, поддерживаемой советским государством, экзистенциальной идеей.
3. Возвращение частно-эсхатологической топики в художественный текст состоялось в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором мотив смерти получил инвариантное воплощение и звучание эсхатологической темы было восстановлено в значительной степени за счет введения в романный сюжет топоса «бессмертие».
4. Кульминационным событием в процессе возвращения русской прозы к православной эсхатологической концепции, акцентирующей внимание на частно-эсхатологических идеях, стала «деревенская проза» 1960–1980-х гг. (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, Е.И. Носова, В.М. Шукшина).
5. В 1990-е годы в постмодернистской литературе и медийном пространстве под влиянием активно развивающихся экзистенцианалистских подходов к жизни и смерти, отчетливо зафиксированных уже в повестях Ю.В. Трифонова, традиционный эсхатологический мотив был трансформирован в танатологический.
6. В начале нового тысячелетия эта трансформация приостанавливается, возникает новая проза, ориентированная в своем развитии на классическую литературную традицию и обнаруживающая собственные уникальные приемы ее художественной реанимации (В. Аксенов, А. Слаповский, В. Галактионова и др.)
7. Специфика использования эсхатологической топики в литературном дискурсе второй половины ХХ века в целом свидетельствует о том, что литература как коллективная практика отображала ту часть христианского предания, которая соответствовала эпохальному типу мироощущения. Отображение это было настолько точно и детально, что при анализе его можно делать выводы даже о региональных этнокультурных особенностях.
Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования ее результатов в вузовских академических и специальных курсах, при подготовке спецсеминаров, школьных факультативов, связана с введением в научный обиход материалов, хранящихся в фондах Рукописного отдела ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) и в личных писательских архивах.
Теоретическая значимость диссертации определяется возможностью ее влияния на дальнейшую разработку темы «Русская литературная эсхатология», на выбор современного исследовательского инструментария для системного анализа литературного текста, на становление обновленной концепции истории отечественной литературы ХХ столетия, на интерпретационные подходы к фактам, представляющим культурную ситуацию, положение, сложившееся в медийном пространстве.
Апробация. Работа обсуждалась на заседании Отдела новейшей литературы ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). Ее содержание отражено в 3 монографических исследованиях, в 2 учебно-научных изданиях и в 50 статьях.
Основные положения диссертации были изложены в докладах на международных научных конференциях «Михаил Булгаков в ХХI веке. К 40-летию выхода в свет романа «Мастер и Маргарита» (С.-Петербург, ИРЛИ РАН, 1–2 ноября 2006 г.), «Русская литература в формировании современной языковой личности» (С.-Петербург, СПбГУ, 24–25 октября 2007 г.), «Писатели русской традиционной школы в контексте современности» (С.-Петербург, ИРЛИ РАН, 14–15 ноября 2007 г.), «Национальное и общечеловеческое в славянских литературах» (Гомель, октябрь 2007, 2008 гг.), «Северный текст русской литературы» (Архангельск, 22–24 сентября 2008 г., 22–23 октября 2010 г.), «Творчество В.Г. Распутина в социокультурном и эстетическом контексте эпохи» (Москва, МПГУ, 22–23 ноября 2007 г.), «Духовно-нравственные основы русской литературы» (Кострома, февраль 2009 г.), «Время как объект изображения, творчества и рефлексии» (Иркутск, 27 июня – 1 июля 2010 г.), на Международных конгрессах РОПРЯЛ «Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве» (С.-Петербург, 15-17 октября 2008 г.) и «Русский язык и культура в пространстве Русского мира» (С.-Петербург, 26–28 октября 2010 г.); на Всероссийских научных чтениях «Наследие В.П. Астафьева в историко-культурном сознании современности» (Вологда, 25–26 апреля 2007 г.), на межвузовской научной конференции «Литературные чтения» (С.-Петербург, СПбГУКИ, апрель 2005, 2007, 2010 гг.), на научно-практической конференции «СМИ в современном мире. Петербургские чтения» (С.-Петербург, СПбГУ, апрель 2006, 2007, 2010 гг.), на Х Научных чтениях Рукописного отдела ИРЛИ РАН (10 апреля 2008 г.), на Форуме «Великая Отечественная война: взгляд из ХХI века» (С.-Петербург, ноябрь 2009 г.), на методических семинарах «Проблемы отбора произведений русской литературы для изучения в иностранной аудитории» в РГПУ им. Герцена (С.-Петербург, сентябрь 2008 г., ноябрь 2009 г.) и др.
Русская литературная эсхатология в отечественном литературоведении
Мортальность — одна из ключевых характеристик мировой художественной традиции, русской классической литературы в том числе. Текст рассказа В.П. Астафьева «Гимн жизни» начинается с размышлений повествователя о непреходящем интересе искусства к теме смерти, который находит самые разные формы художественного выражения: «Люди очень любили и любят смотреть на смерть. О смерти они сочинили самые потрясающие книги, создали самую великую музыку, сняли до озноба жуткие кинокартины, написали еще более жуткие полотна». Писатель рассказывает о приговоренной двадцатилетней девушке, которая ходила в театр и «там почти в каждой опере, в каждом балете, в каждой драме показывали смерть». С ужасом рефлексирующая героиня отмечает, что «в Третьяковке почти на половине картин изображалась смерть, и люди часами стояли возле царя, убившего сына, возле верещагинской панихиды, возле утопленницы, возле безумной княжны Таракановой и умирающего безвестного арестанта; люди часами в длинной очереди продвигались к Мавзолею, чтобы взглянуть на умершего человека; толпами ходили по Ваганьковскому и Новодевичьему кладбищам меж густо и тесно сдвинувшимися могилами»78. Но несмотря на это, исследовательский интерес к мортальной проблематике в русском искусстве в целом и в русской литературе в частности продолжает находиться на стадии становления. С определенной долей вероятности можно утверждать, что пока над этой темой работают преимущественно исследователи древнерусской литературы, которые, как мы уже ранее замечали, считают, что Древняя Русь по вполне объективным и достаточно очевидным причинам осознавала мор-тальную тему преимущественно как эсхатологическую с момента ее возникновения в древнерусской словесности. В качестве доказательства приводятся тексты первых эсхатологических апокрифов «Хождение» Агапия в рай» и «Хождение Богородицы по мукам» (XII - XIII вв.), четко, не механистически, как, например, «Видение Исайи» из «Успенского сборника» XII — нача-ла XIII века, описывающих рай и ад . Первым оригинальным литературным сочинением на эсхатологическую тему предлагается считать «Послание о рае» новгородского архиепископа Василия Калики тверскому епископу Феодору Доброму (1347)80.
О том, что данная точка зрения имеет право на существование, о значимости для русского культурного сознания сохранявшейся несколько столетий апокрифической ветви эсхатологической традиции свидетельствует внутренняя ориентация традиционной художественной культуры на сюжет древнерусского апокрифа об ангеле смерти, слетающем к человеку, чтобы разлучить его душу с телом. В портретной характеристике главного героя этого апокрифа ангела имеется важная деталь: он весь сплошь покрыт глазами. И если этот странный и страшный ангел, спустившись на землю, убеждается, что пришел слишком рано, то не трогает душу человека, возле которого он появился до срока, и оставляет человеку подарок — два дополнительных глаза из своих бесчисленных. Приняв этот подарок, человек утрачивает обычное зрение, согласованное с разумом, начинает видеть старое по-новому и еще многое из того, что раньше было сокрыто от его очей81.
Тут можно отметить, что сначала этот метафорически насыщенный сюжет перекочевал в популярные в XIX веке «Откровенные рассказы странника духовному отцу». Сегодня отголоски его обнаруживаются в традиционной прозе, открытые вариации - в кинематографе: «Странник» режиссера С. Карандашова, «Живой» режиссера А. Велединского, отчасти «Остров» режиссера П. Лунгина. Кинематографические персонажи из произведений, включенных в данное перечисление, ищут не денег или славы, но откровения, жаждут приближения к тайне бытия, которое связано с заключительным этапом человеческого существования.
В последнее время появилась другая группа ученых, которые сделали уточнение, основанное на исследованиях светской ветви древнерусской литературы. Это уточнение сводится к утверждению о том, что развитие русской литературной эсхатологии началось с возникновения мотива смерти в повествованиях о княжеской гибели, вошедших в Ипатьевскую летопись (Киевский свод конца XII века). В летописи базовые эсхатологические топо-сы так или иначе были представлены в разных жанрах: в погодных записях, в некрологах и сказаниях, в рассказах и повестях — и отличались жестким давлением литературного этикета. Вследствие чего во всех этих сочинениях смерть интерпретировалась, можно сказать, достаточно однообразно, но, что для нас принципиально важно, с общеэсхатологических позиций: «кончина благочестивого правителя-христианина трактовалась как благо, как обретение вечной жизни; кончина нечестивого правителя мыслилась как наказание для князя, преступившего христианские заветы» .
С изучением русской литературной эсхатологии дело обстоит несколько иначе, хотя, по мнению большинства специалистов, эсхатологичеекая литературная традиция в России практически не прерывалась . Единственный положительный момент заключается в том, что современная филологическая наука при изучении русской литературной эсхатологии смогла уйти от поиска формальных типологических соответствий эсхатологическому дискурсу (цитат и реминисценций из Библии или Апокалипсиса, открытой, прямой рефлексии по поводу конца света или окончания человеческой жизни)84. Но многие литературно-эсхатологические исследования данной тематики сегодня подчинены двум тенденциям. Во-первых, в них, как правило, происходит: отождествление эсхатологической темы с темой смерти, задающее смешение эсхатологической и танатологической проблематики. Во-вторых, происходит подмена исследования литературной эсхатологии литературной же апокалиптикой.
Феномен «деревенской прозы» в контексте русской традиционной литературы второй половины XX века
Рождение русской традиционной прозы во второй половине двадцатого века — событие во многих отношениях уникальное. Хотя традиционализм не только для русской, для мировой литературы, культуры, философии - явление не исключительное. «Все крупное, глубокое, талантливое в литературе любого народа по своему нравственному выбору было неизбежно консервативным...», - говорил В. Распутин в ответном слове на церемонии вручения премии Солженицына. В качестве аргумента писатель напомнил слова американского классика, романиста У. Фолкнера, советовавшего молодым литераторам «выкинуть из своей мастерской все, кроме старых идеалов человеческого сердца - любви и чести, жалости и гордости, сострадания и жертвенности, отсутствие которых выхолащивает и убивает литературу» .
В общем смысле, традиция - это «исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.д. Устоявшийся порядок, неписанный закон», соответственно, традиционный - принятый, происходящий по традиции, «ставший обычным, обязательным»
В России примерно до восемнадцатого века считалось, что традиционализм - это, в первую очередь, опора на прошлый опыт, некая приверженность старине, память о которой прежде всего сохраняло устное предание. В новой и новейшей историко-культурной ситуации это представление было в значительной степени откорректировано, развито, обогащено. Примерно к середине восемнадцатого века традиционность стали связывать с преемственностью, «ориентированной в конечном счете на новое как развитие и продолжение старого»164.
Сегодня литературный традиционализм предполагает избирательно-творческое наследование словесно-художественного опыта, не исключающее приумножение ценностей, составляющих достояние народа и общества. В одном из литературно-критических обзоров известного белорусского литератора (документалиста, прозаика, критика) А. Адамовича был яркий образ, иллюстрирующий непреложность закона преемственности для литературного процесса: «Интересно происходит в литературе: движение вперед через видимость как бы возвращения к прежнему. Это напоминает сильную накатывающуюся волну у морского берега: в ней два одновременных движения - несущее вперед и отбрасывающее назад, в море...
Но такое движение - вперед с одновременным возвращением назад, в «море» великой литературной традиции человечества, - есть, может быть, сама форма существования искусства, которое, чтобы не повторяться, не омертветь, должно все время искать, уходить вперед от самого себя, но и возвращаться с такой же неизбежностью к той пограничной черте, где искусство не то начинается, не то кончается. А «за черту» выносится гниющий мусор ложных попыток, ходов, заблуждений - все, что так и не стало искусством»165.
Понимание традиционализма, выраженное в данной метафоре, по сути своей соответствует дефиниции термина «традиция», возникшей в гуманитарных науках в двадцатом веке: «Традиция образует определенное смысловое пространство, которое включает зоны как мало формализуемые, не отображаемые до конца на знаковом уровне, так и зоны, совсем не формалзуемые. Обладая, с одной стороны, указанным набором артикулируемых сем и образов, традиция другой своей стороной (наиболее существенной) обращена к сложным комплексам народных представлений, которые существуют латентно и не всегда выступают на уровне сознания, являясь достоянием подсознательного и бессознательного» (определение Г.И. Мальцева). Если принять как концептуальное данное определение и соответст вующую ему метафору художника, то надо забыть о толковании традицио нализма как о вариативном использовании принципов реалистической типи зации, которое, например, было предложено в работе Л.В. Соколовой, по священной духовно-нравственным исканиям ведущих «деревенщиков»: В. Шукшина, В. Распутина, В. Белова, В. Астафьева. Л.В. Соколова рас сматривала традиционализм как «способ художественного мышления в литературе XX века», имеющий некие «содержательно-стилистические черты», набор которых предопределен «объективным реалистическим взглядом», «ощущением заложенной в людях возможности духовно-нравственной эволюции», «ориентацией на духовно-нравственный константы древнерусской и русской классической литературы» и т.д.166. Нам представляется данная дефиниция терминологической единицы не совсем убедительной, не соответствующей сложности того литературного явления, к которому она отнесена, хотя бы потому, что главным проявлением русского литературного традиционализма всегда было характерное для русской культуры стремление освободиться от «террора среды», стремление к прорыву в область духа, в идеальную сферу. Термин «традиционная литература» не может относиться к стилю или методу, к определенной школе или литературному течению или направлению. Этот термин представляет историко-литературную парадигму, объединяющую произведения, в которых содержательно воплощается основа, исторический опыт родной культуры, с достаточной очевидностью проявляется сбалансированность идеи, психологии персонажей, сюжета с топикой, поэтикой, стилистикой, как это было в прозе Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского. Традиционность в формальной сфере, в сфере поэтики и стилистики заключается в сосредоточенности на содержательно обусловленном, оправданном развитии классической жанровой системы; в особенностях топики -хронотопа прежде всего, подчиненного реальному времени и пространству и реальному историческому человеку, раскрывающемуся в них; в сложнейшей и аксиологически выверенной мотивной структуре сюжетов; в наследовании принципов психологизма, позволивших создать образ «простого человека» во всей его сложности и противоречивости как истинное, действительное воплощение достоинств и недостатков национального характера; наконец, в обновлении литературного языка, усиливающем его изобразительно-выразительные возможности за счет возвращения классической чистоты и ясности, мифологической объемности и глубины слова.
Бытийные мотивы в поздней лирико-философской прозе В.П. Астафьева
Многочисленные интерпретации этих слов можно расценивать как основания для отмены существующих заключений критиков и литературоведов о «нутряном» личностном сходстве художников, заданном глубоко национальным, генетическим, крестьянским стремлением прожить жизнь в едином целиком и полностью принадлежавшем им пространстве своего дома, за порогом которого - «моя» деревня, за околицей открывается «мой» огромный мир, в границах которого «территория души». Но все предшествующее творчество писателя, особенно его сокровенные тексты не оставляют возможности для восприятия написанных кровью смятенного сердца Астафьева прощальных слов как знака безвозвратного исчезновения воли к освоению, постижению огромного природного пространства, веками определявшего смысл существования славянина. Бесспорно одно, исстрадавшейся душе максималиста-Астафьева, обнаженной перед всем миром, изувеченной пережитым, «запущенной» и остро нуждающаяся в «попечении», в возвращении в родное пространство дома и огромного природного мира, в родную атмосферу хоровода, разрушающую бесконечное игровое поле карнавала, с годами сопротивление давалось все тяжелее. Легко таким, как Астафьев, в жизни не бывает, но в первые годы писательства было проще, потому что невероятной ценой ему был открыт источник родовой памяти, из которого десятилетиями черпались силы для сопротивления, для того, чтобы-понимать, принимать, оправдывать, защищать людское племя перед лицом мате-ри-природы. И из светлых «мук, которые происходили в душе» , родились лучшие произведения писателя, смыслом которых стала борьба за «лучшего человека». Этот, благодаря литературной критике, самый известный топос Астафьева впервые возник в «повествовании в рассказах» и получил в «Царь-рыбе» необычное воплощение, с которым связано появление уникального по природе своей мифологичного жанра, номинацией намекавшего на некую беспрерывность, особого рода временную перспективу. Ф. Кузнецов считал, что писательская греза об этом жанре возникла много раньше, в «Последнем поклоне» - в «повествовании об обширнейшей крестьянской семье» , когда Астафьев ощупью шел к созданию неповторимой художественной формы, поддерживающей и санкционирующей определенные нормы поведения, в последний раз выверенные в финале повествования перед лицом смерти маленькой городской девочки, оставленной в критический момент безжалостным, лишенным сострадания человеком-зверем и обреченной на смерть в глухой, замерзающей тайге.
В «Царь-рыбе» Астафьев предлагает панораму судеб, разных, чаще всего никак непосредственно не перекрещивающихся, целую вереницу историй, герои которых были призваны решать разные проблемы, даже претендовали на свою собственную, автономную от общепринятых норм жизненную философию. На первый взгляд, нет абсолютно ничего общего в жизни заблудившегося и погибшего в тайге самоуверенного горожанина Герцева и монументально положительного, с единственным тайным изъяном в предыстории, удачливого поселкового «лидера» Игнатьича. От разнообразия и формальной разобщенности главных героев основных частей «повествования» сначала возникает впечатление, что действует внутри текста неведомая центробежная сила, разбрасывающая все и всех в художественном пространстве, создающая иллюзию огромной жизненной пестроты, изолированной многочисленности рассказов об отдельных человеческих судьбах. Но это впечатление почти немедленно растворяется от другого еще более жгучего ощущения недопустимости автономного существования отдельных компонентов новой жанровой конструкции, цементируемой собственно астафьевской концепцией человека, о которой впервые написал С. Баруздин, заметивший, что Астафьев всю свою жизнь пишет «одну главную книгу. Книгу о себе и себе подобных» . В «Царь-рыбе» ключевым инвариантом воплощения этой неповторимой антропоцентричности стал образ автора, совмещающего функции героя и рассказчика, причем, рассказчика активного, заинтересованного, пристрастного, причастного к описываемым событиям.
Именно его всеприсутствие в тексте дало возможность критикам назвать «Царь-рыбу» «нравственной биографией» самого писателя, биографией, сложившейся под воздействием мечты о «лучшем человеке», ставшей руслом, по которому устремился поток человеческих судеб.
Неслучайно в «Царь-рыбе» представлена целая галерея по сути своей однотипных характеров браконьеров из небольшого далекого сибирского поселка Чушь, далеко не каждый из которых выписан детально, досконально. Дозированность авторского внимания к персонажам, сам порядок появления персонажей на страницах астафьевского повествования убедительно художественно мотивирован.
Астафьев предъявляет безусловную общность своих героев не через их противозаконную деятельность, для него важнее внутренняя мотивация хищнического отношения к окружающему миру, человека, живущего в отрицании социально-нравственной законности, абсолютизировавшего принцип вседозволенности. И рождается это ощущение вседозволенности вовсе не от широты русского характера или осознания неисчерпаемости богатств бескрайних просторов России. Мотивируется возникновение, укоренение этого чувства Астафьевым всякий раз по-новому. В случаях Грохотало и Игнатьича писатель использует предысторию героев.
Концепт «смерть» в современных массовых текстах
К началу двадцать первого столетия культурная ситуация в России претерпевает серьезнейшие, принципиально важные изменения. Направление, общий характер произошедших вопреки предостережениям больших писателей изменений определил председатель Союза журналистов России В. Богданов в выступлении на Дне памяти коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Свой публицистический монолог о серьезнейших изменениях в современном общественном сознании В. Богданов завершил таким выводом: «Смерть стала чем-то обыденным».
Тему, предложенную для обсуждения известным публицистом, поддержали другие участники публичной дискуссии, обратившие внимание на иные ее аспекты. Материалы дискуссии впоследствии публиковались разными СМИ. Например, автор аналитической статьи о постановках знаменитого грузинского театрального режиссера — создателя «смертельных спектаклей» Роберта Стуруа М.Чаплыгина утверждала, что в последние годы тема смерти стала «модной», даже «народной», «что подтверждают практикующие психологи. Недаром среди людей, психологически подкованных, вдруг стали особо популярны тренинги и терапии, так или иначе обыгрывающие страх смерти» . В приведенной цитате чрезвычайно содержательно причастие-определение «обыгрывающие», показывающее наступление новой полосы в истории цивилизации - полосы игр со смертью.
Доказательства реальности сделанного нами предположения легко обнаруживается в еженедельнике «Русский Newsweek» (22 - 28.01.07). Например, в статье Е. Черненко «Грохни меня, если сможешь». В этой публикации сообщается об открытии очередного охотничьего сезона в петербургской городской «реальной игре независимых интеллектуалов». Суть и смысл игры — охота на людей ради так настойчиво искомой современным пресыщенным, не имеющим материальных проблем горожанином ситуации, необходимой для выброса адреналина.
Эмоционально, оценочно неприятие уже сложившегося положения вещей, обозначенного В. Богдановым, справедливо и привлекательно. Но в повседневной речевой практике медийная культура способствует окончательному утверждению в общественном сознании идеологии антропоцен-тричного нигилизма, материальным выражением которого становятся изменения в концептосфере русского языка, фиксирующие неотменимую трансформацию онтологических представлений и аксиологической системы. Очевидные признаки этих изменений — на обложках журналов и на разворотах еженедельников. Детективные и любовные романы, страницы «качественной» периодики пестрят заголовками, в составе которых в той или иной форме, в самых неожиданных контекстах одна лексема или слова из организуемого ею семантического поля: «Чему учит смерть?», «Не может смерть, могут деньги?» «Партия Смерти» (еженедельник «Аргументы и факты»), «Смерть — милый друг» («24 часа»), «Сталин — заложный покойник» («Огонек»), о бесланском спортзале, в котором погибли сотни безвинных людей «Аргументы и факты» - «Адский мартен», о генетической экспертизе, проведенной после страшнейшей трагедии - «Встреча после смерти»; об отравлении бывшего разведчика и бизнесмена Литвиненко - «Смерть в тарелке» (сравните: «Смерть Тарелкина»); об убийстве банкира Андрея Козлова -«Стрельба ва-банк» («Русский Newsweek»); рецензия Дм. Быкова в «Огоньке» озаглавлена оксюморонным словосочетанием «Байки склепа»; рецензия М. Калужского на роман А. Борисовой «Там» в «Русском репортере» - «Ув-лекательный путеводитель по аду, раю, небытию»; статья о смерти солдата — «Рядовые продукты смертопроіізводства» (аналитический еженедельник «Дело»); аналитическая статья о новых апокалипсических угрозах — «Творение, потоп, грядущий кризис Земли» (еженедельник «Сокрытое Сокровище»). В названиях романов Д. Донцовой и Ф. Незнанского используется предметная лексика соответствующих ассоциативных полей: «Скелет из пробирки», «Смертельные игры», «Кровавый чернозем»...
В предлагаемом, формируемом медийным дискурсом речевом контексте абсолютно естественно воспринимается и информация, передаваемая через визуальные носители: кровавые фоторепортажи о землетрясении в Чили, фотографии гробов многоразового использования, присланные из Багдада. Такие примеры можно множить до бесконечности.
Если и предпринимаются попытки усиления темы смерти за счет эсхатологического компонента, то преимущественно через введение апокалипсических мотивов: новостной блок на НТВ ведущий заканчивает так — «Ангелы на месте. Апокалипсис сегодня откладывается на потом» (эфир 28.02.07). Бесспорно, в данном случае существительное «Апокалипсис» могло бы быть написано со строчной буквы. В приведенном фрагменте, как и в привычном для современных массмедиа словосочетании «ядерный апокалипсис», слово «Апокалипсис» утрачивает эсхатологическое содержание, превращается в газетный штамп, номинирующий несчастный случай, более или менее масштабную катастрофу. Армагеддон теперь — привычный мотив из фильма ужасов. Ключевые, «опознавательные» топосы теологической концепции предельно банализированы399.
Хотя следует отметить, что в «качественной» публицистике ситуация несколько сложнее, но господствующей все-таки можно считать — постмодернистскую «танатологическую» иронию, апофеозом которой стал специальный раздел в новом «бестселлере» (это жанр, порожденный медийным дискурсом в эпоху постмодернизма) М. Эпштейна. Если воспользоваться терминологией библиографической службы «Континента» (2004, № 122. С. 420), известный литератор предлагает «негасемантику» концепта, иронизируя над «осмысленной смертью», ради которой живут, рожают и воспитывают детей граждане «Великой Сови» (за метафорой легко угадывается советское государство). Смысл этой смерти — польза государству400.
Второй вариант: противопоставление смерти и «бессмысленной жизни», лишенной удовольствий, почестей, власти и прочих соблазнов постиндустриальной цивилизации, в публицистике интеллектуалов. Убедительнейшую мотивацию такого отношения предложил известный петербургский писатель А. Мелихов в блестящей интерпретации знаменитой притчи из «Исповеди» Л.Н. Толстого: « ... В чем заключается смысл жизни, который не уничтожался бы смертью? Иначе говоря, ради чего нам мучиться, когда жизнь перестает быть легкой и приятной? Да и может ли она быть