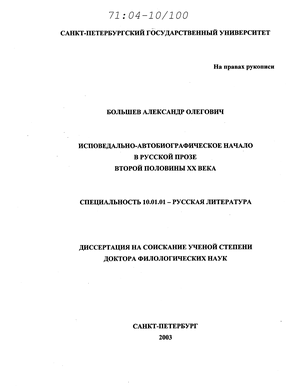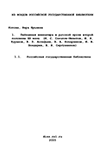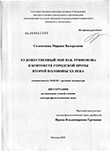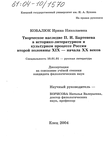Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Alter ego социалистического реалиста 17
Глава II. Роман-исповедь «Доктор живаго» 44
Глава III. Шаламов и отцеубийство 85
Глава IV. Жизнь и житие александра солженицина 103
Глава V. Доктор Джекил и мистер Хайд юриядомбровского 121
Глава VI. Сны «прозы лейтенантов 159
Глава VII. Эрос и Танатос «деревенской прозы» 176
Глава VIII. Андрей Битов в поисках «чрезвычайной воплощенности» 227
заключение 259
библиография 264
- Alter ego социалистического реалиста
- Роман-исповедь «Доктор живаго»
- Шаламов и отцеубийство
- Доктор Джекил и мистер Хайд юриядомбровского
Введение к работе
Автобиографизмом принято называть «стилистически маркированный литературный прием, представляющий собой эхо жанра автобиографии; он появляется в текстах, которые сами по себе не являются автобиографией, не писались и не воспринимались как автобиографии» 1. Автобиографический текст основан на следовании фактической канве биографии писателя, тогда как автобиографизм предполагает использование ситуаций, достоверных по внутренней мотивировке, но не происходивших в действительности.
В настоящей диссертации рассматривается так называемый исповедальный автобиографизм, в связи с чем необходимо уточнить и значение термина «исповедь», ибо, хотя он сделался общеупотребительным, границы его использования зачастую не определены.
Автор этой работы согласен с исследователями, которые считают подлинной жанрообразующей основой литературной исповеди установку на полную искренность.2 Недостаток многих существующих на сегодняшний день дефиниций состоит в том, что, скрупулезно фиксируя внешние, формальные признаки исповедального дискурса, они зачастую игнорируют его глубинную содержательную суть. Одно из типичных определений такого рода приводит в своей книге А.Криницын: «В традиционном литературоведении исповедью называется произведение, написанное от первого лица и наделенное хотя бы одной или несколькими из следующих черт: 1) в сюжете встречается много автобиографических мотивов, взятых из жизни самого писателя; 2) рассказчик часто представляет себя и свои поступки в негативном
1 Медарич М. Автобиография/автобиографизм // Автоинтерпритация. Сб. статей. —
СПб.,1998, с.5.
2 «...Необходимое условие исповеди - полная искренность.» (Сыроватко Л. «Под
росток» и подростки // Достоевкиймо. - Калининград, 1995, с. 139.).
свете; 3) рассказчик подробно описывает свои мысли и чувства, занимаясь саморефлексией.» 3 Нет сомнения, что отмеченные черты носят во многом второстепенный характер. И в самом деле, текст, в котором откровенность лишь имитируется, даже если он написан от первого лица, содержит автобиографические мотивы, саморефлексию и самокритику, не может быть атрибутирован иначе, как псевдоисповедь.4 Соответственно, исповедальный автобиографизм предполагает раскрытие в художественном тексте глубинных и сокровенных начал личности автора. (Этим он и отличается от обычного автобиографизма, который вполне может быть ограничен фиксацией внешней стороны биографии писателя. Освещение же внутренней жизни в подобных случаях носит характер самопрезентации: автор тщательно, деталь к детали, выстраивает собственный образ, представая перед читателем именно таким, каким хотел бы предстать. 5) Разумеется, формально-классификационные признаки такого автобиографизма обозначить сложнее, о чем и пойдет речь чуть ниже.
Сначала же обратимся к проблеме, которая неизбежно возникает в связи с выдвижением на первый план критерия искренности. Дело в том, что всякая литературная исповедь оказывается, при ближайшем рассмотрении, правдивой лишь до известного предела. Анализ текстов такого рода неопровержимо доказывает, что информация, связанная с наиболее болезненными для авторов персональными проблемами, в них либо искажается, либо замал-
3 Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф.М. Достоев
ского. - М, 2001, с. 100.
4 В работах некоторых современных исследователей под исповедью понимается ха
рактерный для тоталитарной культуры сугубо лицемерный публичный ритуал «покаяния»,
т.е. признания индивидом своего несовершенства (См., например: Шрамм, Каролина Ис
поведь в соцреализме // Соцреалистический канон. - СПб., 2000, с.910-915.). Но формаль
ный акт демонстрации собственной лояльности властям есть, безусловно, не что иное как
имитация подлинной исповеди.
5 Разумеется, феномен такого рода самопрезентации не нужно отождествлять с са
моидеализацией. Препарирование собственного литературного портрета не всегда пре
вращается в затушевывание недостатков.
чивается. Человек так устроен, что скорее признает за собой чужие пороки и грехи, чем доверит бумаге подлинную травму, составляющую основу собственной личности..
Нередко в художественных произведениях мы встречаем претендующие на полную искренность исповеди персонажей. Как известно, особенно активно использовал этот прием Достоевский. Но именно тексты этого писателя как нельзя более наглядно демонстрируют невозможность подлинно искреннего публичного самообнажения, ибо, начиная с откровений «подпольного человека», исповедальные монологи персонажей Достоевского как правило построены на фантастическом допущении: они якобы создавались исключительно для внутреннего пользования, «для себя», без малейшей оглядки на гипотетического читателя. Разумеется, такие декларации и остаются лишь декларациями. «Герой утверждает, - справедливо указывает К. Мочуль-ский о «подпольном человеке», - что пишет исключительно для себя, что никаких читателей ему не нужно, а между тем каждое его слово обращено к другому, рассчитано на впечатление.»6 Не случайно сам же герой-рассказчик постоянно ставит под сомнение аутентичность собственных самопрезентационных характеристик: «Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одно-му-таки словечку не верю из того, что теперь настрочил!». Хансен-Леве отметил, что Достоевский всякий раз моделирует именно невозможную ситуацию откровенной исповеди, когда герой обретает фантастическую способность «произнесения непроизносимого» и «коммуникации некоммуникабельного»7.
Итак, перед нами очевидное противоречие. Исповедь предполагает предельно откровенный рассказ автора литературного текста о своих сокро-
6 Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. - Париж, 1980, с.203.
7 Hansen-Love A. Zum Diskurs des End- und Nullsspiels bei Dostoevskiy II Die Welt der
SlavenXU, 1996. S.147-150.
венных проблемах, но такая откровенность в принципе недостижима. Однако проблема только кажется неразрешимой. Да, искренняя исповедь невозможна, «сам замысел быть искренним уничтожает искренность»8 - но лишь тогда, когда автор рассказывает о себе напрямую, без нарративной маски или же других защитных механизмов. Опосредованная же и завуалированная форма саморефлексии позволяет достичь очень высокой степени откровенности. Парадокс в том, что подлинная исповедь реализуется только при отсутствии внешних атрибутов исповеднического дискурса - когда автор рассказывает якобы о ком-то другом либо иным образом маскирует свои откровенные признания. Таким образом исповедальный дискурс возникает на пересечении двух разнонаправленных тенденций: с одной стороны автор жаждет озвучить мучающее его и тем самым от этого освободиться, а с другой - стремится закамуфлировать свою тайну.9
Однако здесь может возникнуть следующее возражение: подменяя четкие формально-классификационные признаки литературной исповеди туманным критерием искренности, не размываем ли мы тем самым границы исповедального автобиографизма? Не придется ли при таком подходе признать, что любой художественный текст автобиографичен, ибо несет отпечаток личности писателя? Что ж, всякий текст есть проекция духовного опыта автора - в той или иной мере. И все дело именно в мере, т.е. буквально в количестве проецируемого сокровенно-личностного. Только тогда, когда авторская установка на исповедь - сознательная, а чаще бессознательная - явно доминирует в структуре художественного текста, его можно атрибутировать как исповедально-автобиографический. Разумеется, речь может идти не
8 Ibid. S. 151.
9 Суть целевой установки, определяющей литературную исповедь, точно, на наш
взгляд, раскрыл русский психоаналитик И. Ермаков: «нужно, показывая, обнаруживая,
скрыть» (Ермаков И. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. - М, 1999,
с.37.).
только о тексте в целом, но и об отдельных его фрагментах, в которых превалирует исповедальное начало.
И здесь, как уже было отмечено, возникает вопрос о критериях, которые способны выявить в тексте наличие автобиографического импульса. В работах общетеоретического плана нередко можно встретить мысль о том, что надежных формальных признаков такого рода не существует.10 Но не стоит отчаиваться - ведь мы располагаем немалым количеством историко-литературных исследований, в которых рассматривается интересующий нас исповедально-автобиографический компонент в творчестве различных писателей.11 И нельзя не заметить, что для всех ученых, чье внимание обращено не на внешние обстоятельства существования изучаемого автора, а именно на глубинные факторы его душевной жизни, характерен по сути один и тот же, так называемый психобиографический, подход к исследуемому материалу. Несколько лет назад вышла в свет монография А. Жолковского, посвященная творчеству М. Зощенко, в которой особенно отчетливо раскрывается и обосновывается специфика психобиографического подхода.
Главное отличие этого нового подхода А.Жолковский видит «в сосре-
1 *У
доточений на экзистенциальной проблематике» писателя. С актуальных внешних процессов и явлений, которые оказывали очевидное воздействие на автора и служили ему объектами изображения, акцент переносится на извечную внутреннюю драму человеческого состояния, что заставляет видеть в
10 См., например: Медарич М. Указ.соч., с.11.
11 См., например: In the shade of the giant. Essays on Tolstoy. Edited by Hugh Mclean. -
Berkley, 1989; Mandelker A. Framing Anna Karenina. - Columbus, 1993; Паперно И. Семио
тика поведения: Николай Чернышевский - человек эпохи реализма. — М., 1996; Маркович
В. Автор и герой в романах Лермонтова и Пастернака // Автор и текст: Сб. статей.-СПб.,
1996, с.150-178; Парамонов Б. К вопросу о Смердякове; Маркиз де Кюстин: Интродукция
к сексуальной истории коммунизма // Парамонов Б. Конец стиля. - М., 1997, с.349-356,
367-401; Гольдштейн А. Опцепенский «соц-арт» Белинкова // Гольдштейн А. Конец стиля.
-М., 1997, с.242-259.
12 Жолковский А. Михаил Зощенко: Поэтика недоверия. - М., 1999, с.7.
малосущественных, на первый взгляд, индивидуальных невротических комплексах и психологических травмах чрезвычайно значимые факторы. Так, Жолковский убедительно доказывает, что привычная трактовка Михаила Зощенко как разоблачителя мещанства и мастера эзоповской сатиры на пороки советской жизни должна быть существенно пересмотрена. Ученый называет свое исследование «операцией по освобождению писателя от навязанной ему силой обстоятельств общественной роли»(27). В действительности, как показано в монографии, Зощенко не столько разоблачал чужие пороки, сколько «разоблачался» сам. В прозе «сатирика-бытописателя советских нравов» безусловно преобладает исповедальное начало: с помощью защитных механизмов смеха он рассказывает о своих персональных комплексах и фобиях. Образы пресловутых зощенковских персонажей-«мещан» зачастую откровенно автопсихологичны.
Разумеется, эта новая интерпретация не претендует на отмену принятых взглядов на Зощенко как на автора, ставшего зеркалом своей исторической эпохи. Как отмечает Жолковский, «зощенковские неврозы обеспечили ему глубокую созвучность эпохе; воплощение, казалось бы, сугубо личных, но в то же время архетипических экзистенциальных травм обернулось верным портретом исторического момента. Зощенко оказался подлинным классиком советской литературы, но не столько как сатирик-бытописатель советских нравов, сколько как поэт страха, недоверия и амбивалентной любви к порядку .»(309)
Что же касается методологии такого рода исследований, то прежде всего очевидна необходимость активного использования, кроме всевозможных текстов рассматриваемого автора, также и его «биографического текста», реконструируемого по мемуарам, воспоминаниям современников, переписке и т.д. Психобиографический подход, разумеется, предполагает и
9 решительное неприятие любых мифологем, обусловленных нормативно-утопическим мышлением, в координатах которого писатель обязан соответствовать некоему идеальному «образцу».
Вообще же Жолковский не скрывает, что в своем анализе творчества Зощенко он с готовностью применял любые схемы и приемы исследования: «Эвристической подоплекой такой эклектики (давно узаконенной постструктурализмом) было стремление любыми доступными средствами удовлетворить давнее любопытство - понять, «чего хотел автор сказать своими художественными произведениями», узнать, «что у него внутри»»13. Но, соглашаясь с тем, что психобиографический подход действительно допускает некоторую методологическую эклектичность, все же отметим одну важную особенность: и в монографии Жолковского, и во всех остальных ранее названных исследованиях очень активно используется психоаналитический инструментарий.
Отношение большинства литературоведов к психоанализу сегодня можно назвать двойственным. Он одновременно и популярен (даже моден), и достаточно скомпрометирован для того, чтобы многие солидные ученые от него всячески дистанцировались, а порой и открещивались - и авторы упомянутых нами работ не исключение. Однако именно их опыт весьма убедительно доказывает, что обойтись без психоаналитического инструментария, решая интересующую нас задачу, невозможно. Необходимо, по мере сил, избегать издержек, столь характерных для многих литературоведческих работ с психоаналитическим уклоном, используя в то же время содержащееся в них ценное и позитивное.
Как известно, психоанализ трактует художника как невротика, который озабочен и мучим некоей психической травмой, чаще всего полученной
13 Там же, с.8.
в детстве. Многое из написанного им варьирует именно эту травматическую ситуацию и к ней может быть редуцировано. По определению В. Руднева, «смысл текста - это потаенная травма, пережитая автором».15
Можно ли принять эти положения? Думается, что да - но с важной оговоркой: не всякий художник невротичен; если же он невротик, то отнюдь не всегда использует творчество для завуалированных признаний в своих потаенных комплексах, а психическая травма не обязательно служит глубинной основой текста. Иными словами, главное для филолога, пытающегося применять методологию психоанализа, - чувство меры. Психоанализ - инструмент, сфера действия которого имеет свои пределы. Не случайно больше всего издержек и даже откровенных нелепостей обнаруживается в работах «ортодоксальных» психоаналитиков, т.е. таких авторов, которые демонстрируют верность фрейдистским и постфрейдистским схемам, видя в них универсальные отмычки на все случаи жизни. Реальные же достижения связаны с исследованиями, чьи авторы демонстрируют трезвое и критическое отношение к основным постулатам психоанализа, используя их выборочно и осторожно.
Вернемся к вопросу о том, как обнаруживает себя исповедальный автобиографизм. Порой, по мнению исследователей, резко меняется сам «градус» письма: автор как бы «теряет контроль над текстом»16, возникает эффект прикосновения к болевым точкам, что свидетельствует о безусловно эмоциональном отношении к лично пережитому.17
С точки зрения психоанализа, личность - это «такое образование, которое создается в результате некоей травмы, испытываемой нами в детстве» (Смирнов И. Свидетельства и догадки. - СПб., 1999, с.116.)
15 Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. - М, 2000,
С.255.
16 Медарич М. Указ. соч., с. 10.
17 Как пишет, характеризуя такого рода ситуации В. Колотаев, «язык начинает рас
ползаться, являя дыры бессознательного» (Колотаев В. Поэтика деструктивного эроса -
М., 2001, с.237.).
Но все же более надежным критерием представляется та настойчивость и последовательность, с которыми изучаемый писатель обращается в своих текстах к одним и тем же «навязчивым» темам и ситуациям, что и позволяет говорить о так называемых «невротических инвариантах». А. Жолковский трактует «единство поэтического мира писателя как систему инвариант-
ных мотивов, реализующих некую излюбленную - «навязчивую» - тему» .
Более того, есть мнение, что уже сама по себе необычная жизненность и яркость художественных образов может, в ряде случаев, сигнализировать о наличии в тексте исповедального начала. «А в теоретическом плане вызывает сомнение и само представление, будто писателю лучше всего дается изображение внутренне чуждых ему явлений, - пишет, развивая эту мысль, А. Жолковский . - Естественно предположить обратное: что именно сосредоточенность писателя на собственных экзистенциальных проблемах придает их художественным проекциям захватывающую жизненность.»19 С этой точки зрения, любой поражающий нас художественной силой и убедительностью
V литературный образ позволяет, по крайней мере, предположить, что здесь не обошлось без проецирования вовне каких-то важных элементов внутреннего
v мира автора. В первую очередь это касается негативных персонажей. Хрестоматийно известно гоголевское высказывание: «...Я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моей собственной дрянью./.../ Взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом по-прище/.../». Можно с большой долей уверенности утверждать, что многие малопривлекательные и даже отталкивающие литературные герои являются художественными проекциями пороков, обнаруженных авторами в себе, а не вне себя.
18 Жолковский А. Указ. соч., с.26.
19 Там же, с. 15.
20 Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. Т.8. - М., 1952, с.294.
Вообще же, психобиографический подход концентрирует внимание исследователя прежде всего на так называемых автопсихологических персонажах в текстах рассматриваемого автора. Автопсихологическим я называю героя, в структуре характера которого сокровенные начала, свойственные самому писателю, не просто присутствуют (какими-то элементами собственной душевной жизни автор наделяет едва ли не каждого своего персонажа), но и v безусловно доминируют. Отметим, что, вопреки широко распространенному мнению, в одном тексте может быть несколько автопсихологических героев, каждый из которых воплощает какую-то грань личности писателя. Как только что подчеркивалось, автопсихологическим нередко оказывается и отрицательный, окруженный негативной аурой персонаж.
В этой работе психобиографический подход применяется для анализа русской прозы второй половины XX века. Выбор авторов, который может показаться несколько хаотичным и случайным, продиктован стремлением охватить по возможности более широкий спектр существовавших в литературе этого периода различных дискурсов. Так, первая глава содержит анализ романа Л. Леонова «Русский лес», выдержанного в соцреалистической манере. Здесь, помимо обычных защитных механизмов, которые писатель применяет для камуфлирования сокровенных глубин своего внутреннего мира, интерпретатору приходится преодолевать и еще одно препятствие - эзоповский язык (с его помощью Леонов обходит цензурный барьер). Далее в главах 2 -5 рассматриваются основные произведения Б. Пастернака, В. Шаламова, Ю. Домбровского, А. Солженицына 50 - 70-х гг., которые объединены стремлением художественно осмыслить трагические потрясения, обрушившиеся на страну в предыдущие десятилетия, когда личность испытала еще не виданное в истории давление бесчеловечных обстоятельств. Во всех случаях автор диссертации пытался показать, что каждый из названных писателей в гораздо
большей степени, чем принято думать, был сосредоточен на персональных внутренних проблемах, устремляя взор не столько вовне, сколько вглубь собственной души.
Автор диссертации отдает отчет в том, что предпринятая им реинтер-претация прославленных произведений может вызвать упреки в субъективности. В этом плане особенно уязвимой представляется глава вторая «Роман-исповедь «Доктор Живаго»», для которой действительно характерна некоторая полемическая односторонность. Причина же в том, что слишком сильна в читательском сознании инерция, связанная с гипертрофией роли политико-идеологического начала как в содержании романа «Доктор Живаго», так и в жизни его автора.
Эта тенденция характерна и для самых значительных пастернаковед-ческих работ. Яркий пример - книга Л. Флейшмана «Борис Пастернак в тридцатые годы», которая является, безусловно, одним из лучших монографических исследований о Пастернаке. Скажем, рассуждая о причинах тяжелейшей нервной депрессии, которая мучила писателя в 1935 году, ученый даже и не называет главный мотив - приступ ревности к жене: как известно, во время пребывания в Ленинграде Зинаида Николаевна показала Нине Табидзе отель, где она когда-то тайно встречалась со своим кузеном Николаем Милитин-ским, а та неосторожно рассказала об этом Борису Леонидовичу. В какой-то мере, разумеется, нервный срыв стал и реакцией на политическую обстановку в стране, но все же главная причина не имела отношения к идеологии и политике. Интересно, что работа Флейшмана содержит сведения и факты, неопровержимо это доказывающие, но исследователь не желает замечать очевидного. Например, приводится отчаянное письмо Пастернака жене, где прямо сказано о «полуразвратной обстановке отелей, всегда напоминающих мне
то о тебе, что стало моей травмой и несчастьем» . Сообщается, что тогда же, в состоянии «зачаточного безумья», Пастернак настойчиво требовал от Ахматовой, чтобы она немедленно вышла за него замуж. Но оба факта, не оставляющие ни малейшего сомнения в истинной подоплеке душевного кризиса писателя, Флейшман упрямо истолковывает в общественно-идеологическом ключе, повторяя, что в безвыходную ситуацию Пастернака поставили «поли-тические события современности» . В противовес этому, автор диссертации пытался показать, что именно интимные, любовные переживания нередко оказывались основным регулятором жизни и творчества Пастернака, что и нашло отражение в его итоговом исповедальном романе.
Впрочем, глава о Пастернаке отчасти полемична и по отношению к другой тенденции, наиболее последовательно и ярко реализованной в книге И.Смирнова «Роман тайн «Доктор Живаго»». Эта тенденция связана с трактовкой автобиографического произведения Пастернака как сугубо символико-аллегорического, как сложнейшей философской притчи, изощренного интеллектуального ребуса, «криптограммы». Разумеется, нельзя терять из виду метафизический план содержания романа. Автор диссертации в свое время опубликовал статью «Куда стрелял доктор Живаго?»23, в которой предложена именно символико-аллегорическая трактовка одного из самых загадочных эпизодов произведения. Но далеко не все в романе можно объяснить, оставаясь в рамках метафизического подтекста. Этот роман, справедливо названный «двойным», есть прежде всего «род автобиографии» создателя, а его главный герой - «выразитель сокровенного Пастернака» (Д.Лихачев). Перед нами именно исповедь, требующая соответствующего психобиографического подхода. Разумеется, идеальным вариантом был бы анализ, охватывающий все
21 Флейшман, Лазарь Борис Пастернак в тридцатые годы. - Yerusalem, 1984, с.262.
22 Там же, с. 261.
23 Большее А. Куда стрелял доктор Живаго? // Нева, 1997, № 5, с. 196-200.
аспекты его структуры. Но сегодня об этом можно только мечтать как о деле более или менее отдаленного будущего. И предлагаемый в монографии анализ произведения есть маленький шаг на пути к этой цели.
Главы 6 и 7 посвящены «прозе лейтенантов» и «деревенской прозе» -двум важнейшим течениям в русской литературе второй половины XX века. Использование психобиографического подхода при анализе целого литературного течения, группировки или школы может показаться некорректным. Действительно, одно дело когда мы исследуем неврозы отдельно взятого писателя, а другое дело, когда речь идет о целой группе творцов, каждый из которых неповторимо индивидуален. Между тем, само по себе, например, удивительное сходство практически всех «фронтовых лирических повестей», позволяющее рассматривать их как единый текст, невольно заставляет задуматься об общей для авторов этих произведений психологической травме - так называемом «военном неврозе». Отчасти аналогичным образом дело обстоит и с «деревенщиками». За пронизывающей высокохудожественные тексты авторов «деревенской прозы» ностальгической тоской легко обнаруживается мифологема потерянного рая. И сколько бы нам ни объясняли, что эта тоска связана лишь с разрушением прежнего уклада крестьянской жизни, с утратой традиционных духовно-нравственных ценностей, мы, безусловно соглашаясь с такой трактовкой, все же ощущаем ее неполноту. В подтексте каждого зрелого произведения «деревенской прозы» угадывается особая, «метафизическая», боль - такая, которая обычно не возникает от внешних причин, но рождается в невротических глубинах личности. Изменив ракурс рассмотрения текстов «деревенской прозы», мы обнаруживаем несколько неожиданную проблематику. Разумеется, такая интерпретация вовсе не претендует на отрицание предыдущих и даже не противоречит им, но вносит в них существенное дополнение. Как и во всех остальных случаях, при изучении
текстов внутренне родственных друг другу представителей литературного течения психобиографический подход предполагает перенесение центра тяжести с внешних окружающих писателей и изображаемых ими явлений и обстоятельств на внутренние их экзистенциальные проблемы.
Последняя глава диссертации «Андрей Битов в поисках чрезвычайной воплощенности» представляет собой опыт анализа исповедально-автобиографического начала в рамках постмодернистского дискурса.
Стиль диссертации, который может показаться порой слишком вольным, обусловлен главной целью работы: с максимальной ясностью озвучить обусловленное психобиографическим подходом новое прочтение основных произведений русской литературы второй половины XX века.
Alter ego социалистического реалиста
До сих пор распространено мнение, что следование соцреалистическо-му канону исключало для писателя возможность искреннего и полноценного самоанализа. Нередко исследователи подчеркивают, что подлинная исповедь в тоталитарной культуре подменялась ее имитацией - чисто риторическим показательно-демонстративным актом. Власть требовала от творцов советского искусства ритуальных покаяний с элементами мазохизма.24
Между тем, и в жестких рамках соцреалистического дискурса сохранялась, по крайней мере, одна отдушина, которая позволяла любому автору по-настоящему исповедоваться, избавляясь от накопившихся душевных шлаков, - отрицательный герой.
И в самом деле, уже во второй половине 20-х годов в советской литературе рефлексия персонажа начинает восприниматься как несомненный признак его негативности. Положительный же герой постепенно утрачивает обычные психологические параметры, становясь в основном образцом для подражания. «...К рубежу 20-30-х годов самоанализ и рефлексия рассматриваются социумом только в качестве атрибута человека, ведущего двойную жизнь, и тяготеют к преступлению», - указывает М. Чудакова .
В этой связи любопытен пример фадеевского «Разгрома». В романе полноценной рефлексией наделен только один герой - сползающий к предательству Мечик. Тогдашняя официозная критика приняла рефлексирующего отрицательного персонажа как должное, но осудила писателя за то, что к са моанализу порой склонен и сугубо позитивный Левинсон. Сегодня очевидно, что в образе весьма амбивалентного Мечика Фадеев объективировал собственные мучавшие его сомнения и слабости. Сходным образом дело обстоит и в последнем завершенном романе Фадеева «Молодая гвардия», во второй редакции которого ходульным положительным персонажам 27 противостоит на удивление яркий и жизненный образ предателя Стаховича. История морального падения Стаховича явно выделяется на общем блеклом фоне, позволяя осторожно предположить, что феномен предательства волновал генсека союза писателей, «сдавшего» спецслужбам немало своих коллег, как глубоко личная проблема.
Отчасти аналогичный случай произошел с «Завистью» Юрия Олеши. Любому непредвзятому читателю понятно, что творец изысканных метафор Кавалеров автопсихологичен, хотя и пребывает в зоне авторской иронии, воспринимающейся как самоирония. Но амбивалентная аура этого текста не была воспринята большинством тогдашних критиков, выражавших позицию официоза, и это доказывает, что к моменту публикации произведения уже был сформирован соответствующий канон. Кавалеров оказался для таких интерпретаторов дистанцированным от автора объектом сатиры. В знаменитом выступлении на писательском съезде Олеша рассказывает об этом случае с удивлением: «Шесть лет назад я написал роман «Зависть». Центральным персонажем этой повести был Николай Кавалеров. Мне говорили, что в Кавалерове есть много моего, что этот тип является автобиографическим, что Кавалеров - это я сам. Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. /.../ Как художник проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи /.../. И тут сказали, что Кавалеров - пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло». На первый взгляд, в «Зависти» развернут сугубо социальный и идеологический конфликт. Прагматику, творцу дешевой «народной» колбасы, Андрею Бабичеву противостоят представители старого уходящего мира -Кавалеров и Иван Бабичев. Вместе с тем из-под полупрозрачного флера привычных идеологем проступают очевидные контуры истинной коллизии. Кавалерова мучает прежде всего несомненное мужское превосходство Андрея Бабичева, названного «образцовой мужской особью» (25). Особенно подробно описывается пах «великого колбасника» (28): «Пах его великолепен. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда» (26). В том-то и дело, что фонтанирующего метафорами Ковалерова, как сказал бы другой отрицательный, но симпатичный герой тогдашней советской литературы, «девушки не любят», его мучает сознание собственной мужской несостоятельности. От этого, кажется, и конфликты Кавалерова с окружающим миром. Бабичев подобрал Кавалерова у пивной, откуда его вышвырнули. Герой устроил скандал, когда единственная женщина в заведении «отпустила шуточку» по его адресу. После этого Кавалеров обзывает ни в чем не повинную компанию «труппой чудовищ, /..../ похитившей девушку» (34), а даму умоляет: «Почему вы смеялись надо мной? Я стою перед вами, незнако мая девушка, и прошу: не теряйте меня» (34). Особенно же очевидной суть ситуации делают вопли уже выброшенного из пивной героя: «Я зову их, и они не идут. Я зову эту сволочь, и они не идут (Ко всем женщинам разом относились мои слова)» (35). По ночам героя терзают эротические сны: «Мне снится, что прелестная девчонка, мелко смеясь, лезет ко мне под простыню». (42). Но даже и такой вожделенный образ вызывает у Кавалерова страх: «Меня никто не любил безвозмездно. Проститутки и те старались содрать с меня как можно больше, — что же она потребует от меня?» (42). Символ «мужской униженности» (42) героя - вдова Прокопович, престарелая и уродливая дама, готовая разделить ложе с Кавалеровым. Все в романе строится на страсти, которой воспылал Кавалеров к Вале, шестнадцатилетней племяннице Бабичева - «колбасника» он, естественно, подозревает в желании растлить девушку.
Итак, казалось бы, все ясно. Под оболочкой идеологических претензий автопсихологического героя к новому миру, который высокую поэзию приносит в жертву колбасе и машинам, обнаруживается подлинная суть его драмы: девушки равнодушны к поэтическим образам, они любят жизнерадостных «колбасников». Но и эта мотивировка жизненной драмы героя тоже смахивает на фиктивную.
Роман-исповедь «Доктор живаго»
Александр Эткинд в книге «Эрос невозможного» написал, что «история не сохранила нам прямых свидетельств интереса к психоанализу таких, например, людей, как /.../ Борис Пастернак»45. Это несправедливое утверждение. История сохранила нам достаточно очевидные свидетельства не только знакомства Пастернака с учением Фрейда, но и устойчивого интереса писателя к психоаналитической проблематике. В этом плане особенно показательны письма Пастернака Марине Цветаевой от 1 и 11 июля 1926 года. Лето 26 года - кульминационный период в истории отношений Цветаевой и Пастернака, Марина Цветаева была в этот момент готова к встрече и любовному свиданию. Пастернака же мучили амбивалентные устремления, он и жаждал отдаться страсти, и мучительно ее боялся. Вот как об этом сказано в письмах: «Если бы я стал говорить дальше, я бы тебя насмешил: пошли бы ......
искушенья Св. Антония. Но ты не смейся. Есть страшные истины, которые узнаешь в этом абсурдном кипении воздерживающейся крови. /.../ На всех этих истинах, открывающихся только в таком потрясеньи, держится, как на стонущих дугах, все последствующее благородство духа, разумеется до конца идиотское, ангельски трагическое»46. И далее (в письме от 11 июля): «У меня есть какие-то болезненные особенности, парализованные только без-вольем. Они целиком подведомственны Фрейду, говорю для краткости, для указания их разряда.
Все слабые стороны чувствительности, одновременно и христианской и просто-напросто животной, изъязвлены и подняты во мне до бреда, до сер дечного потрясенья. Жизнь, как она у меня сложилась, противоречит моим внутренним пружинам. Я это помню и знаю всегда и в нормальных условиях всегда этому противоречию радуюсь. В одиночестве я всегда остаюсь с одними этими пружинами. Если бы я уступил их действию, меня разнесло бы на первом же повороте. Но нет человека, которого, при таком заряде, останавливало бы благоразумье. И я - не исключенье. Но поддайся я действию этих сил, как тотчас же и навеки мне пришлось бы расстаться со всем дорогим, с чем я разделил свою жизнь, со всеми людьми моей судьбы. /.../ .
Вот это-то и останавливает меня, ужас этой навсегда нависающей ночи». Очевидно, что Фрейд упомянут не всуе, речь идет действительно о проблеме, ЦЕЛИКОМ подведомственной психоанализу. Пастернак достаточно явно использует тот платоновский образ, с помощью которого Фрейд характеризовал отношения между «Я» и «ОНО»: «Я» - это всадник, а бессознательное - лошадь; кажется, что всадник управляет лошадью, на деле чаще всего происходит наоборот. Именно это, видимо, подразумевает писатель, говоря, что если бы он уступил действию своих внутренних пружин, его «разнесло бы на первом же повороте».
Е. Б. Пастернак комментирует процитированные письма следующим образом: «Для Пастернака евангельское положение о преодолении соблазна было законом существования духовной вселенной. Он считал, что на восприимчивости человеческой совести к словам Христа: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем», «держится как на стонущих дугах все последующее благродство духа» .
В данном случае сын-комментатор несколько выхолащивает размышления отца, превращая его в некое подобие позднего Толстого. На самом деле перед нами вовсе не проповедь преодоления соблазна - в противном случае нелепо было бы относить собственные переживания к разряду подведомственных Фрейду, фактически признавая себя невротиком. Подлинно амбивалентная мысль Бориса Пастернака глубже. Конфликт с половым инстинктом трактуется как трудноразрешимый: нельзя уступать разрушительному воздействию пружин бессознательного, но никого из чувственных людей такие благоразумные соображения не останавливают - и сам автор не исключение. Поэтому возвышенное «кипение воздерживающейся крови» Пастернак называет «абсурдным», а благородство духа, становящееся результатом воздержания, признает одновременно и «ангельски-трагическим», и «до конца идиотским». Здесь pro постоянно переходит в contra, а теза неотделима от антитезы. Речь идет о необходимости обуздывать собственную похоть, но без самодеструкции, бороться с низменными искушениями без ущерба для истинного Эроса.
Бросается в глаза, что Пастернак характеризует не конкретную житейскую ситуацию, в которой оказался, но «болезненные особенности», вообще ему присущие. И не случайно именно эта коллизия стала едва ли не магистральной в итоговом произведении писателя, романе «Доктор Живаго», основные герои которого (а прежде всего, разумеется, авторский персонаж Юрий Живаго) заняты напряженными поисками путей к совершенству, мечтая утвердить на земле идеалы истинного христианства. Важнейшую роль в процессе обновления человечества играет, по Пастернаку, проблема пола, и именно ее вынуждены мучительно решать такие персонажи произведения, как Живаго, Лара и Стрельников. Они пытаются пройти между Сциллой разврата и Харибдой аскезы. Идеал мыслится как некая золотая середина между
древнеримским гедонизмом и аскетической моральной доктриной, воплощенной в толстовской «Крейцеровой сонате». Здесь у Пастернака, опирающегося прежде всего на русскую мысль «серебряного века», обнаруживаются очевидные точки соприкосновения и с Фрейдом, который, как известно, считал проблему культурной адаптации сексуальных инстинктов одной из самых сложных для человечества.
Д. Лихачев с полным основанием назвал роман «Доктор Живаго» «родом автобиографии» Пастернака», а главного героя произведения — «выразителем сокровенного Пастернака»49. Не случайно в годы работы над романом Пастернак так часто повторял, что творчество требует прежде всего раскрепощенности и внутренней свободы личности. Например, Гете «позволил себе большую свободу, разрешил себе быть самим собой, писать, не оглядываясь вокруг...»50. Точно так же Пастернак подчеркивал «совершенную естественность и полную умственную свободу»51 Шекспира и блоковскую «свободу обращения с жизнью и вещами на свете» . В романе «Доктор Живаго» Пастернак именно «разрешил себе быть самим собой».
Шаламов и отцеубийство
Претенциозное название этой главы, конечно же, отсылает к знаменитой работе Зигмунда Фрейда «Достоевский и отцеубийство». В ней речь идет об эдипальности великого русского писателя, что, по мнению основателя психоанализа, и предопределило все основные особенности его творчества.
Фрейд напоминает, что, согласно его теории, отцеубийство - «основное и древнейшее преступление как человечества, так и отдельного человека. Во всяком случае, оно - главный источник чувства вины...»87. Отношение сына к отцу, по Фрейду, всегда амбивалентно: «помимо ненависти, из-за которой хотелось бы устранить отца в качестве соперника, обычно имеется и некоторая доля привязанности к нему»88. «В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить отца как соперника угрожала бы ему кастрацией. Стало быть, из-за страха кастрации, то есть в интересах сохранения своего мужского начала, ребенок отказывается от желания обладать матерью и устранить отца. Насколько это желание сохраняется в бессознательном, оно образует чувство вины»89. При нормальном развитии индивида никаких серьезных проблем не возникает, у невротика же и ненависть к отцу, и чувство вины, рождающее потребность в наказании, принимают гипертрофированные формы. Так, по мысли Фрейда, было с Достоевским. «В этом случае особенно опасно, если действительность осуществляет такие вытесненные желания»90. Как известно, Михаил Достоевский был жестоко убит. Страшное осуществление тайного и преступного желания сформировало у его сына невротический комплекс и, его сына невротический комплекс и, как утверждает Фрейд, наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь великого писателя. Поэтому его и не сломила каторга; хотя осуждение Достоевского в качестве политического преступника было несправедливым - он принял наказание как вполне заслуженное.
До сих пор творческая биография Варлама Шаламова не привлекала внимания психоаналитиков, хотя оснований для этого не меньше, чем в случае с Достоевским или Андреем Белым.
Автор «Колымских рассказов» известен своими шокирующе-эпатаж-ными высказываниями о Боге и о русской литературе. Непримиримый атеист Шаламов любил повторять, что «Бог умер» и что «разумного основания у жизни нет». Считается, что резко негативное отношение писателя к русской классике было связано с его неприятием гиперморализма: «Вот в чем несчастье русской прозы, нравоучительной литературы. Каждый мудак начинает изображать из себя учителя жизни»91. Главным воплощением пагубного морализаторства для Шаламова был Лев Толстой, якобы растоптавший «пушкинское знамя».
Не реже у Шаламова встречаются и отрицательные отзывы о своем отце. Наличие у автора «Колымских рассказов» Эдипового комплекса не вызывает сомнений. Дело не просто в резко негативном отношении Шаламова к отцу, но в абсолютной немотивированности этой неприязни, в неспособности писателя раскрыть ее причины.
Вернее сказать, причины Шаламовым названы, и, на первый взгляд, достаточно убедительные. Из его высказываний, дневниковых записей и мемуарных текстов следует, что отец был жестоким тираном, постоянно поучал окружающих, и прежде всего членов своей семьи, навязывал им собственные взгляды. От деспотического нрава отца особенно страдала мать писателя. «С мамой мой отец никогда ни в чем, даже в мелочах, не считался - все в се-мье делалось по его капризу, по его воле и по его мерке» . Отец заставлял жену и старшую дочь тащить воз домашнего хозяйства, и Варлам Тихонович «без слез не мог вспоминать о матери и сестре Наташе»93.
Однако все эти объяснения лишь кажутся логичными. Перед нами яркий пример того, что в психоанализе называется «рационализацией» (именно с ее помощью невротичный субъект стремится дать логически и морально убедительное объяснение своего поступка или чувства в тех случаях, когда их подлинные мотивы не осознаются). В этом плане большой интерес представляют воспоминания Ирины Сиротинской, которая была очень близка Шаламову в 60-70-е гг. Комментируя негативные высказывания Варлама Тихоновича об отце, Сиротинская замечает: «И не таким уж страшным деспотом был отец - он не заставил ни одного из сыновей избрать духовную карьеру, хотя и хотел этого, не препятствовал свободному времяпровождению сыновей и дочерей, не навязывал знакомых. Да и кухонные занятия матери -обычная и неизбежная вещь в небогатой семье. /.../И мать на кухне, и Наташа над корытом - это еще не трагедия. Но деньгами в семье распоряжалась мать, охотничьи трофеи делила мать...»94. Впрочем, Сиротинская убедительно доказывает, что «кухонные занятия матери - это, конечно, уже послереволюционная пора» .
Сомнения Сиротинской в деспотизме и жестокости Шаламова-старшего должен разделить каждый читатель «Четвертой Вологды» - книги шаламовских воспоминаний о детстве. Вот наиболее характерный пример — Шаламов воспроизводит свои мысли об отце, возникшие якобы в четырнадцатилетнем возрасте: «Да, я буду жить, но только не так, как жил ты, а прямо противоположно твоему совету. Ты верил в Бога - я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь. Ты любишь общественную деятельность - я ею заниматься не буду, а если и буду, то совсем в другой форме. Ты веришь в успех, в карьеру - я карьеру делать не буду, безымянным умру где-нибудь в Восточной Сибири. Ты любишь хорошо одеваться - я буду ходить в тряпках, в грош не поставлю казенное жалованье.
Ты жил на подачки - я их принимать не буду. Ты хотел, чтобы я стал общественным деятелем, - я буду только опровергателем. Ты любил передвижников - а я их буду ненавидеть. Ты ненавидел бескорыстную любовь к книге - я буду любить книги беззаветно. Ты хотел заводить полезные знакомства - я их заводить не буду. Ты ненавидел стихи - я их буду любить. Все будет делаться наоборот. И если ты сейчас хвалишься своим семейным счастьем, то я буду агитировать за фалангу Фурье, где детей воспитывает государство и ребенок не попадет в руки такого самодура, как ты. Ты хочешь известности - я предпочитаю погибнуть в любом болоте. Ты любишь хозяйство - я его любить не буду»96.
Доктор Джекил и мистер Хайд юриядомбровского
«Матренин двор» стал первым опубликованным произведением Солженицына с откровенно автобиографической канвой - сам писатель подчеркнул, что рассказ «полностью автобиографичен и достоверен»146. Повествование ведет авторский персонаж бывший зэк Игнатьич. После десяти лет лагерей и ссылки он мечтает «затеряться» в тихом и красивом уголке «нутряной России» (3,112). Игнатьич находит такой уголок - село с поэтическим названием Высокое Поле, но не остается в нем: там не пекли хлеба и не торговали съестным. «.. .Я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь...» (3,113). В этих словах рассказчика обозначена дилемма, становящаяся цен I тральной коллизией произведения; ее можно сформулировать так: насыщение плоти или духовное совершенствование?
Рассказчик поселяется на станции Торфопродукт, в селе Тальново, в доме пожилой крестьянки Матрены. Основная часть рассказа посвящена описанию жизни главной героини и ее односельчан. После трагической гибели Матрены рассказчик внезапно сознает, что она была истинным праведником, воплощением бескорыстия и духовности. Произведение заканчивается апологией Матрены и обличением ее меркантильных односельчан.
Два основных компонента, из которых складывается рассказ - изображение жизни русской деревни 50-х годов и проповедническо-обличительная концовка, - не вполне «стыкуются» друг с другом. Парадокс, на который как правило не обращают внимание читатели, заключается в том, что описание нищеты и голода автор завершает обличением меркантильности и сытости.
Условия жизни Матрены и других тальновских крестьян поистине ужасны. Работа в колхозе практически не оплачивается, люди выживают только за счет индивидуальных участков, с которыми начальство ведет борьбу, обрезая «излишки». В местном магазине «маргарин нарасхват» (3,118), а свободно продается только ячневая крупа и жир комбинированный. Качество крестьянской пищи таково, что даже привыкший к лагерной баланде Игнать-ич с трудом ее терпит: «Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывая в сторону, если попадалось что неурядное...» (3,119). Описывая особую, нерядовую, приготовленную для поминок еду, рассказчик замечает: «Из плохой муки пекли невкусные пирожки» (3,144).
Вокруг деревни Тальново растут леса, добывается торф, но крестьяне не имеют права купить топливо и вынуждены его воровать. Бабы таскают за несколько километров двухпудовые (!) мешки с торфом; такого мешка хватает на одну протопку, тогда как топить печь необходимо дважды в день, «а дней в зиме двести» (3,121).
Действия Фаддея, спешно разобравшего кусок Матрениной избы, в основной части рассказа выглядят вполне объяснимыми. Дочь Фаддея (и приемная дочь Матрены) Кира вышла замуж, молодым негде жить. Чтобы получить и удержать за собой участок земли, необходимо срочно «поставить какое-нибудь строение» (3,132). Ничего, кроме Матрениной избы (кстати, завещанной именно Кире), найти невозможно - «неоткуда лесу взять» (3,132).
Герои «Матрениного двора» живут в условиях, которые мало чем отличаются от лагерных, изображенных Солженицыным в созданном чуть ранее «Одном дне Ивана Денисовича». Попробуем вообразить, что в финальной части рассказа об «одном дне одного зэка» автор с негодованием обру 122 шивается на Шухова и его солагерников за то, что они слишком озабочены УУ материальной стороной жизни, беспрестанно думают о баланде, каше, пайках хлеба, махорке, валенках и т. д. Это предположение кажется абсурдным и даже кощунственным, но именно так обстоит дело в рассказе «Матренин 147 двор» . В финале этого произведения нищие односельчане Матрены предстают обезумевшими от жадности людьми с непомерными потребностями. Фаддей превращается в фигуру поистине инфернальную: он молодеет и наливается здоровьем от каждого материального приобретения. Сама же Матрена противопоставляется этому царству низменных меркантильных интересов как воплощение добровольной аскезы: «Что может быть легче - выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него - и потом зарезать и иметь сало. А она не имела.... Не гналась за обзаводом.». Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше самой жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. /.../ Она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...» (3,146).