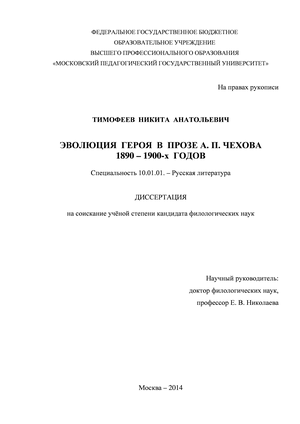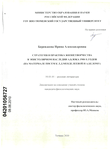Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Условия формирования чеховского мировоззрения 19
1. О некоторых противоречиях в мировоззрении Чехова 19
2. Повесть Чехова «Чёрный монах» как размышление о духовных исканиях русской интеллигенции конца XIX века 55
Глава II. Особенности изображения человека в художественном мире Чехова 1890-1900-х годов 70
1. Строение сюжета и развитие образа героя в произведениях Чехова 70
2. «Человек в хаосе» и «человек, противостоящий хаосу» – две стороны художественной эволюции Чехова 91
Глава III. Типы героев и их развитие 100
1. «Футлярный» тип 100
2. Тип героя-«конформиста» и его эволюция 115
3. Тип «поздно прозревшего» героя и его развитие 137
4. Тип героя, «ошибившегося в выборе»: «Рассказ неизвестного человека» – «Моя жизнь»
5. «Активный» тип 191
Заключение 204
Библиография
- Повесть Чехова «Чёрный монах» как размышление о духовных исканиях русской интеллигенции конца XIX века
- Строение сюжета и развитие образа героя в произведениях Чехова
- «Человек в хаосе» и «человек, противостоящий хаосу» – две стороны художественной эволюции Чехова
- Тип «поздно прозревшего» героя и его развитие
Повесть Чехова «Чёрный монах» как размышление о духовных исканиях русской интеллигенции конца XIX века
Для того чтобы понять истоки чеховского мировоззрения, необходимо обязательно учесть и особенности эпохи, в которую он работал. А. В. Амфитеатров писал: «...единственным строго определительным ярлыком для литератора той или другой эпохи может быть только ярлык его времени. Конечно, нет пределов, с точностью указывающих: вот – от сих до сих – люди сороковых годов...; тут-то начинаются и там-то кончаются шестидесятники...; отсюда-то пред нами семидесятники, восьмидесятники и т.д.».
Первые литературные опыты Чехова относятся ещё к концу 1870-х годов, однако в печати его рассказы стали появляться в 1880 году. Отрочество и юность писателя пришлись на 1870-е и начало 1880-х гг. Для России это было время исканий, обилия разнообразных идеологических и философских направлений. Набирало силу народничество и, как основа его, социально-философские взгляды, которые чуть раньше, в 60-е годы, были выражены в трудах Д. И. Писарева, П. Л. Лаврова, М. А. Бакунина. Эти публицисты считали главной задачей борьбу за свободу, личную и общественную, однако каждый из них утверждал свои идеи с разной степенью радикальности. Историк А. А. Корнилов писал: «...ставилась задача освобождения личности от всяких пут, но при этом совершенно определённо указывалось, что освобождённой может считаться только та личность, которая освободилась и от религиозных верований, в которых она воспитывалась, и стала атеистической, так что атеизм ставился во главу угла личного развития» материалистический и нигилистический (в смысле отказа человека принимать на веру какие бы то ни было убеждения и принципы, особенно традиционные) взгляд быстро нашёл отклик у молодёжи не только в 1860-е, но и в 1870-е годы, так что эти веяния не прошли даром и для Чехова. А. В. Амфитеатров (который был всего на два года младше Чехова), вспоминал: «Наша юность прошла в кошмаре тяжких отвращений, непрерывно вырабатываемых беспощадным анализом, унаследованным как научный метод от шестидесятых годов, но обострённым и усовершенствованным...» 63
В книге о великом физиологе И. П. Павлове (который был на 11 лет старше Чехова) В. О. Самойлов и А. С. Мозжухин так описывают тенденции, сложившиеся в те знаковые десятилетия (1860-1870 годы): «Стремление к эмансипации стало движущей силой преобразования всех сторон русской жизни. Каждый гражданин обновляющегося государства, по словам известного публициста Н. В. Шелгунова, “освобождался где и как он мог от чего ему было нужно... Идея свободы, охватившая всех, проникала повсюду, и совершалось действительно что-то небывалое и неведомое». Личность освобождалась от холуйской психологии «чего изволите?”, от абсурдной подчинённости хозяину не только поступками, но и помыслами, от предрассудков старого уклада. В то же время она оставалась верной высоким нравственным и социальным идеалам, её одухотворяла жгучая потребность трудиться для освобождения людей от какого бы то ни было угнетения. Критерием оценки человека становился труд, направленный на то, чтобы жизнь была краше. Её надеялись улучшить путём преобразования природы. Архимедовым рычагом такого преобразования признавалась наука. «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», – проповедовал тургеневский Базаров, выражая мысли разночинной интеллигенции...»64
С. 10. Многие молодые люди выбирали, таким образом, служение знанию, стремились к точным наукам. Сам И. П. Павлов писал: «Под влиянием литературы шестидесятых годов, в особенности Писарева, наши умственные интересы обратились в сторону естествознания – и многие из нас – в числе этих и я – решили изучать в университете естественные науки».65 В те же годы, что и Чехов, начинают свой путь в науку В. М. Бехтерев, В. И. Вернадский.
Н. А. Бердяев писал о тенденции, которая была присуща молодёжи 1870-х годов: «Русская интеллигенция хотела жить и определять своё отношение к самым практическим и прозаическим сторонам общественной жизни на основании материалистического катехизиса и материалистической метафизики. В 70-е годы интеллигенция увлекалась позитивизмом...»66
Однако, с другой стороны, после событий 1 марта 1881 года и краха радикально-революционного движения, на фоне усилившейся с приходом Александра III реакции, значительная часть интеллигенции ощутила в это мрачное время желание обрести нравственную, духовную опору, благодаря чему чрезвычайно востребованными стали учение Л. Н. Толстого («толстовство», идеи «опрощения», теория непротивления злу насилием) и религиозно-философские воззрения Ф. М. Достоевского, выраженные писателем в романах, составивших «великое Пятикнижие», и в «Дневнике писателя». Большой отклик нашли и взгляды В. С. Соловьёва, выступившего с работами «Чтение о богочеловечестве» (1878), «Смысл любви» (1894) и др., а также – учение Н. Ф. Фёдорова.
Потребность в духовных, высших нравственных идеалах определила искания этой части интеллигенции, «взыскующих града», предвосхищая, в свою очередь, и то религиозно-мистическое движение, которое позднее набрало силу уже на переломе веков, в период «Fin de sicle»,67 и
«Конец века» (фр.) представленное такими выдающимися религиозными философами, писателями и богословами, как Д. С. Мережковский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Л. И. Шестов, П. А. Флоренский, а затем и И. А. Ильин, С. Н. Дурылин и т.д.
«Палитра» разнонаправленных исканий эпохи, бесспорно, не могла не отразиться и на творчестве Чехова, о чём свидетельствуют крайне противоречивые оценки взглядов писателя, дававшиеся критиками и современниками.
Подробному исследованию факторов, определявших восприятие современниками чеховского творчества, и некоторым особенностям мировоззрения Чехова посвящены исследования Л. Е. Бушканец.68 69 Между прочим, исследовательница отмечает: «То, что в творчестве Чехова воплотились настроения интеллигенции рубежа веков, было результатом совпадения некоторых черт его мироощущения с настроениями его времени. ... ...в языке чеховского времени перемешались... Чехов как певец сумерек и Чехов как певец надежды, Чехов как певец отчаяния и Чехов-оптимист».70
К. Г. Исупов указывает: «В кризисе на исходе века обреталась не только философия. Письмо и большие жанры классического реализма умельчаются в народнической беллетристике; в опытах авангарда рухнули испытанные временем каноны... Нет более странного зрелища, чем соприсутствие в рамках общей эпохи символистов, Чехова, А. Майкова, Л. Толстого и В. Короленко».71
Строение сюжета и развитие образа героя в произведениях Чехова
Чехов восставал и против попыток приписать его творчеству скрытые мистические смыслы. Вот почему он остался неудовлетворён статьёй того же Д. С. Мережковского, написанной в 1888 году (о чеховских сборниках «В сумерках» и «Рассказы»), где Мережковский давал такие оценки: «На дне природы поэт (Чехов. – Н.Т.) чувствует тайну: эстетическое наслаждение... уступает место более глубокому мистическому чувству, почти ужасу...»,139 «...мистическое чувство, почти экстаз, возбуждаемые в нём (Чехове. – Н.Т.) слишком сосредоточенным созерцанием природы...»,140 «Молодой беллетрист (Чехов. – Н.Т.) соединяет несколько отвлечённый, но глубоко поэтический мистицизм в отношении к природе с тёплой гуманностью...» 141
Как справедливо указывает Е. Д. Толстая, Чехов остался недоволен статьёй, поскольку Мережковский, утверждавший, что Чехову «сущность жизни представляется отчаянной, ужасной» (С., VII, 66), приписал ему мистическое мироощущение: «Чехов как бы подчёркивает “позитивистский”, антипатетический характер этого отчаяния, а его ловят и силой возвращают в прежний – стилистически Чехову оскорбительный – круг понятий: “мистика”, ”поэт”...»142 Неудивительно, что Чехов в письме к А. С. Суворину отозвался с насмешкой о статье Мережковского: «Меня величает он поэтом, мои рассказы – новеллами, моих героев – неудачниками, значит, дует в рутину». (П., III, 54)
О религии Чехов откровенно писал в 1902 году С. П. Дягилеву: «Вы пишете, что мы говорили о серьёзном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего
Толстая Е. Д. Поэтика раздражения. С. 140. не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от неё все дальше и дальше... ... Теперешняя культура – это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает». (П., XI, 106)
Вместе с тем конец XIX – начало XX века в России были ознаменованы серьёзными религиозно-философскими поисками. Крупнейшие мыслители пытались осмыслить сложные взаимоотношения церкви и интеллигенции, сущность веры, пути религии и пути культуры. Наконец, старались дать ответ на вопрос о том, каковы особенности идейно-нравственных исканий в обществе и каковы глубинные причины всех кризисных явлений начала века, а также – набиравшего силу революционного движения.
Одним из столпов нового понимания христианства стал философ и писатель В. С. Соловьёв, у которого было много последователей, но даже и те, кто полемизировал с ним, признавали его авторитет. В 1900-е годы в печати выступают такие выдающиеся религиозные мыслители, как Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков и многие другие.
В то же время усиливалось идейное и духовное противостояние церкви и интеллигенции. На этот кризис указывал архиепископ Антоний (Храповицкий), который был, по словам Д. С. Мережковского, «одним из высоко стоящих светильников»143 Православной церкви. В статье «В каком направлении должен быть разработан устав духовных академий» арх. Антоний писал об «отчуждённости церковной мысли от тех интересов – философских, моральных и общественных – которыми живёт общество».144
В. А. Тернавцев говорил в одном из своих докладов: «Интеллигенция и Церковь... – суть две противоположные, ведущие и подвизающиеся в учительстве силы. Обе они призваны в конце концов делать одно и то же
В настоящее же время обе эти силы находятся между собою в глубоком разладе...»145 Д. В. Философов считал, что Церковь «довела свою любовь к Богу, своё служение Ему – до ненависти к миру, до презрения к культуре».146 О трудных взаимоотношениях церкви и интеллигенции позже, в 1909 году, рассуждали также и авторы «Вех», уже упомянутые нами.
Но в то же время в обоих духовных лагерях – церкви, с одной стороны, и интеллигенции, с другой, – было желание начать продуктивный диалог. Это также отмечал арх. Антоний: «...стремление слиться с обществом охватило многих духовных лиц, особенно в столицах, даже свыше желаемой меры...»147 Представители церкви начинали понимать, что при той существенной роли, которую играла в обществе культура, им теперь также необходимо было больше говорить о социальных и культурных процессах, интегрироваться с интеллигенцией. Не зря многие видные деятели духовенства стали выступать от имени церкви и как публицисты, и как философы (арх. Антоний (Храповицкий), о. Павел Флоренский и многие другие).
В Петербурге в 1901-1903 годах обсуждения этих вопросов проходили на Религиозно-философских собраниях, на которые приглашались писатели, мыслители, публицисты, представители духовенства. Среди участников – Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Н. М. Минский, А. В. Карташёв, В. А. Тернавцев, Д. В. Философов, епископ Сергий (И. Н. Страгородский) и многие другие. Все они часто стояли на непримиримых позициях.
«Человек в хаосе» и «человек, противостоящий хаосу» – две стороны художественной эволюции Чехова
В рассказе «В усадьбе» Чехов рисует образ помещика Рашевича, строя произведение таким образом, что более половины текста занимает напыщенная, человеконенавистническая, полная любования собой речь персонажа. Этот чеховский приём можно назвать так: саморазоблачение героя. Недаром в продолжение всех его «филиппик» возражений от собеседника (гостя) нет: читатель сам, без помощи оппонента, проникается неприязнью по отношению к Рашевичу. Из перечисленных нами особенностей «футлярного» типа мы встречаем, например: довольство собой («...наслаждаясь своими мыслями и звуками собственного голоса...» – С., VIII, 334), постоянные мысли о выгоде («Рашевич мечтал о том, как он пристроит свою Женю за хорошего человека и как потом все заботы по имению перейдут к зятю. Неприятные заботы! Проценты в банк не взнесены уже за два срока, и разных недоимок и пеней скопилось больше двух тысяч!» – там же, с. 334), безразличие к горю других и упоение своими обидами («Он писал о том, что он уже стар, никому не нужен и что его никто не любит, и просил дочерей забыть о нём и, когда он умрет, похоронить его в простом сосновом гробе, без церемоний, или послать его труп в Харьков, в анатомический театр» – там же, с. 341). Примечательно, что и такой тон, и едкие выражения (что указывает на близость душевных движений всех «футлярных») присущи будут и речи доктора Белавина («Три года»): «И если бы я околел поскорей, и если бы меня черти взяли, то все были бы рады. ... В меня чуть не бросают камнями и ездят на мне верхом. И даже близкие родные стараются только ездить на моей шее, чёрт бы побрал меня, старика болвана...» (С., IX, 22).
Эти совпадения в очередной раз подтверждают нашу мысль, что из всех типов героев именно «футлярному» типу присущи вполне чёткие, повторяющиеся от образа к образу черты.
«Ионыч» и «Крыжовник» – рассказы, где не просто представлен очередной типичнейший герой «футлярного» типа, но и показано, каким образом он пришёл в состояние полной духовной слепоты. Если во множестве других произведений писателя интересовал именно мотив «прозрения», многообразно варьировавшийся, то в этих двух рассказах, напротив, писатель подробно разработал «обратный» сюжет: об опошлении и «умирании» души.
В соответствии с таким подходом в обоих произведениях, во-первых, расширяется, растягивается время действия. Если в «Попрыгунье», «Княгине» перед нами небольшой отрезок времени, позволяющий раскрыть характер персонажа, то и в «Ионыче», и в «Крыжовнике» Чехов берёт те или иные эпизоды, происходившие в течение нескольких лет: в первом рассказе более семи лет («Прошло больше года» – С., Х, 28, «Прошло четыре года» – там же, с. 35, «Прошло ещё несколько лет» – там же, с. 40), во втором – десятилетия, целая жизнь («годы проходили» – там же, с. 58, «годы шли», «минуло... сорок лет» – там же, с. 59).
В связи с этим Чехов использует как бы ступенчатый принцип в изображении героя: сначала герой – самый обыкновенный, приятный человек (Об Ионыче: «интеллигентный человек» – там же, с. 24, О Николае Иваныче: «Он был добрый, кроткий человек» – там же, с. 58), затем всё заметнее усиление в нём новых качеств (стремление к личному благополучию, лень, очерствение и т.п.) и, наконец, он всецело изменяется, безвозвратно «окаменевая» в этих новых качествах.
Важен тот факт, что рассказы о самых мрачных «футлярных» персонажах: об Ионыче, Беликове, Чимше-Гималайском – появились один за другим, подряд. Почему Чехов вдруг вывел эту маленькую галерею ненавистных ему типажей и даже дважды продемонстрировал саму историю их безнадёжного «офутляривания» (Ионыч, Чимша-Гималайский)?
Вероятно, здесь сыграло роль не только стремление Чехова в очередной раз привлечь внимание к этой мрачной категории людей, отравляющих и угнетающих жизнь, но главным образом разоблачить их мнимую безобидность, представив явление во всей пугающей сущности. Ведь на первый взгляд, они – полезные члены общества: в самом деле, Ионыч – врач, помогает множеству людей, Беликов – преподаватель гимназии, учит и воспитывает, и даже Чимша-Гималайский (в прошлом добросовестный чиновник) не совсем уж забросил благие дела: нет-нет, да и полечит крестьян, в праздник поставит им «полведра»... Однако целью Чехова и было показать, что «футлярные» герои никого не спасают, а представляют незримое зло, продолжающее действовать незаметно, как «общий гипноз» (Там же, с. 62).
Если представители этого типа в ранних рассказах были даны просто отрицательно, то теперь Чехов прибегает к гоголевским и щедринским приёмам, не жалея красок для того, чтобы нарисовать образы уже в устрашающем, зверином обличье, иногда вызывая иллюзию, что в этих фигурах есть даже нечто инфернальное, «дьявольское», как, например, в Беликове («Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. ...наши учителя народ всё мыслящий, ...однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город!» – там же, с. 44).
Следует обратить внимание на то, что в рассказе «Человек в футляре» трансформированы элементы из ранней юморески «Смерть чиновника»: 1) образ чиновника, боящегося начальства (Червяков Беликов), 2) сюжетный ход: смерть от ничтожного случая (генерал гаркнул Червяков умер; обсмеяли в нелепой ситуации Беликов умер). Однако огромна дистанция между образами, относящимися к одному типу: если Червяков жалок, заслуживает только насмешки и презрения, то Беликов страшен, вызывает тревогу. Поэтому и приём гротеска, использованный Чеховым с юмористической целью при создании образа Червякова, теперь, при характеристике Беликова (очки, калоши, зонтик, соглядатайство, маниакальность и т.д.), играет уже явно иную роль. Хотя сущность этих героев одна, но несомненно, что глубина анализа и сила обобщения в «Человеке в футляре» значительно больше, «диагноз» Чехова – предельно суров.
Таким образом, «футлярный» тип оказался единственной категорией, герои которой не подвластны никаким переменам. Эти персонажи, как сказано в рассказе «На святках» (1900), и есть «сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая» (Там же, с. 183), то есть именно то, что было ненавистно Чехову более всего. Если в образах представителей остальных типов писатель был склонен от произведения к произведению всё чаще отмечать отрадные, обнадёживающие черты, то, напротив, разработка «футлярных» героев шла по линии всё большего низведения, развенчания, разоблачения их беспросветной, «нечеловеческой» сущности.
Тип «поздно прозревшего» героя и его развитие
В «Рассказе неизвестного человека» Чехов детально изображает героя, посвятившего большую часть своей жизни революционному делу, и более того – терроризму. Мрачность, отсутствие светлого настроения и скептицизм указывают на ещё достаточно сильное влияние того настроения, которое было присуще периоду 1880-х – начала 1890-х годов: взгляд на человека как на жертву холодного, неразумного мира, в котором тщетны любые поступки, который рушит надежды и счастье.
По происхождению Владимир Иванович, «неизвестный человек», – тоже дворянин. Он, принадлежавший к привилегированному сословию, верил в то, что он называет «своим делом» (С., VIII, 139), т.е. делом борьбы – с социальной несправедливостью и т.д. Однако поступив в качестве лакея в дом к Орлову, он не сразу осознал подспудную утрату своей веры в прежние идеалы: «Не знаю, под влиянием ли болезни, или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что собственно мне нужно» (Там же, с. 139-140).
Чехов косвенно намекает, что именно странная «мечтательность» главного героя в своё время толкнула его выбрать служение «делу», однако вера в «дело» оказалась верой не на всю жизнь, а верой «на время», которая рано или поздно должна была ослабеть в душе и сознании героя, потому что не отвечала его глубинным духовным запросам и не могла удовлетворить их.
Композиционно повесть строится следующим образом: она распадается на три неравных по объёму части, которые условно можно назвать по месту действия: «Петербург» – «заграница» (Италия, Франция) – «снова Петербург» (спустя два года). В первой части описывается жизнь главного героя на том её этапе, когда он постепенно утрачивает веру в пользу и необходимость своего «дела», во второй – мучительные поиски целей и попытка осмыслить прошедшие годы, в третьей – духовная опустошённость, потерянность героя и близость к смерти.
Композиция помогает раскрыть и образ героя. Итак, в финале Владимир Иванович («неизвестный человек») в итоге возвращается туда, где он когда-то истово служил «делу» и вынужден был с особой осторожностью скрывать от Орлова свои истинные положение и намерения. Вернувшись, он совершенно спокойно, на равных, беседует с Орловым, и всё прошедшее – в контраст с настоящим – кажется уже странным, ненужным и даже нелепым, как некий сон.
Насмешливые слова Орлова: «А, господин крамольник!» (Там же, с. 209) и важная деталь: «Он (Орлов. – Н.Т.) нисколько не изменился» (Там же, с. 209) должны быть тяжелы для рассказчика, Владимира Ивановича: тяжелы именно тем, что его собственные прежние поиски и страсть, с которой он отдавался «делу», рассыпавшиеся в пыль, в ничто, – внешне проигрывают, как ненужный жизненный «зигзаг», по сравнению с неизменностью Орлова и с его уверенным, «безошибочным» выбором жить без всяких особенных идеалов и соответственно без риска разочароваться в чём-то. Орлов, таким образом, по-своему выглядит даже «дальновиднее» Владимира Ивановича, ибо сам не создавал себе никаких идейных и духовных «идолов» и не мучился, не переживал их крушение. Не зря Орлова раздражали в Зинаиде Фёдоровне именно её страстность и вера в то, что он не ценит или же давно перестал ценить: «...то, что до сих пор я считал пустяком и вздором, она вынуждает меня возводить на степень серьёзного вопроса, я служу идолу, которого никогда не считал богом» (Там же, с. 159).
Чехов противопоставляет постоянный холодный скептицизм, нравственный, идейный нигилизм и бесконечную иронию надо всем (Орлов и его друзья) и стремление отыскать цель, идеалы (Владимир Иванович и Зинаида Фёдоровна). Хотя в этом противопоставлении большие симпатии автора, бесспорно, на стороне Неизвестного человека, но сама мучительная борьба этих двух позиций (скептицизм, с одной стороны, и стремление к вечным идеалам, с другой) выражает противоборство мировоззренческих принципов, отражавшее искания самого Чехова (от примирения с хаосом – к преодолению хаоса, от философии пассивности – к личной активности).
Знаменательно, что по психологическим штрихам, по символическим деталям, как это ни парадоксально, заметно некоторое сходство Орлова и Владимира Ивановича, что уже отмечалось в литературоведческих исследованиях, в частности, Г. П. Бердниковым: «...Владимир Иванович... признаёт своё духовное родство с Орловым».256
Судьба Орлова – это как бы версия судьбы Владимира Ивановича: при других обстоятельствах и при другом, возможном идейном выборе. Возможно, что и одинаковое отчество героев (Иванович) – тоже художественный приём, который показывает, что они духовно родственны, принадлежат к одному и тому же «семейству» (в смысле поколения, социальной среды, воспитания и т.д.).
Орлов циничен, бесстрастен, эгоистичен, ему хватает силы честно признать себя невыдающимся и трусливым человеком, в чём он признаётся «неизвестному человеку»: «Да, моя жизнь ненормальна, испорчена, не годится ни к чему, и начать новую жизнь мне мешает трусость...» (С., VIII, 212). Но эта сознательно выбранная Орловым «испорченная жизнь» опять же, если присмотреться, делает странно похожими Владимира Ивановича и Орлова. Не только слабость, но и своеобразная сила – сила уверенности в выбранном пути – парадоксально объединяет Орлова с «мятущимся» Владимиром Ивановичем: «неизвестный человек» уверен в том, что надо бороться за справедливую и возвышенную жизнь («Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю» – там же, с. 213), а Орлов тоже уверен – в своём пути «равнодушия» и «эпикурейства». Эту черту подчёркивал и Г. П. Бердников: «Характерной особенностью