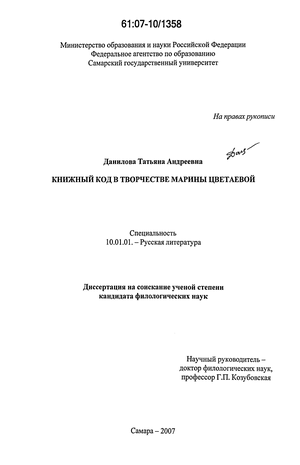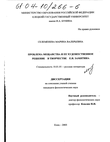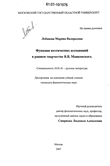Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I . «Книга» и «книжность» в сознании М. Цветаевой
1.1. Читающая женщина: биографический контекст 24
1.2. Книжный код в переводе романа "Новое упование" 37
1.3. Книга как воплощение стихии жизни в автобиографиче- 48 ской прозе
ГЛАВА И. Лирика М.Цветаевой: от книги к творчеству
2.1. От человека читающего к человеку творящему 68
2.2. Преодоление «литературности» 89
2.3. Книга Бытия в лирике 1916-1920 гг. ' 107
2.4. Эпиграфы и посвящения 119
ГЛАВА III. Человек и книга в мемуарно-эпистолярном наследии М. Цветаевой 30-х гг.
3.1. «Человек-книга» и «книжный человек» (очерки о К.Бальмонте и В.Брюсове) 130
3.2. Культ человека в очерке М.Цветаевой «Живое о живом». Книга как мир 141
3.3. Книжно-эпистолярный код. Книга как символ духовной связи в письмах - «романах» М.Цветаевой 153
3.4. Миф об утраченном рае в письмах А.А. Тесковой. Литература как деяние 164
Заключение 181
Библиографический список 183
- Книжный код в переводе романа "Новое упование"
- От человека читающего к человеку творящему
- «Человек-книга» и «книжный человек» (очерки о К.Бальмонте и В.Брюсове)
- Книжно-эпистолярный код. Книга как символ духовной связи в письмах - «романах» М.Цветаевой
Введение к работе
Актуальность исследования. Творчество М.Цветаевой - одного из оригинальнейших поэтов Серебряного века изучалось в отечественном литературоведении неравномерно, и в первую очередь потому, что многое из ее наследия долгое время не было издано ни на родине, ни за рубежом.
Прижизненная критика о М.Цветаевой отличалась противоречивостью оце-нок, включая самые первые отзывы В. Брюсова , Н. Гумилева , М. Волошина (в России) и последующие - Д. Святополк-Мирского, М. Слонима, Г. Федотова, В. Вейдле, Г. Адамовича4 (за рубежом). Как отмечал В. Струве, «...отталкивание от нее (М.Цветаевой - Т.Д.) было более сильное. Многие считали ее поэзию заумной, непонятной» [Струве, 1996: 107].
Проблема понимания и прочтения творчества М. Цветаевой остается не до конца разрешенной и сегодня5.
Объем сделанного в отечественном цветаевоведении во второй половине XX века (начиная с 60-х годов по 2000 год), действительно, значителен. В 1961 г. в России вышла первая тоненькая книга стихов М. Цветаевой, а в 1965 г. был издан более объемный том лирики поэта. Позже, благодаря усилиям А.Эфрон, дочери М.Цветаевой, появился двухтомник избранных сочинений М. Цветаевой. В 80-е гг. выходят отдельные тома избранной прозы и лирики М.Цветаевой; в 1997 году в России было издано более полное собрание сочине-
1 Брюсов В. Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней,- М.,
1912.-С.197-198
2 Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии.- М., 1990.- С. 121.
3 См.: Разумовская М. Марина Цветаева: Миф и действительность,- М., 1994.- С. 65
4 См.: Струве Г. Русская литература в изгнании.- Париж; М., 1996.- С. 106-113.
5 Как замечает О. Ревзина, «объем сделанного невозможно переоценить, и здесь же зафиксированы
определенные горизонты понимания Марины Цветаевой. Но эти горизонты для нее слишком узки, в
них трудно дышать, и понимание оборачивается квазипониманием. Новый виток предполагает опо
знание выработанных стереотипов и степени их эффективности, выведение М. Цветаевой из узкого
бытового контекста в естественный и соприродный ей контекст мысли и творчества XX века» [Ревзи
на, 1992:98].
4 ний в 7 томах. В этом же году осуществилась публикация писем и дневников поэта. В 1999 г. продолжилась публикация ранее неизвестных читателю писем («Неизданное. Семья: История в письмах»). В год открытия архива М. Цветаевой (2000) увидели свет «Неизданное. Записные книжки: В 2 т». Опубликованная мемуарная литература, воспоминания близких - сестры А.Цветаевой (1971), дочери А.Эфрон (1986), а также дневники сына Г. Эфрона (2006) - дали богатейший материал для исследования и постижения творческого наследия М. Цветаевой. Только сегодня введены в научный оборот письма поэта.
После долгого перерыва первые критические статьи о Цветаевой в России появились в 50-60-е гг. (И. Эренбург1, В. Орлов2, П. Антокольский3), а литературоведческое исследование ее творчества началось только в 80-90-е гг. XX века.
В русском и зарубежном цветаевоведении наиболее полно реализовался историко-биографический подход. Первое системное исследование жизни и творчества М. Цветаевой было предпринято Симоном Карлинским1. В 1981 г. вышла книга Марии Разумовской «Марина Цветаева. Миф и действительность» на немецком языке, на русском языке биография опубликована в 1983 г. Одной из первых биографий М.Цветаевой в России стала работа А. Саакянц «Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества» (1986), в которой представлены неизвестные ранее документы.
В книге М. Белкиной «Скрещение судеб», имеющей подзаголовок «Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка детей ее. Попытка времени, людей, обстоятельств», реконструируются два последних годах жизни М. Цветаевой в России. Задуманная как триптих («Марина Ивановна», «Мур», «Алины университеты»), книга исследует обстоятельства последних лет, при-
1 Эренбург И. Поэзия Марины Цветаевой // Литературная Москва: Литературно-художественный
сборник московских писателей.- М., 1956. Сб.2.- С. 709-715.
2 Орлов В. Судьба. Характер. Поэзия // Марина Цветаева. Избранное.- М., 1961.- С. 8-15.
3 Антокольский П. Книга Марины Цветаевой//Новый мир.-1966.-№4.-С. 212-224.
5 ведшие к драме: расшифрован смысл трагического финала жизни М.Цветаевой - это несение креста. По определению автора, жанр книги - «документальное повествование, в нем нет места выдумке и литературным прикрасам» [Белкина, 2005: 7], но в отборе фактов и их изложении ощутим художественный замысел повествователя, избирающего скромную позицию рассказчика, очевидца. В этом выражается эстетическая установка самой М. Цветаевой, предпочитавшей книгу «рассказанную», не «написанную»: так субъект исследования избирает манеру, присущую объекту.
В книге Виктории Швейцер «Быт и Бытие Марины Цветаевой», изданной сначала Париже в 1988 году, затем переизданной в России в 1992 г., содержатся биографические материалы, многие из которых впервые были ею опубликованы. Ценность фундаментального биографического исследования В. Швейцер неоспорима, но оно не лишено недостатков, характерных для цветаевоведения: противопоставление человека и поэта, жизненного и поэтического миров. По справедливому замечанию О.Г. Ревзиной, такой подход непродуктивен в изучении целостного и неделимого феномена творческой личности М. Цветаевой [Ревзи-на, 1992:99].
Американская писательница Лили Фейлер, назвав свою книгу «путешествием по лабиринтам души Цветаевой» [Фейлер, 1998: 7], рассматривает личность поэта «с учетом психологической перспективы». Драму души М. Цветаевой она пытается раскрыть, опираясь на фрейдистскую концепцию, аналитические теории Элис Миллер, Юлии Кристевой и др. Личность М. Цветаевой и ее поэтические тексты Фейлер анализирует в психоаналитическом ключе.
Биографическую трилогию И.Кудровой «Путь комет: Жизнь М.Цветаевой» [Кудрова, 2002] можно считать итоговой в этом жанре. Биография Кудровой сочетает достоверность фактов с беллетристической свободой изложения материала. В «жизнеописании» органично воссоздана мировоззренческая и эстети-
1 Karlinsky Simon. М. Tsvetaeva: Her Life and Art.- Berkley, 1966.
ческая атмосфера времени.
Продуктивны исследования поэзии М. Цветаевой в лингвистическом аспекте. Наиболее известны работы Л.В. Зубовой [Зубова, 1989], О.Г. Ревзиной [Рев-зина, 1979,1983, 1995] и др., органично сочетающие лингвистическое описание с литературоведческим анализом, а также исследование В.А. Масловой [Мас-лова, 2000], опирающееся на лингвокультурологический анализ.
Многочисленны работы, посвященные отдельным проблемам языка М.Цветаевой1. Семантические неологизмы (окказионализмы) - предмет исследования Н.К. Шаяхметовой, фразеология - Р.Г. Кокеладзе, звуковая организация стиха - Г.И. Седых, немецкие вкрапления в текстах М. Цветаевой - Е.А. Чигириной, структурно-семантические особенности лексико-синтаксических окказионализмов в идиолекте М. Цветаевой - М.Ю. Нарынской, использование библеизмов в поэзии М. Цветаевой - Г.В.Романовой, лингвистические особенности эпистолярного наследия Марины Цветаевой - Е.Ю. Муратовой и т.д. Значительны исследования синтаксиса, ритма, поэтической этимологии Е. Эткин-да2. Структурно-семиотический анализ текстов содержится в работах Ю.М. Лотмана3, М.Л. Гаспарова4 и др.
Интерес к жанрово-стилистическому аспекту творчества М. Цветаевой преобладает в литературоведческих работах Е.Б. Коркиной, О.А. Клинга, СБ. Яковченко, Е.К. Соболевской, М.В. Серовой, Н.П. Уфимцевой и др. Так, например, Н.П. Уфимцева осмысливает мироощущение М. Цветаевой с точки зрения жанрового образования лирической книги Цветаевой «После России».
Исследования А.С. Крыловой «Восхождение духа» (1999) и 3. Миркиной
1 «И постольку, поскольку литература является лингвистическим эквивалентом мышления, Цветаева,
...оказывается наиболее интересным мыслителем своего времени» [Бродский, 1997: .69].
2 Эткинд Е. Материя стиха.- Санкт-Петербург, 1998.
3 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха.- Л., 1972.- С. 235-247; Лотман Ю.М.
Внутри
мыслящих миров. Человек- текст-семиосфера-история.-М., 1996.
4 Гаспаров М.Л. «Поэма Воздуха» Марины Цветаевой // Избранные труды. Т.2.0 стихах.- М., 1997.-С.
168-186.
7 «Невидимый собор» (1999) рассматривают творчество Цветаевой преимущественно в философском аспекте.
Проблеме лирического цикла в творчестве М. Цветаевой посвящены работы Г.П. Петковои, изучающей цветаевское творчество в свете символистской культурной модели «жизнь-текст» [Петкова, 1999]. В практике культурологического анализа циклических структур используется и интертекстуальный подход [Серова, 1997]. Метод А. Эткинда сочетает интертекстуальный анализ, размыкающий границы текста с новым историзмом, и внетекстовую реальность, связи литературы с многообразием жизни [Эткинд, 1998]. Глубокий интертекстуальный комментарий дан в работе И. Малинкович [Малинкович, 1999].
Разнообразным аспектам мифопоэтики творчества М. Цветаевой посвящены работы Е. Фарыно, В.Ю. Александрова, С. Ельницкой. Н.О. Осиповой, О. Хейсти, Т. Суни и др.
Самым значительным исследованием в этом плане является докторская диссертация Е. Фарыно («Мифологизм и телеологизм Цветаевой / «Магдалина» - «Царь-Девица» - «Переулочки» -1985), в которой рассматривается архаическая фольклорная символика и выявляются архетипические модели в поэмах М. Цветаевой.
В.Ю. Александров в работе «Фольклоризм М. Цветаевой» (1989), отмечая, что мифотворчество - органическая особенность мира М. Цветаевой, подчеркивает специфику ее фольклоризма: фольклор для нее не подражание, а «природное», «натуральное» родственное мироощущение.
В исследовании С. Ельницкой «Поэтический мир М. Цветаевой: Конфликт лирического героя и действительности» предложено описание поэтического мира М. Цветаевой как системы оппозиций. Природа мифа, по определению С. Ельницкой, - в поэтическом опровержении реальности - «были», «протокола». Сопоставляя различные тексты поэта и обнаруживая в них общие черты смыслового, сюжетно-ситуативного, лексического планов, она приходит к выводу,
8 что лирический герой и действительность - это главные персонажи поэтического мира Цветаевой, находящиеся в противоборстве друг с другом [Ельниц-кая, 1990].
В исследовании И.О. Осиповой рассматривается мифопоэтическая образность лирики М. Цветаевой, в частности, мифологема «мирового древа» (и ее поэтические трансформации) и мифологема «смерти», включающая различные мифопоэтические коды (символика стихий огня, земли, воды, воздуха, пространственно-временные бинарные оппозиции мифологем день/ночь, небо/ земля и др.) [Осипова, 1995]. В своей следующей работе, «Поэмы М. Цветаевой 1920-х годов: проблема художественного мифологизма», Н.Осипова продолжает анализ процесса мифологизации действительности через ключевые понятия «Горы» и «Конца», вынесенные в название, являющиеся философским и психологическим центром поэм [Осипова, 1997].
О. Хейсти в своей книге «Орфические странствия Цветаевой в словесных мирах» (1996) воссоздает мировоззренческий комплекс поэта через анализ темы Орфея. Образ Орфея исследуется в динамике - от ранней лирики Цветаевой до известных стихотворений 1921 года («Так плыли голова и лира...») и во всех его смысловых превращениях. Образы Эвридики, Офелии и Сивиллы О. Хейсти прочитывает как жизнестроительные смыслы М.Цветаевой. В главе, посвященной Рильке и Цветаевой, О. Хейсти устанавливает интертекстуальные связи между книгой М.Цветаевой «После России» и лирикой Рильке.
Т.Суни в исследовании «Композиция «Крысолова» и мифологизм М.Цветаевой» (1996) предлагает анализ поэмы «Крысолов», уделяя основное внимание анализу дионисийской мифологемы.
При всем многообразии и широте проблематики исследований в цветаеведе-нии очень многое остается неизученным. Наименее исследованными оказались проблемы эстетики Цветаевой, критической, эпистолярной и художественной прозы. Также одной из малоизученных оказалась проблема круга чтения поэта.
9 Очевидно, что чтение как способ формирования мышления и осмысления действительности сыграло большую роль в жизнетворчестве М. Цветаевой. Однако, М. Цветаева как «человек читающий» почти не привлекала внимания исследователей.
В современном литературоведении интерес к проблеме «человека читающего» и книги вообще значительно обострился в конце XX в.: к ней оказались прикованы взоры специалистов различных областей гуманитарного и естественного профиля - философы, психологи, культурологи, филологи, полиграфисты - а также работники культуры - музееведы и библиотекари и т.д. Плодотворность комплексного подхода в изучении книги выразилась в продолжающихся изданиях «Книга. Исследования и материалы», «Печать и слово» и др. \ Проблемы восприятия книги и читателя, возникшие одновременно с появлением античных риторик и поэтик, приобрели актуальность в XX веке в связи с осмыслением культуры как диалога (М. Бахтин). Проблема читателя, с одной стороны, актуальна для самой литературы (диалог с читателем возникал во многих художественных произведениях XVIII-XX вв. - «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Что делать» Н.Г. Чернышевского и др.), с другой стороны, - для науки о литературе: в связи с теорией Р. Барта о смерти автора обозначилась проблема читательских интерпретаций.
В России изучением восприятия читателя занялись еще в 20-е годы XX в. А.И. Белецкий подытоживал: «...нельзя сказать, чтобы изучение русского читателя, для истории которого материалов собрано уже сейчас достаточно, стояло у нас на отчетливо осознанном пути» [Белецкий, 1922: 25]. Исследование Л.Г. Выготского «Психология искусства», основанное на изучении эстетической реакции читателей, сохраняет ценность и для настоящего времени. Также работа
См. следующие издания: Книга как художественный предмет: в 2 ч.- М., 1988; Книга: Энциклопедия. -М., 1999; Книговедение: Энциклопедический словарь. М., 1982 и др.
10 В.Ф. Асмуса «Чтение как труд и творчество» (1962) об условиях подлинного прочтения художественного произведения значима и сегодня.
В 70-80-е гг. XX в. комплексный подход к этой проблеме дал ощутимые результаты (Сборник «Содружество наук и тайны творчества» и т.д.).
В современном литературоведении на необходимость изучения читательского восприятия указывал Ю.М. Лотман: «...содержание самого понятия «литература», вопросы читательской аудитории, влияние литературы на социальную психологию эпохи и многие другие остаются вне поля зрения исследователей» [Лотман, 1997: 118].
В зарубежном литературоведении теорию восприятия художественных произведений изучала школа рецептивной эстетики (С. Фиш, В. Изер, Х.Р. Яусс, Р. Варнинг, М. Риффатерр). Семиотический аспект проблемы восприятия обозначился в исследовании болгарской писательницы Д. Чавдаровой (1997). Доминирующая проблема творчества У. Эко, автора «Поэтики открытого произведения» (1959)- обоснование роли читателя в интерпретации текста.
Проблема восприятия текста в свою очередь связана с историей книги в культуре. Очевидно, что в истории культуры были эпохи полного приятия книги и ее отталкивания. Оппозиция книга/жизнь актуализировалась в разных значениях, начиная с античности и кончая XX веком.
Книга в истории культуры изначально обрела семантическую многозначность: она воспринималась как конкретное явление (книга - свиток, в современном понимании - произведение печати, форма закрепления информации) и как бытийственный факт, т.е. как судьба, предзнаменование, символ личного и психологического опыта. По словам С.С. Аверинцева, «для самосознания и самочувствия литературы не может быть безразличной психологическая атмосфера, которая возникает вокруг атрибутов древней игры - вокруг начертаний иероглифов или букв, вокруг исписанного листа папируса или пергамента, вокруг вещественного тела свистка или кодекса. Эта психологическая атмосфера-
воздух литературы. Она менее всего представляет собой константу для всех времен и народов; напротив, она изменялась от эпохи к эпохе. Понятно, что ее колебания особенно глубоко затрагивали сущность литературы в «догуттенбер-говские времена...» [Аверинцев, 1997: 183].
Высоко почиталась письменность в культурах древности. Книга, кодекс (старинная рукопись или сборник старинных рукописей) была символом мудрости, знания. В древнем Вавилоне учитель, ученый сравнивался с факелом, несущим свет, с продырявленным зеркалом, т.к. умел смотреть сквозь вещи, видеть скрытое в прошлом и будущем. Владеющий письмом наделялся особой духовной властью. Сам он есть письменность и знание. Он «путь, верный путеводитель для других...он...заставляет других приобретать лицо»1. «Лицо» противопоставлялось «сердцу» как стихии желаний. Книга олицетворяла разум, дисциплинирующий чувства человека.
Сопоставляя античность и византийское средневековье, Аверинцев подчеркивает, что в античности особым приоритетом пользовалось устное слово, тогда как в византийском средневековье большое значение имело слово записанное. В древнееврейской традиции «слово мыслится как настоящая доподлинная, окончательная реальность лишь тогда, когда это написанное слово» [Аверинцев, 1997: 188]. В Египте выше всего ставились книги; в их предметной, вещной данности. Как отмечает С.С. Аверинцев, «сама...книжная плоть» воспринималась как святыня и как материализация таинственных сил» [Аверинцев, 1997: 190]. Во всех ближневосточных культурах предпочтение отдавалось именно букве, а не духу книги.
В древней индийской культуре существовала практика устной передачи и фиксации текста. Так, в буддийских текстах супы (от сокращенного сутра-нить) оформлены как беседы, диалоги. Древняя эпическая поэма «Махабхарата» была предназначена для устной передачи. Система образования в Древней Ин-
1 См. подробнее: Очерки по истории мировой культуры. - М., 1997. - С. 23.
12 дии вначале строилась на устной передаче информации от Учителя к ученику, поэтому письменная фиксация осуществилась гораздо позже.
В античности особым приоритетом пользовалось устное слово. В греческой культуре, с ее «принципиальной некнижностью», культивировалось ораторское искусство, человеческий голос. Платон высказывал критическое отношение к «книжному» знанию, считая его мнимой мудростью. Книги, по Платону, подменяют живое общение собеседников. «Классическая греческая литература -пишет С.С. Аверинцев - не столько «написана», сколько «записана». Она условно зафиксирована в письменном тексте, но требует реализации в изустном исполнении; ей необходимо вернуться из отчужденного мира букв и строк в мир человеческого голоса и человеческого жеста» [Аверинцев, 1997: 196]. С.С. Аверинцев отмечает два фактора, повлиявших на позднеантичный культ книги: христианское преклонение перед Библией как письменно фиксированным «словом божьим» и преклонением перед алфавитом как вместилищем неизреченных тайн» [Аверинцев, 1997: 201]. В христианстве культ книги ограничен требованием любви к живой истине Бога (лик, лицо Бога - не буква) и человека («буква убивает, а дух животворит»).
Но именно книжность объединяла новую культуру с античностью. В основе христианской культуры - книга, что и значит по-гречески «Библия».
Самой «книжной религией» считается ислам. Благочестивый мусульманин
обязан часто читать и перечитывать Коран (также именуемый «Книга». «Аль
Китаб»). та
В эпоху средневековья книга была особенно значима, но книга священная: все обучение средневекового человека было направлено на то, как правильно прочитать Библию. Образование и книжность были исключительно делом церковным. Но и в эту эпоху проявляется представление о слове как деянии в жиз-
13 ни - учении Франциска Ассизского. Его слово становится текстом-жизнью . Хотя и Франциск Ассизский молитвенно относится к буквам, т.к. из них составляется имя божье. Позднее в формировании городской культуры вновь особенно важным становится фактор устности. Карнавальная форма народной жизни возвращает к первоначальным игровым истокам культуры, к «игре-празднику-священнодействию»2. Карнавальная смеховая культура, по Бахтину, утверждала полноту жизни [Бахтин, 1965].
Формой гуманистической мысли в эпоху Возрождения становится диалог. Оратор предпочитается философу. Актуальным становится активное слово -дело, вторгающееся в жизнь.
Книга в эпоху барокко близка к энциклопедии, это «полный свод всего отдельного... литература барокко - это ученая литература, а писатель эпохи - это ученый писатель» (Михайлов А., 1994). На разных уровнях поэтики книга «подражала» тому, как сделан мир, пытаясь представить мир в его цельности, полноте и тайне. Научность, знание были особенно важны для произведений этой эпохи. Поэтому, например, так значимы пространные комментарии на десятки страниц и указатели, которыми пользуются «как сводом отдельных знаний» (Михайлов А., 1994). Композиция книг чаще всего следовала алфавитному порядку. В «книге - мире» автор равен всем персонажам, так как он только функция произведения, он творим самой поэзией, миром, знанием.
Культура Нового времени разрушала средневековую иерархическую картину мира и переориентировала волю человека с созерцательного отношения к истине на активный ее поиск в книге мира. И это «порождало художественную потребность создавать книги максимально адекватные миру во всем его многообразии» [Липовецкий, 1992:218].
1 См. об этом: Рабинович В. Исповедь Книгочея, который учил букве, а укреплял дух.- М., 1991.- С.
404.
2 См. об этом: Самосознание европейской культуры XX века // Хейзинга И. Homo Ludens. Опыт ис
следования игрового элемента в культуре.- М., 1991.- С.45.
Апология разума, научного познания мира породила культ книги и энциклопедической образованности в эпоху Просвещения. Одновременно возникла идея «естественного человека». Огромную роль в формировании этой идеи сыграл роман Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». В создании иллюзии документальности в новой жанровой форме романа - знак отказа от книжности. Простота и обыденность слога, даты имена, факты - все подчеркивало дневниковый характер повествования. Культ природы и разума естественного человека утверждал Руссо. В теории естественного воспитания, основанного на законах природы, Руссо настаивает на том, чтобы ребенок изучал действительность непосредственно с ней соприкасаясь: «Не нужно иной книги, кроме мира...Читающий ребенок не думает, он только и делает, что читает»1.
Со времен Ярослава Мудрого книга в Древней Руси пользовалась большим авторитетом. Книга на Руси в средние века была источником духовной истины. Особое значение придавалось рукописной книге, т.к. печатный станок вносил оттенок механичности и разрывал духовные узы, с точки зрения средневекового русского человека. Особые отношения древнерусского человека с книгой пояснил A.M. Панченко: «Книга не вещь... Не только человек владеет книгой, сколько книга владеет человеком, «врачует» его...Книга подобна иконе; это духовный авторитет и духовный руководитель... Человек и книга составляли некое двуединство. При этом книга стояла выше, нежели человек» [Панченко, 1984: 167,170].
В России в XVII веке понятие книги семантически многозначно. Книга «душеполезная», несущая нравственный смысл противопоставлялась книге «интеллектуальной», содержащей знание как таковое. С точки зрения традиционалистов, «свободное творчество» не ценность и книга, акт свободного творчества, не может быть духовным наставником» [Панченко, 1984: 172]. Письменность имела сакральную ценность. Западная, греческая традиция отри-
1 Очерки по истории мировой культуры.- М, 1997,- 264 с.
15 цалась. Изменения происходят только в XVIII веке, когда «западные» книги начинают читать дворяне. Но большинство крестьянского населения в России к чтению сочиненных книг под влиянием церкви относилось «как к пустому и опасному занятию (книги не прокормят, а читать - метить в барины: книги сочиняются праздными людьми, ...Божественное читать - спасти свою душу, а «пустые и вредные книги - «угождать сатане» [Фарыно 1997: 128].
Книга в России до XX века распространяется принудительно. В советское время, когда литература реализует идеологические образцы , «... стала евангелием «Как закалялась сталь» (Б. Чичибабин). Поэтому так негативно оценивалась литература символизма, отрицающая социальную проблематику, в центре которой - личность с ее чувствами и переживаниями. Но и в символизме сформировалось неоднозначное отношение к книге.
По словам Н.В. Гужиевой, «книжные страсти XX века - явление феноменальное, ставшее темой художественного рассмотрения, проникшее в область творчества и содействовавшее возникновению целого пласта жанровых новообразований». Одним из них Н.В. Гужиева считает уникальное создание А. Добролюбова «Из книги Невидимой», где проблема книги, вынесенная в самое заглавие, освещалась в контексте серьезнейших религиозно-философских размышлений о духовном и материальном в культуре, их трагической борьбе и неразрывности, а пламенные панегирики книге - «одному из прекрасных беспримерных чудесно-таинственных орудий в новых народах» - соседствуют со столь же категоричными отрицаниями: «как малую часть разумею я все эти страницы, все науки, все книги земные - как свечу перед утренним блеском - перед Бесконечной Свободной Невидимейшей книгой Твоей» [Гужиева 2000: 68].
По-своему отрицание книги проявилось в сочинениях В.Розанова, восставшего против Гуттенберга и воскресившего в своем стиле «рукописную книгу» -
1 См. об этом: Елина Е.Г. Литературная критика и общественное сознание в советской России 1920-х годов,-Саратов, 1994.
запись мгновений жизни на любом клочке бумаги. Напротив, в поэзии О. Мандельштама, определившего акмеизм как тоску по мировой культуре, особенно актуальным было представление мира как книги. Книга для него - порождающее начало мира, первообраз бытия:
Чужая речь мне будет оболочкой, И много прежде, чем я смел родиться, Я буквой был, был виноградной строчкой, Я книгой был, которая вам снится1. Если для символистов и акмеистов было характерно утверждение книги, то для футуристов - ее отрицание. По теории авангарда искусство должно более активно воздействовать на сознание читателя. Вторгаясь в жизнь, искусство преобразует ее, согласно эстетике футуризма. Литературный текст - вызов и призыв читателя к действиям, преобразующим общество. Эстетическая установка на сближение литературы с жизнью проявлялась и в книготворчестве2. В. Шершеневич предлагал освободить слово от всех культурных контекстов предшествующих эпох. В. Каменский и внешне полиграфическим исполнением книги и на уровне поэтики пытался изменить традиционное отношение к ней. В 1914 году он издал пятиугольную книжку «железобетонных поэм» под заглавием «Танго с коровами». Кроме того, он вообще предлагал отменить книгу и перейти к уличным формам «еловопредставлення»3. По замечанию М.Л. Гаспаро-ва, «завораживает» хлебниковское обращение к истокам слова: Каменский пишет так, как будто до него никто никогда не писал стихов - подобно птице, отдаваясь пению, упиваясь радостью беспечального бытия» [Гаспаров, 1993: 569]. Футуристы активно критиковали символистов за их «книжность». В. Шершеневич иронически писал: «Вожди символизма в России насквозь пропитаны кни-
1 Мандельштам О.Э. Собрание произведений: Стихотворения.- М., 1992.- С. 114.
2 См. о книготворчестве футуристов: Книга: энциклопедия.- М., 1999.- С. 684-685.
3 См.: Каменский В. Его - Моя Биография Великого Футуриста.- М., 1918,- С. 6.
17 гой...у символистов не зрачки, а переплет полного собрания сочинений мировой... литературы» [Шершеневич, 1916: 21].
За обновление книги выступали и символисты. Например, Андрей Белый признавался: книга всегда теснила меня; но в ней не хватало и звуков, и красок: я хотел вырыва из тусклого слова к яркому. Заключенный в нее, невольно шатаю я устои; и это не потому, что я думаю, конечно, но над ними подымется новая сфера творчества, в которой будет выход из только музыки и из только литературы» [Белый, 1972: 271].
В экспериментальных попытках символистов создать новую книгу отразилось все своеобразие их философско-эстетического мировоззрения. В книго-творчестве символисты стремились к адекватному воплощению своего замысла. Книготворческие опыты включали их жизнетворческие установки. Книга, начиная с обложки, была единым символическим текстом. Они придавали значение всем параметрам книги: композиции художественных текстов, связанным с ними рамочным компонентам текста (заглавиям, посвящениям, датам и т.п.); содержанию предисловий, примечаний и др., архитектонике и размеру шрифтов; цветовой гамме и плотности бумаги и т.д. Циклизация была более или менее свойственна тому или другому поэту (например, М. Кузмин и Ф. Сологуб придавали этому меньшее значение), но все они смотрели на книгу как на единый живой организм. Высоту книжной культуры подчеркивали иллюстрации, воспроизведенные из старинных книг, элементы декоративного украшения. Н. Рерих, участник кружка «Мир искусства» писал: «И качество бумаги, и изысканная внушительность шрифтов, привлекательное расположение предложений, ценность заставок, наконец, фундаментальный, крепкий доспех украшенного переплета делали книгу настоящим сокровищем дома. <...> Глаз и сердце человеческое ищут красоту. Будет ли эта красота в черте, в расположении пятен, текста, в зовущих заставках и в утверждающих концовках - весь этот сложный, требующий вдумчивости комплекс книги является истинным творчеством <.. .>.
Книга остается как бы живым организмом. Ее внешность скажет нам всю сущность редактора и прочих участников. Вот перед нами суровая книга неизменных заветов. Вот книга - неряха. Вот поверхностный резонер. Вот щеголь, знающий только поверхность. Вот витиеватый пустослов. Вот углубленный по-знаватель. Зная эти тончайшие рефлексы книжного дела, как особенно чутко и внимательно мы должны отнести ко всему, окружающему книгу - это зерцало души человеческой» [Рерих, 1990: 32-33].
М. Горький, упрекавший символистов в том, что источником их творчества была не жизнь, а книга, писал о ней с особым пристрастием как о «Новом Завете, написанном человеком о самом себе» [Человек читающий, 1990: 25]. И А. Бунин видел в книге единственную возможность воплощения и сохранения жизни в слове [Человек читающий, 1990: 31].
Представителей всех литературных направлений в начале XX века объединял огромный интерес к книге. Не случайно А. Блок назвал этот период литературы александрийским [Блок, 1963, 8: 117]. Но каждое литературное направление искало в творчестве книги свой эстетический смысл.
По словам Н.В. Гужиевой, в культуре начала XX века широко бытовал «специально изобретенный тогда термин «книжность» [Гужиева, 1983: 156]. Она определяет его как «особое качество литературного слова, отмеченного подчеркнутой вторичностью, податливостью на чужое воздействие» [Гужиева, 2000: 68]1.
Дистанцируясь от всех стилевых течений своего времени, М. Цветаева одновременно вобрала в себя и трансформировала их философско-эстетические представления. В начале своего творчества М. Цветаева была ближе к символизму, потом становится «наследницей футуризма по боковой линии» [Баев-ский, 1994: 231]. Это движение можно определить формулой «от книги к чело-
1 См. о книге: Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. - М., 1984; Герчук Ю.Я. Художественные миры книги. - М, 1989; Герчук Ю.Я. История графики и искусство книги. - М., 2000; Ляхов В.Н. Искусство книги. -М., 1978 и др.
19 веку» или творчеству книги - жизни, так как по Цветаевой, «...вовсе не жить и писать, а жить - писать и: писать - жить» [Цветаева, 1997: 5]. Многочтение Цветаевой породило в ней восприятие книги как рока и вылилось в необходимость преодоления его в творчестве. Логика исследования развивается в аспекте этой проблемы: от «книжности» к книготворчеству.
«Книжность» понимается самой М. Цветаевой как несоответствие между словом и делом (один из актуальных смыслов в контексте культуры России). Отстаивая слово как действие, Цветаева основной принцип своего книготворче-ства определяет эстетической формулой: «Неделимость сути и формы - вот поэт» [Цветаева, 1991:38].
В цветаеведении наметилась традиция изучения цветаевской «книжности». Так, А. Саакянц одна из первых обратила внимание не только на круг чтения М.Цветаевой в детстве и юности, но и на ее читательский дар, объясняя многие черты личности поэта, чуждого библиофильской страсти, но страстно ведущего диалог с автором книги и его жизнью, психологией восприятия книги.
В книге М. Белкиной «Скрещение судеб» читательский портрет Цветаевой, не расставшейся с книгой до последних дней, воссоздан по мемуарным эпизодам: таков эпизод в квартире библиофила Тарасенкова, мужа Марии Белкиной, где Цветаева прощалась со своими «переписанными от руки», переплетенными в ситцы книгами стихов. М. Белкина сумела по-цветаевски превратить достоверный факт в символ, как, например, эпизод о горевшей книжной палате, ассоциативно ведущий к образу «огненных книг», выстреливающих в небо, символизирующих их небесное происхождение и бессмертие.
В биографической трилогии «Путь комет: Жизнь М.Цветаевой» И. Кудро-ва, в большей степени, чем другие биографы, вписывает чтение М. Цветаевой, формирующее ее самосознание, в культурный контекст эпохи [Кудрова, 2002].
Однако, в большинстве биографических исследований фрагментарные вкрапления о чтении М. Цветаевой чаще всего ограничиваются характеристи-
20 кой круга чтения, иллюстрацией роста ее личности в соответствии с жанром жизнеописания.
К столетию со дня рождения М. Цветаевой появились первые публикации, комментирующие ее читательские пристрастия. Ю.М. Каган и К.М. Азадовский рассматривают круг чтения, связанный с немецкой культурой [Каган, 1992; Азадовский, 1992 ]. М-Л. Ботт в анализе цикла «Деревья» опирается на контекст ее французского чтения [Ботт, 2005]. Опыт развернутого комментария восприятия книги норвежской писательницы Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса» предложила Л. Кертман [Кертман, 2000].
Но системного анализа восприятия книги М. Цветаевой и возникших на основе этого ее книготворческих принципов нет. Недостаточная изученность данного аспекта позволяет обозначить тему нашего исследования - «Книжный код в творчестве М. Цветаевой».
Цель диссертационного исследования: определить «книжный» код М. Цветаевой и проанализировать функционирование этого кода в ее эстетике и поэтике.
В соответствие с этим поставлены конкретные задачи:
рассмотреть феномен книги в творческом сознании М. Цветаевой с учетом «памяти культуры» и в контексте философских и эстетических идей культуры Серебряного века и описать семантику мотива книги в лирике 20-х годов;
исследовать динамику отношения «книга - жизнь» в разные периоды жизни и творчества М.Цветаевой, проанализировав структурно-семиотические элементы, образующие целостный поэтический мир по модели «жизнь - книга»;
описать логику развития поэтического мира М. Цветаевой через образ «читающей» героини, проследив функционирование механизма самоидентификации с литературными персонажами в ранней лирике М. Цветаевой;
- изучить механизм взаимодействия культуры и текста, в частности, роль
диалога и фольклора в преодолении «книжности».
Объектом исследования является ранняя лирика, автобиографическая, дневниковая и эпистолярная проза М. Цветаевой, а также ее записные книжки.
Предмет исследования - феномен книги в жизни и творчестве М. Цветаевой, «книжный код» и преодоление «книжности» в формировании книготвор-ческих принципов поэта.
Теоретико-методологической основой исследования послужили концептуальные положения теоретических и историко-культурных работ М. Бахтина, Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева, А.М.Панченко и др.; исследования по проблемам теории мифа и мифопоэтике - О.М. Фрейденберг, Е.М. Мелетинского, Е. Фарыно, и др. Базовыми для исследования стали работы представителей московско-тартуской структурно-семиотической школы - Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, а также исследования Р. Барта, И.П.Смирнова, М.Л. Гаспарова и др.
Исследование опирается на структурно-семиотический, историко-культурологический и интертекстуальный подходы.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней рассмотрение феноменов книги, книжности и книготворчества реализуется в «едином тексте» жизни и творчества М. Цветаевой - в ее поэзии, автобиографической, дневниковой и эпистолярной прозе. Феномен цветаевской книги, несущей «память культуры», вписан в контекст философских и эстетических идей культуры Серебряного века. Проанализированы структурно-семиотические элементы, образующие целостный поэтический мир по модели «жизнь - книга», а также образ «читающей» героини, существующей в контексте самоидентификации с литературными персонажами. Изучена тенденция преодоления «книжности» в цветаевском мире.
Практическая ценность работы заключается в возможности использования ее положений и выводов в дальнейшем исследовании культуры Серебряного века. Опыт анализа творчества М. Цветаевой может быть использован в вузовских курсах по истории русской литературы XX века, в спецсеминарах и
22 спецкурсах по анализу текста, а также в культурологических спецсеминарах и спецкурсах, вузовском и школьном преподавании, в практике работы библиотек и литературных музеев.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры Горно-Алтайского государственного университета. Ее материалы служили основой для докладов на региональных конференциях («Текст: варианты интерпретации». Бийск, 2001 г., «Языки и литературы народов Горного Алтая, Горно-Алтайск; Барнаул, 2005 г.), на межвузовском семинаре молодых ученых «Диалог культур» (Барнаул, сентябрь 2000 г., май 2001 г.).
Отдельные положения диссертационной работы изложены в двенадцати публикациях, одна из них находится в печати.
Мир книг в ранней лирике М. Цветаевой // Наука. Культура. Образование. - Горно-Алтайск, -1999.- №3.- С. 32 - 36.
«Этому сердцу родина - Спарта!» Античный миф как сюжет судьбы в творчестве Марины Цветаевой // Кан-Алтай,-1999.- №18.- С. 33-35.
Пушкин и Цветаева: книга и книжность// А.С.Пушкин и культура: тезисы международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения. - Самара, 1999. - С. 84-85.
М.Цветаева и М.Волошин: культура книги и культ человека// Диалог культур. Литературоведение. Лингвистика: сборник материалов межвузовской конференции молодых ученых май 1999. - Барнаул, 1999. - С. 78 - 82.
«Мои стихи - дневник...» (В.В. Розанов и М. Цветаева) // Культура и текст - 99. Пушкинский сборник. - СПб.; Самара; Барнаул, 2000. - С. 208 - 213.
Диалог с Достоевским как принцип построения текста М. Цветаевой в «Повести о Сонечке» // Текст: Варианты интерпретации. - Бийск, 2001.- Вып.6.-С. 98-100.
Об одном эпистолярном сюжете в творчестве М. Цветаевой // Актуальные проблемы преподавания литературы. Материалы научно-практической конфе-
23 ренции,- Горно-Алтайск, 2003.- С. 77-84.
8. Человек и книга в очерках М. Цветаевой о К. Бальмонте и В. Брюсове //
Диалог культур. 5. Литературоведение. Лингвистика: сборник материалов меж
вузовской конференции молодых ученых май 2002. - Барнаул, 2003. - С. 108 -
114.
9. Человек и книга в очерке М. Цветаевой о К. Бальмонте // Языки и литера
туры народов Горного Алтая.- Горно-Алтайск, 2005.- С. 123 - 125.
10. Роль книги в становлении поэтической индивидуальности М. Цве
таевой // Вестник Томского государственного университета: Общенаучный пе
риодический журнал. Бюллетень оперативной научной информации «Художе
ственный текст: семиотика, лингвистика, поэтика».- Томск, 2006.-
№106.Декабрь.- С. 40-48.
11. Эпиграфы и посвящения в творчестве Марины Цветаевой // Вестник
Томского государственного университета: Общенаучный периодический жур
нал. Бюллетень оперативной научной информации «Художественный текст: се
миотика, лингвистика, поэтика».- Томск, 2006,- №106.Декабрь.- С. 49-56.
Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Библиография содержит 211 наименований. Объем работы - 198 стр., из них 182 составляют основной текст.
Книжный код в переводе романа "Новое упование"
В 1916 году М. Цветаева опубликовала свой перевод романа французской писательницы Анны Элизабет де Ноай (1876-1933) "Новое упование", содержание которого показалось ей особенно близким. В единственном письме к Анне де Ноай, желая подчеркнуть общность их судеб как женщин-писательниц, Цветаева пишет: "...им никогда не быть тобой (мной) - я говорю о великом я, разнообразном и едином я Жан-Жака, Ноай, о всяком величии - через это ты я сумею найти и Вы!..." (Цветаева 7/1: 191). Анну де Ноай, также как и М. Цветаеву интересовала природа женской души.
В романе французской писательницы М. Цветаева увидела те эстетические философские проблемы, которые особенно волновали ее в этот период: книга и жизнь: иллюзорность книжно-романтического восприятия реальности и потребность активного овладения жизнью, роль игры и воображения в жизни и в творчестве и т.д. Все эти проблемы были тесно связаны с поисками своего стиля. На наш взгляд, перевод помогал решить и психологические проблемы: осмыслить с одной стороны, драму своей матери, формировавшейся в свете романтического идеала, и, с другой - свои отношения с Софией Парнок, связь с которой уже оборвалась к этому времени. Аллюзивный подтекст романа Анны де Ноай позволяет предположить, что он был своеобразным преодолением запретной страсти и прощанием.
Роман Анны де Ноай, переведенный М. Цветаевой еще раз демонстрирует особенности ее чтения: умение делать «чужое» «своим». Не зря в упомянутом выше письме она называет книгу Ноай "нашей" (Цветаева 7/1: 192). История жизни женщин как драма разочарований созвучна сюжету судьбы самой Цветаевой. А. Саакянц так комментирует этот сюжет: "Судьба творит собственный сюжет, вопреки цветаевским мечтам: сюжет разлуки. Впрочем, сама Цветаева всегда предвидит разлуку» (Саакянц 1998: 7). В романе французской писательницы Цветаева увидела "формулу" своей судьбы. Этот текст романа может быть осмыслен как попытка её самоанализа, как стремление вырваться из романтического мира книг в жизнь.
В переведенном Цветаевой романе, по обилию аллюзий и реминисценций близкого модернистскому, особенно велика роль книги и чтения. Роман Анны де Ноай существует в русле формирующейся прозы XX века, для которой характерна тотальная аллюзивность, приемы скрытой и открытой цитации, порождающей новые ассоциативно-семантические микроструктуры, использование кодов прошлых культур. Реминисценции и аллюзии в романе выполняют роль своеобразного "книжного" кода, который читателю необходимо расшифровать, чтобы "разгадать" смысл всего произведения.
Роль аллюзии часто выполняет упоминание в речи персонажа имени писателя. Рассматривая функцию имени писателя в речи персонажа, Д. Чав-дарова замечает, что отношение к интертекстуальности в этом случае дискуссионно, но "имя определенного автора часто имеет в художественном тексте дополнительные коннотации (например Шиллер и Гофман как знак романтического мироощущения)" (Чавдарова 1977: 26). Выступая в тексте романа именно в этой функции имя писателя выражает авторскую оценку, определяет новый поворот в развитии сюжета. Функции чтения и семантика "книги" в романе разнообразны.
Через «книжность» персонажей раскрывается основной конфликт романа - столкновение мечты и действительности. В основе сюжета - трагическая история разочарования молодой читающей женщины. Акцент - не столько на внешних событиях, сколько на развитии сознания и мышле 39 ния женщины под моделирующим воздействием текстов культуры романтизма1.
Героиня романа, Сабина де Фонтенэ, возвышенная благородная женщина, потерявшая дочь, живет в мире книг и воображения. Страстная, живущая чувствами, "ибо все, ощущаемое слабо, казалось ей ничем" (Цветаева 5/2: 205), она ищет счастья и смысла в жизни. В разговоре со своей подругой Марией она признается: "Я не очень знаю, зачем я живу..." (Цветаева 5/2: 206). Две женщины в романе - две ипостаси женской души. Мария - счастливая, гармоничная - испытывает полное удовлетворение от чтения и живописи. Её идеал счастья - "нежность и долг", "порядок и труд" (Цветаева 5/2: 206). Женщины дружны, эмоционально очень близки. И хотя Мария - только одна из граней женской сущности, в какой-то степени это другое "я" Сабины. Она также начитана, внимательна к окружающему, обладая творческим восприятием, умеет точно схватить суть явления и определить его "формулой".
В самом имени «Мария» - намек на близость Цветаевой этого образа так как это имя её матери, с которой она себя отождествляла. Важно, что инициалы имен Сабина и Софья совпадают. Существенны совпадения и в. жизненном тексте: ранняя утрата матери - общая черта в судьбах литературной героини, М. Цветаевой и С. Парнок.
Все персонажи романа - представители высшего аристократического общества, "люди читающие". Книга раскрывает внутренний мир героя и авторскую позицию. Круг чтения Сабины в юности определяет её страсть к самопознанию: она читает религиозные и философские книги, много размышляет о природе человека, его свободе и назначении. Единственная открытая цитата в тексте - изречение Спинозы: "Вера в нашу свободу есть только неведение причин, заставляющих нас действовать" (Цветаева 5/2: 210) - является своеобразным ключом ко всему роману. Моделируя картину мира, движущая сила которого - энергия заблуждения, она приоткрывает смысловую перспективу романа.
Основное настроение Сабины - грусть. Аллюзивное слово - мотив, настойчиво повторяющееся в тексте, - отсылает русского читателя к Пушкину: "Себе присвоя чужой восторг, чужую грусть". Героиня романа - в цветаевской интерпретации - своеобразная литературная вариация Татьяны Лариной. И та, и другая читающие героини формируются под воздействием французской романтической литературы. Рано потеряв мать, Сабина вышла замуж скорее по дружбе, чем по любви, поэтому она ощущает недостаток эмоциональной атмосферы в доме. Отсутствие любви она компенсирует чтением, музыкой, живописью.
Художественное пространство в первой части романа представляет собой замкнутый книжный мир, являясь метафорой оторванного от жизни соз- нания героини. Комната Сабины в городском уютном роскошном доме замкнута в кольцо книжными шкафами: "Вокруг всей комнаты легкие стеклянные книжные шкапы..." (Цветаева 5/2: 213). Многочтение героини характеризуется как подмена жизни. Мотив смерти пронизывает описание деталей интерьера: "слепок., лица Бетховена,...растянутого смертью и как бы раздавленного величием; ...кислый запах усталых венчиков и мокрых стеблей" (Цветаева 5/2: 213). Дополняет атмосферу комнаты тишина и сон: "Спавшая еле-еле госпожа де Фонтенэ слышала часы, чувствовала теплоту замкнутого вокруг нее воздуха..." (Цветаева 5/2: 213). Необычное словосочетание "замкнутый воздух" - метафора души, находящейся в заточении. В метафоре -ключ к прочтению сюжета: в этом искусственном мире начинает умирать и засыпать душа героини. Знак этого - открытая, но не прочитанная книга сонетов Ронсара в руке спящей госпожи де Фонтенэ.
От человека читающего к человеку творящему
Период ранней лирики М.Цветаевой - это стихи, написанные с 1907го по 1922 год до отъезда в эммиграцию. За это время молодой Цветаевой было создано около 797 стихотворений, подготовлено к печати шесть книг. Из них издано пять книг - «Вечерний альбом» (1913), «Волшебный фонарь» (1912), «Из двух книг» (1913), «Версты - 1» (1922), «Версты -2» (1921), «Юношеские стихи», подготовленные к публикации в 1919-1920-х годах так и не увидели свет. Стихи, которые М.Цветаева включила в сборник «Лебединый стан», были опубликованы только в 1957 году.
Этот период соответственно её творческому развитию следует разделить на три этапа (по классификации от О.Г.Ревзиной): стихи первых четырех сборников, созданные до 1916 года, стихи 1916 года и стихи, вошедшие в сборник «Версты -1» и «Версты - 2».
В 1925 году Цветаева, подчеркивая жизненный источник своей первой книги, в очерке о В.Брюсове «Герой труда» писала о своем сборнике «Вечерний альбом» (1910), куда вошли стихи 1907-1910 годов: «Первая моя книга «Вечерний альбом» вышла, когда мне было 17 лет (стихи пятнадцати, шестнадцати лет). Издала я её по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, - взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было знаменательно» (Цветаева 4/4: 23)1. Это высказывание с его отрицанием литературы О.Клинг комментирует: «...став зрелым поэтом, Цветаева осознавала, вероятно, некоторый налет ученичества на своих стихах» (Клинг 1992 : 81). На наш взгляд, это не совсем точно. Скорее всего, Цветаевой было важнее противопоставить поэзию литературе, вкладывая в понятие «поэзии» значение «доверительности», «интимности», искренности выражения собственной души. А жизнь души Цветаева приравнивает к поэзии, по формуле Жуковского «Жизнь и поэзия - одно».
Адресат лирической книги-письма1 - В.О. Нилендер. Отношения с ним и составляют подтекст этой книги2. По воспоминаниям А.Цветаевой, В.О. Нилендер пришел к ним в дом по просьбе своего друга Эллиса (Л.Л.Кобылинского) 19 декабря 1909 года. Весь вечер и ночь они беседовали в восторженном узнавании друг друга. На следующий день 20-го декабря сестры «купили темно-синий кожаный альбом, книжку с золотым обрезом, назвали её «Вечерний альбом» и записали в неё, что помнилось о том нашем вечере, из сказанного - им или нами: из наших бесед после него. Альбом мы подписали ему» (Цветаева А. 1971: 315). Поэтический сборник «Вечерний альбом» был назван так «в память того маленького синего кожаного альбомчика» (Цветаева А. 1971:355). Альбом подарили Нилендеру 30-го декабря 1909 года, когда «роман» был уже окончен, но ещё в течение года юная М.Цветаева выплавляла из своих страданий от разлуки с ним стихи, в которых нашли отражение их беседы о жизни, творчестве, литературе.
В.О. Нилендер, филолог-античник, в период знакомства с Цветаевыми работал над переводом Гераклита Эфесского. Увлеченный этой работой, он возможно, в беседах с сестрами рассказывал им о Гераклите. После выхода в 1910 году книги В.О. Нилендера «Гераклит Эфесский. Фрагменты» М.Цветаева купила её и хранила всю жизнь. На её страницах имеются многочисленные пометы Цветаевой и её мужа С.Я.Эфрона, что и вызывало замечание А.Саакянц: «Видно, что книга не раз бралась в руки и была предметом размышлений и обсуждений» (Саакянц 1986: 202).
Н.Д.Стрельникова, рассматривая влияние философии Гераклита на позднюю поэзию М.Цветаевой, подчеркивает, что один из выводов Нилендера «творчество Гераклита есть его жизнь», по сути, напоминающий жизне-творчество романтиков (Гинзбург 1974) и символистов1, - наиболее близок творческим принципам самой Цветаевой (Стрельникова 1992: 162).
Концепция, согласно которой между жизнью и искусством, творчеством стоит знак равенства, - формируется в её первой книге. Это проявляется в том, что многим стихотворениям второго раздела сборника, главный герой которого В.О. Нилендер, предпосланы эпиграфы - отрывки диалогов и отдельных фраз, взятых из разговора с ним. Этот прием указывает на непосредственную связь поэтического текста с реальными событиями жизни, разрушая границы между литературой и жизнью.
Литературная позиция Цветаевой формировалась под влиянием эстетики символистов, в частности, их идеи жизнетворчества, хотя, это положение требует некоторого уточнения. По верному замечанию О. Клинга, «в связи с Цветаевой речь должна идти не о влиянии брюсовского или лермонтовского типа жизнетворчества, а о встрече собственной романтической концепции личности поэта с предшествующим опытом» (Клинг 1992: 76).
Цветаевская поэзия пересеклась с брюсовской: общее для них - преображение действительности через «волшебную» призму воображения. В статье «Волшебство в стихах Брюсова» (1910) М.Цветаева среди множества муз В.Брюсова выделяет одну, редкую гостью - музу-волшебницу (Цветаева 5/1: 226). Считая одним из лучших стихотворение Брюсова «Идеал» (трехтомник «Пути и перепутья») о встрече в магический час сумерек, Цветаева подчеркивает необъяснимость чуда поэзии, рождающейся из банального сюжета: «Несложная эта сказка и с грустным концом, как все лучшие сказки. Вся она в трёх словах: увидели, поняли, расстались. Но это было на заре жизни и в сумерках дня. Юность и сумерки - и уже волшебство!» (Цветаева 5/1: 226). Таким образом, очевидно: помимо жизненного источника, название первого поэтического сборника имеет ещё и литературный, связанный с брюсовским кодом; именно Брюсов ввел в русскую поэзию тему сумерек, вечера, канонизировал её как поэтическую.
Главным достоинством стихотворения В.Брюсова Марина Цветаева считает его «простоту и проникновенность», называя его «почти молитвой». В этой оценке как раз и обозначается ее собственное стремление к исповедальное. Но она не принимает брюсовскую музу «в лавровом венке», «в венце из терний», «в латах и шлеме», «с поддельной красотой ланит», не замечая во многих его стихотворениях поэтического вкуса и искренности. Так, все еще находясь под чарами В.Брюсова, она уже критически относится к «книжности»1 его поэзии.
«Человек-книга» и «книжный человек» (очерки о К.Бальмонте и В.Брюсове)
Проблема «человек и книга» особенно актуальна в очерках-воспоминаниях М.Цветаевой о современниках, где ей важно "воскресить" образ живого человека, исходя из его сущности. А сущность поэта - слово. Поэтому М.Цветаева в создании портрета опирается на художественную систему поэта, возрождая его из его же "поэтического космоса". Ее принцип вполне соответствует эстетике авангарда, представляющей искусство как "воскрешение жизни" (Ханзен-Леве 1999: 40). Она пишет о поэте "изнутри творчества", читая человека как книгу, пытаясь воспроизвести его "жизненный текст" через призму "художественного текста".
В очерках парадоксально сочетается утверждение книги с ее отрицанием. Смысл оппозиции "человек-книги" и "человек-книга" в воспоминаниях о современниках проясняется в свете двух источников культуры: античности и Византии. М. Цветаевой особенно близка античная традиция отношения к слову с ее культом свободного человека. Как отмечает С.С. Аверинцев: "... свободный гражданин свободного эллинского полиса, с детства умея читать и писать, не становился "писцом". Приобщаясь к литературной и философской культуре, распевая стихи лирических поэтов на пирушке или беседуя с Сократом, он не делался "книжником" (Аверинцев 1977: 191). В греческом государстве особым приоритетом пользовалось устное слово. М. Цветаева ориентируется на живое устное слово, что вполне укладывается в традицию греческой культуры с ее принципиальной "некнижностью".
Так, например, построен художественный очерк, посвященный Бальмонту, жанровая форма которого далека от "книжных" норм и заявлена автором как дар от поэта поэту: "... дарю тебе один вечер твоей жизни..." (Цве 131 таева 4/1: 7). "Воскрешение" одного из вечеров жизни Бальмонта происходит в самом акте живой разговорной речи, зафиксированной Цветаевой, поскольку "дар слова" совпадает с даром жизни" (Фрейденберг 1997: 124). Поэт Бальмонт воспринят Цветаевой как человек - «книга» , т.е. как сама стихия жизни, ее свет и музыка.
Форма очерка выбрана не случайно. Она связана с тем мифологическим значением, которое придавалось слову в античном фольклоре: "... акт рассказывания, акт произношения слов осмыслялся как новое сияние света, преодоления мрака, позднее смерти. "Говорить", значило "светить" (Фрейденберг 1997: 125). Это своеобразное приветствие Бальмонту, дар дружбы и памяти, опирается на один из центральных символов его поэзии - солнце. "Живое" слово в очерке Цветаевой - это солнечное начало, возрождающее жизнь. Миф о Бальмонте, то есть истина о нем, по Цветаевой, в речевой стихии, в которой только и возможна встреча человека и человека. Само название очерка - "Бальмонту" - демонстрирует прямое обращение от "я" к "ты", указывает на адресата. Постскриптум, завершающий текст, указывает на форму письма, как наиболее непосредственную, доверительную, близкую к устному слову жанру.
В конце краткой вступительной части следует предложение: "Слушай", после которого запись о юбилее поэта воспринимается как устный рассказ, динамично и живо воспроизводящий картину юбилейного вечера 1920 года. Само слово "запись", указанное в подзаголовке, делает акцент на условности письма, фиксирующего звучавшее на юбилее живое слово , которое изначально диалогично.
Автор отводит в тексте значительную роль диалогу, акцентируя жанро 132 вую природу очерка.
Если "книжность" понимается как сухая рациональность, рассудочность, то "некнижности" соответствует музыкальная стихия, доминирующая в поэтике Бальмонта. Письменный текст Цветаевой воспринимается как партитура, нотная запись многоголосного музыкального произведения. В очерке, действительно, оживают мелодии голосов поэтов - Вяч. Иванова, Ф.Сологуба, К.Бальмонта и других участников вечера, каждый из которых ведет свою партию. Для акта "воскрешения" Цветаевой важен именно "хоровой рассказ" (Аверинцев 1977: 196).
В коротком по объему, но многозначном тексте по ассоциативному принципу уточняются многие ключевые слова, как бы наращивая и углубляя смысл. Так, с музыкальной виртуозностью обыгрывается значение слова "путь". "Словосочетание "своими путями" (так называется журнал, в котором печатается очерк) служит завязью художественного смысла произведения, кристаллизуясь в формулу судьбы поэта. Очерк был написан 2 апреля 1925 года. "К тридцатипятилетию поэтического труда", как указано в его подзаголовке. Поэтому ведущей темой первой части становится слово "путь". Выявление различных смыслов этого слова образует полифоническое звучание. Метафорическая цепочка слов выводит к определению особого пути поэта: "тропинка, вырастающая под ногами и зарастающая по следам: место не хожено - не езжено, не автомобильное шоссе роскоши, не ломовая громыхалка труда, - свой путь, без пути. Беспутный!" (Цветаева 4/1: 6).
Создавая образ поэта, Цветаева с озорным изяществом объединяет несколько смыслов в слове "беспутный". В семантической игре сталкиваются противоположные смыслы: а) идущий без пути, б) в значении - "самостоятельно прокладывающий свой путь", в) "легкий", "беспечный", не связанный никакими путами, кроме поэтических. Известен богемный образ жизни поэта.
Далее путь поэта прочитывается через литературные образы. В тон иронично-дружеской непринужденной беседы, не обязывающей к большой "учености", "книжности", вносится дополнительный штрих сравнением поэта с кошкой: "Есть такая детская книжка, Бальмонт, какого-то англичанина, я ее никогда не читала, но написать бы взялась: - "Кошка, которая гуляла сама по себе". Такая кошка ты - Бальмонт, и такая кошка - я. Все поэты такие кошки" (Цветаева 4/1: 553).
Затем Цветаева привлекает миф об Орфее, возникает аналогия: Орфей, как всякий истинный поэт, "ходит - своими путями" (Цветаева 4/1: 71) и всегда найдет путь к Эвридике в Аиде, благодаря внутреннему зрению и любви.
Если в первой части развивалась тема "пути", то во второй - "дара". Слово "дар", несколько раз повторяясь в тексте очерка, является ключом к осмыслению личности поэта. Оно заключает в себе несколько смыслов: "дар" как метафора жизни, поэтический талант и способность самоотдачи, душевной щедрости, человечности: "Бальмонт - ... себя залу дарит" (Цветаева 4/1: 10).
Книжно-эпистолярный код. Книга как символ духовной связи в письмах - «романах» М.Цветаевой
Д.С. Лихачев определил письма М. Цветаевой как документальную прозу, имеющую лирическую художественную природу. Переписку Цветаевой с Б.Л. Пастернаком и P.M. Рильке он назвал романом в письмах со своим сюжетом экспозиций, кульминаций и драматически развязкой (Азадовский 1987: 245). Это наблюдение верно по отношению ко всей эпистолярной прозе М. Цветаевой.
Письма Цветаевой стилистически близки ее художественным произведениям. Благодаря короткой, обрывистой динамичной фразе они особенно экспрессивны. Обилие диалогов, реплик, эмоциональных кратких обращений к адресату воспроизводят в тексте письма живую речь. Построение текста по принципу монтажа, без длинных описаний, оценок, объяснений автора служат воплощению главной творческой установки Цветаевой - воссоздать «живое».
Композиционно письма Цветаевой имеют два уровня: деловой, содержащий просьбы разного характера, описание событий семейной жизни, информацию о состоянии дел, и философско-лирический, раскрывающий ее этические и эстетические представления. По поводу первого справедливо замечание Горчакова: «И хотя они переполнены жалобами на неизбывные бытовые тяготы, письма ее проявляют не образ ее жизни, не подробности ее существования, а главным образом ее характер» (Горчаков 1991: 46). Лирическая природа этих писем определяется тем, что Цветаева воспринимает их особый вид потустороннего общения, похожий на сон (Цветаева 6/1: 225). Этот вид общения она любит за то, что он предполагает обращение не к внешнему, повседневному, но к внутреннему миру человеческой души. Особенно ей важна установка на Другого, поэтому такое небольшое место в ее эпистолярном наследии занимает переписка с родными, которые чаще всего связаны с ней сферой быта.
Письма - это ее «час души» - перед лицом дорогого собеседника... «другой» ей необходим. Как катализатор, как повод для духовной работы, которая совершается в ней непрестанно» (Кудрова 1997: 46). Посредником в этом общении чаще всего становилась книга. Множество обсуждаемых в письмах книг, выбор которых далеко не случаен, позволяет судить о богатстве и глубине ее культурного языка, о близости в ее поэтическом мышлении жизни и литературы.
Обращает на себя внимание то, что Цветаева предпочитает книги особой жизненной достоверности, биографического и автобиографического характера. Но также важны в эпистолярном диалоге и художественные произведения. Появление в текстах писем «книжных» метафор, воссоздающих бытовые впечатления, характеризующих людей и духовную атмосферу общения, объясняется тем, что для поэтического сознания Цветаевой характерно по 155 стоянное извлечение смыслов из окружающих ее вещей. Так, например, новое место своего проживания в Париже ассоциируется у нее с «лондонскими трущобами» бедняков из книги репортажей Д.Лондона «Люди бездны»: «... квартал, где мы живем, ужасен, - точно из бульварного романа «лондонские трущобы» (Цветаева 6/2: 15).
Во время пребывания в Савойе она так характеризует окружающих: «Но народ чудный: вежливый, радушный, честный, добрый - как во времена Руссо» (Цветаева 6/2:.59). В письмах к А.Берг она пишет: «Какая у Вас легкомысленная вилла! Особенно в соседстве с аббатом. Что-то мопассановское» (Цветаева 7/2: 78). Обилие подобных метафор создает богатейшую концепто-сферу (Лихачев 1999: 164) эпистолярного наследия Цветаевой, раскрывая ее способность быстро извлекать ассоциации из своего живого читательского опыта, привлекая его для анализа и преображения обыденной жизни: «... Во многих, даже самых обыденных и про обыденное, письмах ее ощущается та же работа ума, чувства и воображения, что и в самых совершенных и завершенных ее произведениях» (Эфрон 1989: 292).
Каждое письмо М.Цветаевой раскрывает ее читательский и человеческий талант, обнажает творческие источники и способ поэтического мышления. Разговор в переписке о книгах не является интеллектуальным актом, демонстрирующим энциклопедические познания, но становится средством ее собственного жизнестроительства и мифологизации адресата.
Признаваясь в одном из писем к А. Берг, что главная радость - чтение, Цветаева торопится подчеркнуть, что живая жизнь важнее: «Я сказала: главная радость - книги, нет! - природа - главное: природа, погода (какая бы ни была), наша улица, обсаженная деревьями, наши каштаны, бузина, огороды -в окне» (Цветаева 7/2: 100). В переписку с близкими и далекими друзьями -истинными или мнимыми - Цветаева вкладывала ту же страстную, жизнеутверждающую силу, что и в личные отношения с людьми, ибо «друг есть дей 156 ствие», как говорила она (Эфрон 1989: 292). Ей более важны человеческие, а не «книжные» отношения, поэтому ее письма лишены литературности .
Часто книга в переписке с конкретным адресатом становится знаком связи, духовного родства, символом единения, своеобразным паролем, знание которого открывает их души навстречу друг другу. По словам С.С. Аверин-цева, в символе «есть теплота сплачивающей тайны»: сопрягая предмет и смысл, он одновременно «сопрягает и людей, полюбивших и понявших этот смысл» (Аверинцев 1998: 91). В роли символа выступает книга в письмах М. Цветаевой. Часто в процессе мифостроительства конкретный адресат терял свои реальные черты, становясь объектом ее любви, надеждой на полное понимание и слияние душ. В этом случае книга выполняла роль универсальной модели, благодаря которой выстраивался образ адресата. Так, например, в записях о СМ. Волконском и письмах к нему лейтмотивом становится книга Эккермана «Разговоры с Гете». Восхищаясь Волконским, она сравнивала его с Гете: «Породы Гете - и горечь та же - в броне. Щедрость в радости, скупость в горе. После вашей книги хочется (можно - должно бы) читать только Гете» (Цветаева 1997: 19).