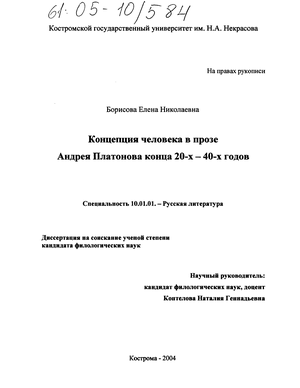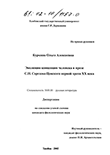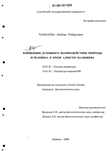Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Концепция мира в художественной философии А. Платонова .
1. Преодоление трагедии смертного мира в прозе А. Платонова 16
2.. Художественная концепция софийности в творчестве А. Платонова 35
Глава 2. Истоки трагического в платоновской концепции человека .
1. Цикличность как феномен поврежденного мира 55
2. Семантика образа материнской утробы 64
3. Мотив отказа от смертного существования и «не рождение» героя-спасителя 73
Глава 3. Духовно-философские основания образа героя-спасителя .
1. Духовное и телесное в художественной философии спасения 83
2. Полемическое содержание христологических ассоциаций в образе героя-преобразователя: на пути к созданию нового типа спасителя 94
3. Евхаристические мотивы в разработке образа героя- спасителя 114
Заключение 134
Список использованной литературы 143
- Преодоление трагедии смертного мира в прозе А. Платонова
- Цикличность как феномен поврежденного мира
- Мотив отказа от смертного существования и «не рождение» героя-спасителя
- Духовное и телесное в художественной философии спасения
Введение к работе
В литературно-критической статье о К. Паустовском (1940) Платонов пишет о том, что главный смысл литературного творчества видится ему в человеке: «... благодарная и трудная задача - изображение человека; этой задачи никто из писателей обойти не может, хотя каждый из них подходит к ней своим путем: центр литературного дела всегда будет заключаться в существе человека, а не возле него» [44; 392]. Это высказывание полностью соответствует ядру эстетической концепции самого Платонова, художественная философия которого находится как бы «среди народа» и человечества, разделяет с ним «нагрузку общей участи» (выражение Платонова) - ощущение трагизма бытия и необходимости отыскать путь «к истине, к высшему благу». Здесь для Платонова, как и для большинства его читателей, очевидным является то, что среди многих есть человек, на которого ложится главная тяжесть этого бремени «общей участи», подчиняет себе всю его жизнь и определяет призвание. Думается, таким «низовым человеком», понесшим на себе всю тяжесть заблуждений, неудач и уроков новейшей истории, был и писатель Андрей Платонов.
Актуальность исследования. Изучение творчества А. Платонова в последние десятилетия далеко ушло от полемики по поводу политических пристрастий автора. В работах последних лет творчество Платонова предстает, с одной стороны, как серьезное философское наследие, связанное с исканиями русской религиозно-философской мысли, с другой - как результат самобытного мифотворчества писателя, сближающего платоновское творчество с литературной традицией символизма и модернизма. В данной связи исследование художественной философии Платонова, включающее в себя обязательный анализ тех ключевых символов и мотивов, которые лишь на первый взгляд имеют мифологическую природу, а при более близком рассмотрении в контексте идейных исканий художника несут четкие христианские ассоциации, является необходимой составляющей для осмысления тех связей, которые объединяют платоновское творчество не только с философско-эстетиче-скими экспериментами модернизма и авангарда рубежа веков, но и, прежде всего, с традицией русской литературы XIX века.
Подходы к изучению проблемы. Уже сложившаяся в платоноведении традиция комплексного подхода к изучению темы человека подразумевает обязательный анализ художественной концепции мира писателя. Значение этого методологического подхода объясняется, прежде всего, тем, что от определения специфики платоновского образа мира прямо зависит аспект изуче-
ния проблемы человека. В научной литературе анализ художественной разработки темы человека у Платонова строится в двух направлениях, соответствующих различным взглядам на концепцию мира в платоновском творчестве.
Одно такое направление складывается в исследованиях отдельных плато-новедов, сходящихся во мнении, что стремление героев Платонова к изменению мира тщетно, человек бессилен перед громадными потоками бытия, не в состоянии осознать их. Отсюда - внимание литературоведов к столь частым мотивам крушений, катастроф, увечий (у Н.М. Малыгиной); отнесение творчества Платонова к традициям экзистенциализма (Е.А. Калинина, М.О. Васильева). Сюда же примыкают исследования Л.В. Карасева, утверждающего идеал «утробного бытия» как платоновский способ преодоления смерти. В этом смысле весьма показательно суждение Е.А. Яблокова, заметившего, что Платонов ставит своих героев на грань обыденного и запредельного. По мнению Яблокова, эта «пограничная» ситуация художественно разрешается непременным возвращением события в рамки «земной» логики: «Никакие отчаянные трансцендентные порывы не способны разорвать оковы «наличного» мира, и усилия энтузиастов нового бытия остаются удручающе «посюсторонними». Любые реалии, которые, кажется, могли бы быть опознаны как обнадеживающие знаки «иного» существования, в конце концов обнаруживают свою «суррогатную» природу - профанируются бренностью и смертью» [265; 10]. Утверждение Яблокова, как нам кажется, справедливо лишь в том случае, когда касается проблематики революционного изменения мира - здесь писателем, действительно, подчеркивается непроницаемость «наличного» мира для восхождения, выхода в запредельное бытие. «Революция была задумана в мечтах, - пишет Платонов в 1935 году, - и осуществляема [первое время] для исполнения самых никогда не сбывшихся вещей» (13-ая книжка); [22; 171]. Открытым здесь остается вопрос о проникновении запредельного в мир обыденный, о нисхождении Света, озарениях, освещении человеческого бытия светом Вечности.
Другая группа исследователей основывает свой подход к платоновской концепции человека на убеждении, что писатель наделяет своих героев свободой коренного изменения мира, каковое оказывается онтологически присуще, доступно человеку. Теоретическую базу этих суждений составляет вопрос о влиянии философии Николая Федорова на художественную концепцию писателя, уже ставший в платоноведении «общим местом». По свидетельству Н.М. Малыгиной, открытие знакомства Платонова с «Философией общего дела» было сделано в 1969 году американским исследователем А.А. Киселевым. «Но поскольку, - пишет Малыгина, - первая публикация на эту тему в журнале «Грани» 1970 № 77, с. 134 ... оставалась недоступной советским исследователям, влияние учения Федорова на Платонова было «открыто» в конце 1970-х гг.» [186; 23]. Одновременно и независимо друг от друга статьи на эту тему написали С.Г. Семенова и Н.М. Малыгина. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении характер этого влияния не кажется столь уж очевидным, обнаруживают себя весьма противоречивые тенденции: от вдохновенного исповедования Платоновым «спасительного» учения до весьма и
весьма пристального критического анализа главнейших его положений. К такому мнению приходит и М.О. Васильева: рассматривая повесть «Эфирный тракт», она справедливо замечает, что уже в раннем творчестве Платонов «отстранился от федоровского решения важнейшего вопроса о соотношении сознания и мира и, соответственно, от непосредственно с ним связанной главной федоровской идеи научного воскрешения умерших поколений» [111; 25].
Признать, что писатель в соответствии с философской концепцией Н. Федорова наделяет своих героев властью над природой и материей, означает, в свою очередь, провести ту же непроницаемую грань между обыденным и запредельным у Платонова, но теперь «запредельное» совершенно лишается смысла, так как победа над «бренностью и смертью» происходит уже в этом замкнутом мире. В то же время, как раз этой безысходности, замкнутости эмпирии боялся Платонов, когда записал: «Наибольшее изменение или горе последовало после путешествия Хр. Колумба, что земля круглая, безысходная, а не плоско-бесконечная» (10-ая книжка, 1934 год); [22; 132]. Думается, что сводить художественный гений Платонова к воплощению федоровских идей столь же недопустимо, сколь и совершенно исключать известную степень влияния такового, и влияния глубинного, мировоззренческого. Автор данной диссертации исходит из убеждения, что платоновская художественная философия формировалась под влиянием множества философских, религиозных и социальных учений (среди которых в последнее время называют и фрейдизм (М.О. Васильева, Мороз), и ницшеанство (М.О. Васильева)). Но, подобно тому «неизвестному цветку» из одноименного программного рассказа Платонова, она, впитывая в себя все «соли земли», росла и развивалась благодаря одним из них и вопреки другим. Входя в тело его произведений, эти учения, говоря языком Платонова, «минерально обращались в живое». Определяющей в этой «органической борьбе» была печаль о человечестве и мире, томленье по его потерянной небесной родине. Именно это метафизическое томление и не давало Платонову закостенеть в форме какого-то философского или социального учения, заставляло напряженно искать другие возможные пути спасения. В этом счастье человека, не поклонившегося ложным образам, и в этом его трагедия, поскольку в той же неуспокоенности причина его «неглавного» отношения к христианству, тех бесконечных сомнений, которым он подвергал свою глубинную, «кровную» веру. В связи с этим перспективным видится нам изучение степени влияния христианского миропонимания на художественную философию Платонова, и в частности, на концепцию человека. Несомненного внимания заслуживает проблема внутреннего, глубинного христианства, живые ростки которого все же пробиваются в произведениях Платонова и сквозь дебри мифологических представлений и коросту социальных учений, и под пронизывающим ветром холодного разочарования.
Рассматривая концепцию мира в прозе Платонова, автор настоящей диссертации формулирует доминату художественного мировидения писателя как феномен остановившегося мира. Исследователи уже обращали внимание на цикличность и замкнутость платоновского мира, погруженного в стихию смертного существования. Однако эти характеристики не являются сущност-
ными для платоновского мира, это лишь его больное временное состояние -поэтому вся художественная система его произведений организована как борьба с болезнью мира, застигнутого как бы в некоем неустойчивом, критическом состоянии. Подтверждение наших мыслей находим в работе Н.М. Малыгиной: «Уже в раннем творчестве Платонова сложилась сюжетная ситуация, содержание которой обусловлено промежуточным положением человека «между небом и землей», «верхом» и «низом», раем и адом» [186; 49]. На это же косвенно указывала Л.П. Фоменко, говоря, что «Атмосфера основного жизненного конфликта постоянно чувствуется в структуре платоновского сюжета, но непосредственная конфликтная ситуация часто отсутствует. Чаще всего зло воплощается обобщенно-символически: пустыня, голод, немилосердное солнце» [244; 58]. Следует не согласиться с теми исследователями, которые отрицают в художественном мире Платонова перспективу развития, потенцию движения и роста. Вероятнее всего, именно подчеркнутая автором внутренняя необходимость динамики и развития и создает этот художественный эффект вакуума, в действительности заключающегося в напряженном ожидании онтологического сдвига. Итогом развития мира, по общему признанию платоноведов, является победа над смертью. Для Платонова эта победа уже была начата Воскресением Христа, но далее мир как бы остановился. Ощущение этого онтологического безвременья сказалось, к примеру, в размышлениях героя «Технического романа» о том, что мир обветшал, и после воскрешения Лазаря и воскресения Христа «человеческая мечта не дала результата: «И в течение двух тысяч лет никто третий не был воскрешен из умерших: настолько медленно реализуются самые необходимые изобретения в нынешнюю эпоху равнодушных, утомленных поколений» [56; 932].
В ряду отмеченных выше суждений особое место занимает точка зрения Чалмаева на «сокровенных» героев Платонова, которые «живут в ожидании готовности жертвы, живут пафосом самопожертвования»: «Они все делают не для себя. Отсюда - не без воздействия христианской морали - постоянное возвеличение писателем страдания, аскетического бытия, благородства детей» [250; 108]. Чалмаеву же принадлежит совершенно справедливое утверждение, что герои «тихой новеллистики» Платонова исходят из мысли, что человек - это существо в природе «надстроечное», хотя и не безмолвное, не пассивное. «И свою судьбу он, человек, строит в соавторстве, в кооперации с «базисными силами»» [250; 126]. Концепция настоящей диссертации во многом продолжает эту линию изучения писательского мировоззрения, развивая тему жертвенности как состояния приобщения к запредельному миру. Именно в христианстве, на наш взгляд, и состоит решение противоречия между апологетикой человеческого ума и фатальным бессилием изменить мир; решение, усвоенное художественной платоновской системой как утверждение онтологической ответственности человека за мир и все человечество. Ответственность не приравнивается у Платонова ни к власти над материей, ни тем более к бессилию перед ней. Вот строчки из записной книжки 1935 года, во многом проясняющие это отношение: «И подумал я, - чтоб весь мир мой был (в голове ведь всякое думается, неизвестно откуда). А потом я представил
себе это - «мой мир» - и мне стыдно стало, совестно в душе» (13-ая книжка); [22; 169]. Категория ответственности в художественной философии Платонова восходит к словам апостола Павла, о том, что после человеческого грехопадения пострадала - «покорилась суете» - и вся природа, разделившая с человеком тление и смерть. Эта ответственность перед миром реализуется в жизни платоновского человека как долг и жертва - то есть участие в подготовке будущего спасения.
М.О. Васильева в диссертации, посвященной вопросам религии и веры в творчестве Андрея Платонова, формулирует особые, по ее собственному выражению, «сущностные характеристики платоновского мировосприятия в целом», среди которых наше особое внимание привлекли следующие: «признание осмысленности мироздания»; «побуждающим импульсом к подлинному существованию является тоска (скука, стыд, тревога) - состояние, позволяющее человеку осознать свою жизнь как «заброшенность» и обратиться к подлинному существованию» [111; 59]. Приведенные Васильевой положения косвенно подтверждают излагаемую ниже концепцию человека, во многом сводящуюся к особой метафизической ответственности человечества за мир.
Говоря об истории изучения концепции человека в творчестве Андрея Платонова, приходится учитывать весь накопленный платоноведением материал, поскольку любой исследователь, так или иначе, касался этой проблемы в своей работе. Обойти этот центральный пункт платоновских художественных исканий действительно невозможно. И все же, исходя из специфики концептуального ядра диссертации, включающего, прежде всего, проблематику спасения человека и мира, ограничим круг анализируемой литературы теми работами, где внимание исследователей было обращено к вопросам художественной онтологии платоновского человека, его роли в спасении мира.
Рассмотрению платоновской концепции человека в масштабе философского постижения мира и бытия посвящена работа Л.П. Фоменко «Человек в философской прозе А. Платонова»: «Проза Платонова, и это чрезвычайно существенное ее качество, стремится не к выявлению многообразия человеческих характеров и судеб, а к выявлению многообразных отношений человека к бытию» [244; 21]. На это же указывает в своей монографии «Поэтика прозы Платонова» К.А. Баршт, говоря, что «наступил момент, когда нам нужно окончательно отбросить снисходительную улыбку при взгляде на научно-философские концепции Платонова и воспринимать его как писателя-философа, равного по идеологическому потенциалу Ф. Достоевскому и Л. Толстому» [97; 12].
В исследованиях Л.П. Фоменко формулируются основные положения платоновской концепции человека, которые, как нам представляется, во многом подготавливают мысль об онтологической ответственности человека перед миром. Так, исследователь пишет о главной «гуманистической цели» исканий платоновских героев: «...человеческая жизнь будет неполной, как бы неосуществленной, если человек проживет ее без постижения, без осознания своего к ней отношения» [244; 21]; «Платоновский человек выступает в первую очередь как человек человечества, человек мироздания». Особого внима-
ния в этой связи заслуживает и данное Л.П. Фоменко определение специфики изображения Платоновым личности, которая выступает «не просто многомерной, в ней заложено буквально «все человеческое»; существуют тенденции трудно совместимые» [244; 28]. Это, ставшее уже хрестоматийным, суждение, тем не менее, не соотнесено еще в платоноведении с контекстом художественного мира писателя и имеет несколько абстрактный характер. В нашей работе в понятие «все человеческое» вложен вполне конкретный смысл: в нем усматривается некий онтологический код, который несет в себе каждое человеческое существо - событие грехопадения и память об искуплении человечества Божественной Кровью Спасителя. Разумеется, таковое выводится нами из многочисленных примеров, где проявили себя и интенции о возвращении к первоначалу, к истокам существования человечества, и воспоминания об Искупительной Жертве Христа, представленные в тексте постоянными «евхаристическими» мотивами и символикой. Косвенное подтверждение своих мыслей мы находим у Н.М. Малыгиной: «В финалах произведений Платонова в сжатом, сконцентрированном виде содержится архаичная мифологическая схема, согласно которой «герой должен пережить умирание-воскресение, спуститься в ад и выйти оттуда другим» (выражение Ю. Лотмана)» [186; 62]. Добавим к этому, что в платоновском тексте торжеству «воскресения» оказывается причастен не только герой, но и весь мир. Все это делает платоновского человека XX века прямо причастным как к гибели, так и к спасению мира (к подготовке этого спасения).
Вопросам концепции человека у Платонова посвящена работа М.Н. Дмитровской «Антропологическая доминанта в этике и гносеологии А. Платонова (конца 20-х - середины 30-х годов)» (1994). В своей статье исследователь обнаруживает сходство антропологических воззрений Платонова со взглядами М. Шелера и X. Плеснера - основоположников философской антропологии в Германии. При этом, исключая знакомство писателя с работами этих ученых, Дмитровская подчеркивает именно типологическую близость мыслителей в постановке вопросов человеческого бытия и поиске их разрешения.
Подтверждение отдельных мыслей, высказанных в настоящей работе, а также общность подхода мы находим в монографии А. Дырдина «Потаенный мыслитель. Творческое сознание Андрея Платонова в свете русской духовности и культуры» (2000). В своем исследовании Дырдин пытается поставить вопрос о роли Платонова как «писателя-мыслителя в развитии отечественной духовной культуры и его месте в ней» [139; 12]. Совершенно справедливы замечания Дырдина, касающиеся разработки концепции человека в творчестве писателя: «Платонов постоянно развивает вечные христианские образы в рамках своей концепции человека» [139; 86]; «...утверждением активности человека, постановкой перед ним жизненной задачи как победы над смертью писатель близок основам христианской антропологии» [139; 88]. Важнейшим в работе Дырдина является для нас указание на присущую художественной философии Платонова идею активного христианства, из которой складывается концепция спасения у писателя: «Платонов выразил в эпопее странствий
человека по историческому времени-пространству теологическую идею, противопоставив активное делание пассивному ожиданию смерти» [139; 141]. В контексте идеи активного христианства мы формулируем основную гипотезу нашего исследования, согласно которой образ героя-спасителя в творчестве писателя к началу 30-х годов теряет значение типологическое и вырастает в концепцию человека вообще.
Свой анализ платоновского текста А. Дырдин строит на основе установления типологических и генетических связей художественной эстетики писателя с традициями святоотеческой духовной литературы, в контексте мотивов и символики Священного Писания. Таким образом, в плане изучения ветхо- и новозаветных реминисценций, а также иконографических традиций в текстах Платонова настоящая работа является продолжением уже имеющихся исследований. К.А. Баршт подчеркивал значимость православной богословской традиции в картине мироздания художника [97]; о связи платоновского сюжета с архетипическими моделями писал А. Жолковский [141]; на постоянное присутствие в произведениях Платонова библейского мотива «блуждания» людей указывает Н.М. Малыгина. В частных случаях отдельные библейские сюжеты рассматривались исследователями как внутренняя основа сюже-тостроения в текстах Платонова: совпадение ключевых эпизодов «Рассказа о многих интересных вещах» и Откровения Иоанна Богослова обнаружила Н.М. Малыгина [186; 58]; на частое внимание писателя к сюжету библейской легенды о Вавилонской башне указывали Н.М. Малыгина, Е.Н. Проскурина; о библейском сюжете повести «Джан» писали Л. Аннинский, В.А. Чалмаев, Н.М. Малыгина, П.А. Бороздина. М.А. Дмитровская в работе «Макрокосм и микрокосм в художественном мире А. Платонова» указывает на евангельские корни художественной семантики стихий ветра (воздуха) и дождя (воды) в платоновском тексте [135; 29]. На присутствие мотивов и образов богослужебных текстов в творчестве писателя указывал А. Киселев. Однако попытки изучения связей платоновских произведений с библейскими текстами не имеют систематического характера. На основании этого, в настоящей работе отдельное внимание уделяется выявлению характера и специфики бытования сакрального слова в платоновском произведении. Анализ показывает, что богослужебный текст является у Платонова смыслообразующим фактором, определяет принцип художественной разработки темы спасения и образа героя-спасителя.
Об основополагающем значении образа Спасителя в концепции человека у Платонова писал В.А. Чалмаев. Он также отмечает наличие некого онтологического кода в каждом человеке: ««Поле мысли» каждого детского рассказа Платонова, как и многих стихов из «Голубой глубины», гораздо шире материала темы. Оно как бы хранит в закодированном виде историю Вифлеемского младенца» [250; 15]. На интерес Платонова к «маленькому», «низовому» человеку как центральной фигуре в философии спасения обратил внимание В.А. Чалмаев: «Бели уж суждено человечеству снять с себя оковы материальной нужды, <...> бессмыслицы, разобщенности, то сделают это вот такие чудаки, странники, пришельцы, пусть даже и необразованные, умо-
ляющие, как умолял и он сам в юности: «Мы идем снизу, помогите нам, верхние»» [250; 90].
Исследованию образа героя-спасителя в творчестве Платонова посвящены многие работы Н.М. Малыгиной. Но, на наш взгляд, совершенно неоправданно из них исключен аспект живого духовного опыта писателя. Так, образ Христа оказывается в исследованиях Малыгиной не средоточием напряженной духовной жизни Платонова, а всего лишь архетипическим образом, воплощаемым в различных персонажах. Эта отвлеченность от конкретного духовного опыта, религиозных ассоциаций оказывается чревата односторонностью оценок некоторых персонажей, таких, к примеру, как Александр Два-нов («Чевенгур»), Сарториус («Счастливая Москва»). В работах Малыгиной платоновская концепция спасения выстраивается исходя из того, что в художественном мире писателя таковое обеспечивается всевозможными техническими средствами спасения человека и мира (космические аппараты, корабли, паровозы, башни и вечные дома). Крушение этих устройств, задуманных как средство спасения, ведет, как показывает Малыгина, к «катастрофам» и «тяжелым увечьям» платоновских героев: «Переклички судеб Насти, Москвы и Ольги («На заре туманной юности») проявляются в сходстве их финалов: «сироты социализма» переживают катастрофу, в результате которой попадают на «дно» жизни» [186; 56]. Актуализируя в указанных героинях семантику жертвы, Малыгина совершенно не учитывает при анализе образов Москвы Честновой и Ольги отчетливо выраженную семантику искупительной жертвы. Вообще же, думается, не следует рассматривать судьбы этих трех героинь как явления одного порядка - такой подход совершенно искажает то онтологическое христианское значение жертвы, каковое, подчеркиваем, неотъемлемо присуще платоновской художественной философии. Как справедливо замечает сама же Малыгина, в повести «Котлован» «...воссоздана ситуация, со всеми ужасающими подробностями переданная Иваном Карамазовым для подтверждения недопустимости детского страдания во имя «будущей гармонии»» [186; 62]. И эту сюжетную ситуацию Малыгина вдруг распространяет на многие другие произведения: «Чевенгур», «На заре туманной юности», «Фро», где, по мнению исследователя, «разворачиваются различные варианты решения проблемы: можно ли страданиями и жертвами одного человека «купить» спасение и счастье многих людей» [186; 62]. Но видеть повсюду выражение идей Ивана Карамазова значило бы признать бунт самого Платонова, неприятие им, прежде всего, жертвы Христа. Тогда как таковое совершено чуждо писателю, создавшему целый сонм героев-страстотерпцев -в первую очередь, в военной прозе, - страданиями и кровью которых, действительно, искупается мир и человечество. Учитывая прошлый опыт изучения категории жертвы у Платонова, автор настоящей диссертации ведет свое исследование с привлечением тех множественных смысловых контекстов, окружающих данную сюжетную ситуацию, в которых, как показывает опыт, регулярно присутствует специальная образная атрибутика искупительной жертвы - «евхаристические» мотивы и символы.
Рассматривая систему персонажей в романе «Чевенгур», Е.А. Калинина («Традиции русского символистского романа в романе 20-х - 30-х годов XX века (А.П. Платонов «Чевенгур», В.В. Набоков «Дар»)») пишет о том, что герои у Платонова равны в своей значимости: это «венок судеб, объединенных не сюжетом, а некоей общей устремленностью, поиском смысла существования» [149; 9]. На это же в свое время указывала Л.П. Фоменко, подчеркивая, что даже эпизодические лица в произведениях Платонова несут особую символическую нагрузку, «передают глубинные мысли о человеке» [244; 22-23]. По мнению Е.А. Калининой, человек является той частицей бытия, «в рамках которой и происходит поиск смысла происходящего в конкретный момент в определенный исторический период и смысла существования вообще» [149; 9]. Эта мысль о воплощении в отдельной частной судьбе общей цели бытия человечества и мира особенно близка тем основным положениям платоновской философии, из которых мы выводим далее его концепцию человека. Прежде всего, речь идет об идее целокупности человечества - единого организма, и тесно связанной с этим онтологической необходимости каждой жизни, «такой нечаянной» и такой необходимой. На присутствие мотивов революции-организма и общества-организма указывали в своих работах соответственно Н.М. Малыгина и Е. Толстая-Сегал. Наконец, ключевой платоновский мотив рождения спасителя в пространстве художественного текста есть мотив «собирания спасителя» из общего народного тела: «Народ тоже себя напрасно тратить не любит, - формулирует эту концепцию Платонов в статье «Пушкин и Горький», - и, кроме того, его тоска бывает велика, ему ждать некогда, и он рождает и питает свой дар в отдельном, одном человеке, передоверяя ему на время свое живое существо» [44; 304].
Исследователи творчества Платонова всегда обращали внимание на присутствие образов-символов в произведениях писателя. По свидетельству Н.М. Малыгиной [186], современники писали, что у него «образы <...> заменены символикой» (Перцов В, 1945), что он факты «переводит на язык высоких символов» (Рашковская А., 1946). Разработкой платоновских образов-символов занимались такие ученые, как: Е. Толстая-Сегал, Н. Малыгина, В. Ристер, Г. Гюнтер, Е. Яблоков, Л. Карасев, М. Дмитровская. Настоящая диссертация продолжает традицию изучения символического значения образов у Платонова. Так, в работе рассматриваются символические образы материнской утробы, искупительной жертвы (со всем комплексом жертвенной символики: хлеб, вино, кровь, древо, плоть коровы - говядина), а также восходящие к апостольским поучениям образы-символы молока, травы, камня.
Большое внимание образу материнской утробы в своем структуралистском анализе (который, однако, ничего не прояснил в плане символики) уделяет Л.В. Карасев. Действуя в рамках метода, названного им «онтологической поэтикой», Карасев приходит к удивительному заключению о том, что платоновский мир «не рассчитан на развитие и движение, не рассчитан на вырост» [153; 155], идеальное же существование человека - «полубытие» внутри материнской утробы: «Остановив свой выбор на ребенке как «веществе создания», Платонов отговорил его взрослеть и пустил в сторону противополож-
ную старости и смерти, - назад, в материнскую утробу. Я не говорю, - продолжает исследователь, - о том, насколько это удалось, а о том, что само направление движения было именно таким. Платонов как будто повторяет древнюю формулу, по которой наиболее счастливым оказался не тот, кто прожил долгую жизнь, не тот, кто умер сразу при рождении, а тот, кто вообще не рождался. <...> Идеал платоновских людей не в том, чтобы вообще не существовать, а в том, чтобы существовать внутри материнской утробы, быть уже зачатыми, то есть уже действительно быть, но при этом в мир не рождаться. Счастье - это жизнь внутри матери» [153; 129]. Пользуясь методом имманентного, без учета контекста произведения, анализа постоянных символов и мотивов, Карасев совершенно исключает из своего рассмотрения главное - идейный компонент текста, реализуемый даже на уровне отдельного образа, эпизода. По общему признанию большинства платоноведов, этим стержневым идейным компонентом всех произведений писателя был вопрос о смысле человеческого существования, стремление приобщиться к целям всеобщего бытия. Однако таковое никоим образом не совместимо с утверждением Карасева, из которого, если продолжить мысль, следует, что Платонов совершенно изолирует человека не только от человечества, но и от мира в целом, замыкает в сфере собственной остановившейся жизни, «а в человечестве ничего не прибавляется» («Джан»). К чему же тогда эта «нечаянная» и необходимая человеческая жизнь? В вопросе трактовки категории материнской утробы концепция нашей диссертации оказывается ближе к утверждению Н.М. Малыгиной, отметившей, что: «Значительным событием в движении сюжетов: космического и земного, - является момент выделения человека «из природы» [186; 51]. О мотиве исхода героев Платонова из «застойного существования» и символических образах круга, сферы писал и В.А. Чалмаев [250; 70, 116-117]. Это метафизическое рождение человека, пробуждение от «оцепенения и сонного прозябания» [186; 62] и есть та первая жертва миру, подготовка его будущего спасения, о которой настойчиво пишет Платонов. Мотив нерожденного спасителя, подробно рассмотренный в настоящей диссертации, является в платоновском художественном мире главной трагедией, страшнее смерти. Здесь уместно привести фрагмент из Записных книжек Платонова 1933 года: «Конец:/ И тогда он увидел, что жизнь прожита зря и почел себя не существовавшим вовсе, а другие его вовсе не знали. Человека не было» (9-ая книжка); [22; 153]. Обращаясь к теме трагического в платоновском художественном мироощущении, нельзя за проблемой смертного мира не видеть пристального внимания писателя к проблеме жизни, серьезное осуществление которой каждым человеком есть необходимое условие развития и «прогресса» мира, его одухотворения, обожения. Трагедия смертного мира, больно и напряженно переживаемая Платоновым, находит выход вовсе не в иллюзорном мифотворчестве - художественном бегстве от смерти (каковое усматривает в Платонове Карасев), а в поисках настоящего жизненного спасения. И в этом одна из задач творчества, которую видел перед собой писатель. Вот запись Платонова, четко определяющая его отношение к жизни, к жертве и к смерти: «Жизнь состоит в том, что она исчезает. Ведь если жить правильно - по духу,
по сердцу, подвигом, жертвой, долгом, - то не появится никаких вопросов, не появится желание бессмертия и т.п. - все эти вещи являются от нечистой совести» (Записки разных лет, Лист 5); [22; 257].
Таким образом, в подходах к изучению платоновской художественной концепции человека существуют противоречивые тенденции, касающиеся, прежде всего, проблемы определения места и назначения человека в системе художественного мира писателя. Хотя в работах большинства исследователей центральное место занимает анализ мотивов преобразования мира, все же остается неосвещенным вопрос о жертвенно-спасительном назначении человека у Платонова, о постепенном становлении идеи искупления. Попытки же изучения героя-спасителя состоят лишь в поверхностном соотнесении художественных образов с христианским вероучением, тогда как более внимательный анализ платоновского текста обнаруживает глубинные совпадения представлений художника о спасительном подвиге с христианской философией спасения, в частности, речь идет о некоем «евхаристическом коде», заложенном в мотиве жертвы у писателя.
Целью настоящего исследования является определение влияния христианского учения о спасении на концепцию человека в творчестве А. Платонова, а также анализ путей формирования самобытной авторской поэтики, выражающей стержневую для художественной антропологии писателя идею искупительной жертвы.
Цель исследования достигается в ходе решения следующих задач:
анализ сущности художественного конфликта человека с несовершенством мира в прозе Платонова, а также определение степени влияния учения Н. Федорова на платоновскую философию бессмертия;
анализ концепции софийности в прозе Платонова и выявление ее значения в формировании образа героя-спасителя, изучение софиологической основы авторской философии спасения;
анализ идейно-художественного значения образа матери, установление связей между художественными символами материнской утробы и категорией замкнутого, остановившегося бытия;
исследование мотива нерождения спасителя и отказа от существования как феномена трагического в платоновской концепции человека;
решение вопроса о взаимосвязи духовного и телесного в художественной философии спасения;
осмысление специфики развития платоновского образа героя-спасителя: анализ полемического подтекста христологических ассоциаций в образе героя-преобразователя; рассмотрение идейно-художественных истоков постепенного становления тематики жертвенности;
выделение важнейших символов искупительной жертвы и анализ их как своеобразных художественных маркеров образа героя-спасителя.
Предмет настоящего исследования состоит в совокупности мотивов и образов-символов, художественно развивающих идею Платонова о личном участии человека в деле восстановления мира из падшего состояния.
В качестве материала исследования привлекаются прозаические произведения А. Платонова конца 20-х - 40-х годов, а также литературно-критические статьи из книги «Размышления читателя», публицистика 20-х годов и записные книжки Платонова разных лет. Выбор произведений, ограниченный рамками конца 20-х - 40-х годов, обусловлен задачей проследить развитие концепции человека в зрелый период платоновского творчества, где определяющим становится постепенное обращение писателя к христианскому миропониманию. Ранняя эстетика Платонова была проникнута упованием на социальный прогресс, техническое преобразование действительности. К концу 20-х годов в творчестве писателя намечается кризис героя-преобразователя, меняется художественная концепция мира, в которой начинают преобладать черты православной гносеологии. Произведения этих лет запечатлели конфликт прежней художественной антропологии Платонова с христианским миропониманием. В произведениях середины 30-х годов, в так называемой «тихой новеллистике», и позднее в военной прозе этот конфликт преодолевается новым представлением о роли человека в деле спасения мира, Все чаще звучит мотив искупления и жертвы в контексте платоновской идеи о смысле человеческой жизни, преображение действительности мыслится теперь писателем как промыслительное действие благодати, совершаемое в мире посредством человека. Таким образом, период творчества Платонова с конца 20-х годов по 40-е отражает процесс формирования самобытной авторской концепции человека.
В качестве источников сакрального слова, являющегося смыслообразующим ферментом многих платоновских произведений, нами рассматривались книги Священного Писания: Ветхозаветные книги, Евангелие, Послания святых Апостолов Петра и Павла; тексты молитвословий. Основой толкования иконографических традиций, просматривающихся в отдельных художественных образах, явились в нашей работе сочинения по русской иконографии о. Павла Флоренского и инока Григория (Круга).
Методология работы обусловлена характером предмета исследования и целями диссертации и сочетает сравнительно-исторический, религиозно-философский и герменевтический подходы к анализу произведений. Философскую базу исследования составили идеи, высказанные в работах русских религиозных философов начала XX века: Николая Федорова, о. Павла Флоренского, о. Василия Зеньковского, о. Сергия Булгакова. Также мы опираемся на работы литературоведов, открывших путь исследования платоновского творчества в свете духовно-философской проблематики: Л. Фоменко, Н. Корниенко, Н. Малыгиной, Н.Дружиной, А. Дырдина.
В работе используются элементы метода онтопозтики, стратегия интертекстуального анализа, что позволяет при изучении ключевых деталей, образов-символов и мотивов обнаружить глубинные философские выводы, к которым писатель приходит на пути разработки своей концепции человека.
Исследование концепции человека в творчестве Платонова ведется в данной диссертации посредством анализа устойчивых мотивов. В этой связи
методологическую базу нашего исследования могли бы пополнить определения специфики функционирования мотивов в платоновском тексте, данные Е.А. Калининой на материале романа «Чевенгур»: «...как и в лирическом произведении, мотив в «Чевенгуре» характеризуется «семантической напряженностью», создающей благодаря повторяемости вариантов мотива, когда «каждый новый вариант привносит дополнительный смысл в общее значение мотива, которое целиком выражается не в каком-либо одном из вариантов, а только в их совокупности»» [149; 20].
Научная новизна диссертации состоит в изучении платоновской концепции человека как феномена художественного осмысления писателем христианского учения о спасении, в рассмотрении концепции человека через анализ темы жертвенности. Соотнесение идей писателя об активном, жертвенном участии человечества в деле спасения с христианским вероучением показывает глубинные религиозные основания платоновской веры в человека, в удачу человеческого пути, чем обосновывается смысл известного тяготения Платонова к пушкинской традиции, неприятие им «достоевско-гоголевского» («сужающего») взгляда на проблему человека.
Теоретическая значимость. Исследование концепции человека у Платонова в контексте идеи спасения мира от смертного состояния позволяет выявить религиозно-философские истоки важнейших положений художественного миропонимания писателя. Таким образом, работа развивает подходы к изучению творчества Платонова как духовного мыслителя, продолжающего традиции классической русской литературы XIX века.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографии. Структура основной части работы обусловлена внутренней логикой и задачами исследования, она отражает становление идейно-художественных оснований философии человека: Глава I - «Концепция мира в художественной философии А. Платонова», Глава II - «Истоки трагического в концепции человека», Глава III -«Духовно-философские основания образа героя-спасителя».
Преодоление трагедии смертного мира в прозе А. Платонова
Исследование концепции тварного мира в прозе Андрея Платонова имеет не только самостоятельное научное значение, но и во многом проливает свет на проблему философского обоснования идеи активного преображения мира в творчестве писателя. В платоноведении закрепилось привнесенное Н.М. Малыгиной, С.Г. Семеновой, Е. Толстой-Сегал мнение о том, что философскими истоками художественной концепции мира Платонова стало учение «активного христианства» Николая Федорова с его идеей разумной регуляции природы. Невозможно отрицать определенное влияние федоровского учения на художественную философию Платонова, но, как нам представляется, итогом такового было отнюдь не прямое усвоение идей Федорова, а, скорее, внутренняя полемика творческой интуиции Платонова с философом.
Исходным пунктом платоновской художественной концепции мироздания, как и федоровской философии, становится мысль о несовершенстве мира, и на это указывали в своих работах многие исследователи (В. Чалмаев, Л. Карасев, Н. Александрова, А. Шиндель, Н. Малыгина и др.). Смертность и конечность замкнутого в своем существовании мира больше всего волновали Платонова. Как отмечает И.А. Спиридонова в статье «Христианские и антихристианские тенденции творчества Андрея Платонова 1910-1920-х годов», «особенно остро Андрей будет переживать смерть брата Мити и сестры Нади, умерших подростками. Видимо, именно тогда божественный космос обернулся для него хаосом. Детская смерть войдет в художественный мир Платонова как важнейший знак-символ неистинной, ложной жизни» [234; 352]. Познакомившись с федоровской философией, молодой Платонов со свойственной ему открытостью воспринял идеи о воскрешении мертвых и изменении природы на планете как прямое руководство к действию в ситуации революционного переустройства мира. Федоровская философия в сознании Платонова накладывается на идеи социалистического преобразования мира и человека. Вслед за Федоровым, главными врагами человечества на пути к земному раю в его коммунистическом варианте Платонов объявляет природу с ее «законами случайного блуждания», ведущими к вырождению и вымиранию. Ранние научно-фантастические рассказы писателя наглядно иллюстрируют возможности человеческого разума, сделавшего своей опытной станцией всю природу и космос. Но, по справедливому замечанию М. Коврова, «впоследствии Платонов существенно уточнит Федорова: ведь природа тоже мучается, она столько потрудилась для создания человека! Как неимущая женщина, много родившая и теперь уже шатающаяся от усталости. У него нет и следов ненависти к природе, к смерти» [158; 8]. К концу 20-х - началу 30-х годов в художественном сознании писателя несовершенство мира окажется иным и более глубоким в своих онтологических основах, нежели в философии Николая Федорова. Отсюда начинается постепенное преодоление идей Федорова, которое примет в платоновском творчестве форму сложной внутренней полемики, где принципиальное значение возымеет авторское отношение к природе, окончательно сформировавшее подлинно христианское видение мира у Платонова-писателя.
Природа для Платонова конца 20-х годов уже не является слепым механизмом смерти, косной «слепой силой», которой надо лишь научиться управлять. Платоновское отношение к природе отличает определение ее как живого существа: все, что составляет для него само понятие природы, наделено жизнью: деревья, «мелкие земляные твари», «разнохарактерная живность», почва, растущие на ней «былинки», животные, птицы. Но, что самое важное, природа, которая предстает в состоянии смирения, мучительного терпения, тоски, сама оказывается жертвой, так же, как и человек, и еще более его: «Жара и скука лежали на этой арало-каспийской степи; даже коровы, вышедшие кормиться, стояли в отчаянии среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный бред совершался в их уме» («Ювенильное море») [64; 563]; «На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности» («Котлован») [26; 449]; «...мутное, измученное небо, точно природа тоже была лишь горестной безнадежной силой» («Джан») [17; 38]. Мысль о первозданной идеальной сущности природы, к которой мы еще вернемся в наших рассуждениях, о том, что внутри всех «бедных существ есть чувство их другого счастливого назначения», что природа, как и человек, «тяготится и ждет чего-то», легла в основание многих платоновских произведений (среди них «Джан», «Ювенильное море»). Природа в произведениях писателя как бы подчиняется некоему объективному факту всеобщего бытия и вынужденно терпит свое несовершенство. Однако Платонов далеко отстоит от понимания онтологической сущности этого несовершенства и смертности, присущего автору «Философии общего дела»: «...смерть, в которой Федоров склонен был вообще видеть лишь род случайности и недоразумения или педагогический прием, есть акт, слишком далеко переходящий за пределы этого мира, чтобы можно было справиться с ней одной регуляцией природы, методами физического воскрешения тела...», - отмечает С.Н. Булгаков в своей работе «Свет Невечерний» [71; 557]. В этом контексте принципиальное значение приобретает то, что причины несовершенства мира в платоновской художественной философии как бы трансцендентны, то есть, действительно, лежат «за пределами этого мира». Событие, повлекшее за собой несовершенство мира, у Платонова отдаляется не только хронологически, но, главным образом, онтологически. Так, трагедия существования народа джан уходит корнями в легенду о том, что во впадине Сары-Камыша в древности находился всемирный ад. Смертность и общая скупость природы предстает как результат «древнего проклятия», «векового зла».
В онтологическом контексте повести «Джан» символично и то, какие люди составили некогда народ джан: «беглецы и сироты отовсюду», «рабы, которых прогнали», «женщины, изменившие мужьям и попавшие туда от страха, ...девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они не захотели никого другого в мужья», «люди, не знающие бога, насмешники над миром, преступники» [17; 23]. Платонов здесь значительно углубляет ключевой образ сиротства человеческой души, возводя его к библейской притче об изгнании людей из рая: в эпизоде присутствует семантика преступления, одиночества, страха и стыда - то есть рисуется то состояние, в котором оказались соблазнившиеся Адам и Ева: «Став как боги», человек прежде всего почувствовал себя нагим, беспомощным и смущенным и поспешил «скрыться между деревьями» от лица Господа, пытаясь погрузиться в стихию мировой жизни и в ней замкнуться» [71; 488].
Вся история народа джан, питающегося скудной пищей из пустынной или болотной травы, как бы воплощает предсказания о человечестве, данные Господом в момент изгнания прародителей из рая: «...Проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою» (Бытие 3: 18-19).
Цикличность как феномен поврежденного мира
Трагизм платоновского миропонимания исходит из ощущения повторяемости, цикличности всего земного существования, где человек и природа стали заложниками какого-то «древнего, долгого зла». Рождение и смерть замыкают круг человеческой жизни и обрекают мир на цикличное состояние. Повторяемость в платоновской прозе является феноменом поврежденного мира, цикличность существования есть главное зло для человечества. Мир прозы Платонова концентрирует в себе ощущение остановившейся истории: освобождение человека и природы из круга смерти уже начато было Спасителем, но дальше произошла необъяснимая остановка, наступило онтологическое безвременье, когда кажется, что мир уже не идет к своей цели «в нынешнюю эпоху равнодушных, утомленных поколений». В повести «Котлован» инженеру Прушевскому каждый год сестра, жившая «как в беспамятстве», присылала открытку на Пасху, «где сообщала: «Христос воскрес, дорогой брат! Мы живем по-старому...»» [26; 484]. В этом соседстве двух точек бытия: Воскресения Христа и «старой» жизни людей воплотился весь трагизм платоновского миропонимания. Безмерностью подвига Христа пронизаны все произведения Платонова, где каждый раз снова звучит мотив ос-тавленности, агонии человеческой природы, опустошенной падением, и еще не знавшей всеобщей победы над смертью. И одновременно с этим присутствует дерзновенная вера и надежда на спасение, выразившаяся в памяти бессмертия, с которой рождается платоновский человек: «Душа, оказывается, не помнила своих библейских бедствий» [56; 932].
Таким образом, Платонов использует принцип «вневременья»: события Священной истории теперь так же реальны, как и много веков тому назад. Платонов разрабатывает тему цикличного состояния в духе христианского ожидания Воскресения.
Онтологический аспект феномена цикличности, состоящий в принадлежности тварному миру и именно телесной оболочке бытия, связан в платоновском представлении с образом природы. Так, в повести «Джан» воплощением цикличности природы становится мать Чагатаева. В этом образе Платонов концентрирует символические черты, присущие тварному миру. Главной доминантой образа является смертность: воспоминания Чагатаева о матери оформляются в мысли о том, жива она или нет. Другая важная деталь - гиперболизированная «сгорбленность» - указывает на цикличность существования старого мира, который есть круг, образуемый рождением и смертью: «Спина ее давно уже и навсегда согнулась, и когда старуха разглядывала что-либо, лицо ее ползало по земле, точно она была невидящая и искала потерянное» [17; 36]. Мать Чагатаева символизирует круг телесного существования, замыкающийся на земле: «все из земли рождается и в землю уходит»: «... она не успела еще понять себя и освоиться, как наступила пора быть старухой и кончаться». В конечном итоге здесь прослеживается древнее языческое пред ставление о жизни, с которым полемизирует Платонов. По мнению писателя, история человечества должна победить цикличность, повторяемость, которые обессмысливают каждую новую жизнь. Платоновское миропонимание в этом смысле близко христианскому апокалипсическому восприятию истории. Сближая образ Назара Чагатаева с Христом, Платонов выражает идею спасения земли и всего тварного мира от смертного круга. Смысл образа Чагатаева в том, чтобы разорвать этот вековой круг и освободить природу от повторяющегося существования, отбирающего все ее силы и лишающего дальнейшего развития: «Назар обнял мать. Она была сейчас легкой, воздушной, как маленькая девочка, - ей нужно начинать жить сначала, подобно ребенку, потому что все силы у нее взяло терпение борьбы с постоянным мучением, и она не имела никогда свободного от горя остатка сердца, чтобы чувствовать добро своего существования» [17; 37]. В этом же смысловом контексте высказывается платоновская мысль о том, что животные временно остановились в своем развитии из-за какой-то древней всемирной ошибки: Ча-гатаев понимал, что его народ и все живые существа нуждаются более всего «в другой, еще не существующей жизни, которую можно терпеть, не умирая» [17; 47].
Однако Чагатаев, заботящийся о сохранении телесной оболочки бытия, не противопоставлен своей матери, которая при встрече с сыном «проверяла и рассматривала вблизи все его тело: целы или нет его части, не отболело и не потеряно ли что-нибудь в разлуке» [17; 36] . В записной книжке 1941-1950-х годов Платонов напишет: «Рождается ребенок лишь однажды, но оберегать его от врага и от смерти нужно постоянно. Поэтому в нашем народе понятие матери и воина родственны; воин несет службу матери, храня ее ребенка от гибели. И сам ребенок, вырастая сбереженным, превращается затем в воина» [22; 544-454]. Таким образом, в платоновском мире рождение и сбережение жизни сближаются в противопоставлении небытию и смерти. Так и свое собственное тело Чагатаев чувствует как «чужое добро, как последнее имущество неимущих, которое хотят расточить напрасно». Он находит в себе силы сберечь свое тело от орлов «как второго человека, как ближнего, беспомощного друга». Платоновское представление о теле как дарованном «имуществе» сближается здесь с христианским, тем более принимая во внимание образ матери как онтологического посредника между Небом и миром, символ тварной Софии: «...ему стало жалко своего тела и своих костей - их собрала ему некогда мать из бедности своей плоти, - не из любви и страсти, а из самой житейской необходимости» [17; 77]. Кроме того, здесь звучит мысль о человечестве как едином Теле Христовом. Ниже в параграфе «Тело и душа» нами будет подробно рассмотрена платоновская идея онтологической связанности души с телом, художественно выраженная в повести «Джан» в невозможности спасти душу без победы над смертью тела. Здесь же важно отметить, что сохранение жизни становится у Платонова условием выхода из круга буксующего существования, так как каждый человек есть часть целого организма, а человечество спасется только все целиком - в его прошлых, настоящих и будущих людях: «Каждый рождается со своей жиз нью, со своей идеей, со своими, никогда не повторяющимися, ни на кого не похожими ... в этом опровержение всех законов и протонов, в этом мозаика истории и смысл ее» (23 -ая книжка, 1944 год) [22; 249]. Из этого платоновского плана «всеобщей жизни» и убежденности писателя в необходимости каждого человека содействовать этому плану складывается духовно-нравственный аспект феномена цикличности бытия: он имеет место там, где человек в поисках истины идет ложным путем.
Мотив цикличности человеческого существования появляется у Платонова еще в романе «Чевенгур», он раскрывает тему поиска истины. Нам известен отклик Горького, всегда заботившегося о поддержке нового поколения писателей, о поиске молодых талантов и читавшего рукопись романа «Чевенгур». И вот что здесь особенно важно: Горький отмечает, что в романе процесс добывания истины, хождения за ней героем начинает принимать характер движения по замкнутому кругу. Но та художественная особенность, которую критик посчитал недостатком, лежит в основе всего идейно-философского строя романа.
Этот главный мотив романа (хождение по кругу) поддерживается и его архитектоникой. Начало и финал романа, по общему признанию платонове-дов, соединяются возвращающимися образами, что создает впечатление круга. Так, в начале романа возникает образ села, покинутого людьми - в конце романа в опустевшее село вновь возвращаются люди. Уходя из Чевенгура, Саша Дванов попадает в свое прошлое, видит давно знакомые ему места, услышав колокол часовни в селе, герой словно слышит звук своего детства.
Мотив отказа от смертного существования и «не рождение» героя-спасителя
Для решения вопроса об онтологической природе платоновского человека принципиальное значение имеет такой аспект, как необходимость каждого человеческого существования. Как уже указывалось нами выше, здесь находит отражение платоновское убеждение в том, что человечество, как единый живой организм, может прийти ко спасению только все целиком, при этом личная ответственность каждого отдельного человека не умаляется, а, напротив, увеличивается, поскольку его жизнь или отводит, или приближает возможность восстановления всего человечества. Этот аспект платоновской концепции человека весьма далек от гуманистического «права на жизнь», он отражает христианские основания мировоззрения писателя. В художественном мире Платонова через человека действует мир горний и каждое рождение оправдано онтологической необходимостью. Однако для самого человека эта необходимость не является очевидной, и мучения жизни представляются бессмысленными. Так возникает мотив отказа от существования, весьма распространенный у Платонова.
Художественный контекст этого мотива составляют, с одной стороны, образ женщины-матери, как такого существа, через которое человек приходит в мир и с которым связана возможность «обратного рождения» внутрь материнской утробы, с другой - мотив сиротства, каковой есть неотъемлемая часть человеческой онтологии у Платонова: рождение человека мыслится им как начало сиротства. По общему признанию платоноведов, самым ярким воплощением такого сиротства становится для Платонова образ Христа, который не искал пути обратно в уютное тепло своей матери, а шел навстречу смертельному миру, усыновил все человечество и спас его своим подвигом. В Записной книжке Платонова 1942 года находим высказывание, содержащее ключевую мысль об уповании всего мира на спасителя: «Мать, рождая сына, всегда думает: не ты ли - тот?» (20-ая книжка) [22; 226]. Платоновская концепция здесь восходит к христианской догматике, согласно которой, в самом Боговоплощении, в Рождестве Спасителя начало подвига Христа. Поэтому так часто трагизм платоновского миропонимания воплощается в мотиве «нерожденного спасителя».
В повести «Джан» этот мотив становится ключевым в трактовке проблематики произведения и выступает как разновидность мотива отказа от существования. Платоновская метафизика вся уходит корнями в мир телесный, а тот в свою очередь не замкнут в самом себе и целиком устремлен в «небо», к звездам, где и находит свое обоснование и оправдание своему мучению. Символично, что эта квинтэссенция платоновской онтологии, художественно оформленная в повести, предстает в виде «старинной двойной» картины в комнате Веры: «Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо - близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность того времени, и засмотрелся туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое ос тальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет - по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз, - голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное плоское место земли» [17; И].Образ Веры, символизирующей в произведении материнское начало, отвечает за телесное основание бытия, за рождение новой жизни. Он помещается Платоновым в самый центр основного жизненного конфликта. Именно из противоречия между счастьем всего остального мира и слезами этого жалкого существа, - носящего в своем животе новую жизнь (имеется в виду беременность Веры), как залог будущего существования человечества, - существа никому не нужного, рождается онтологический конфликт всей повести: «Чагатаев сейчас же возвратился туда: он хотел немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы» [17; 10].
С образом Веры в повести связан скрытый план повествования, который перекликается с основным рассказом о жизни Чагатаева в пустыне и раскрывает его внутренний смысл. Эти два плана повествования противополагаются друг другу, создается внутренний идейный конфликт.
Два главных события из жизни Веры - ожидание ребенка и его «нерождение» - составляют в повести ключевые моменты в разработке темы необходимости каждой человеческой жизни для всеобщего спасения. В первом письме Чагатаеву Вера писала о своем будущем ребенке: «Я привыкла к нему, все время живу с ним как с другом,... и его рождения я боюсь - не потому, что мне будет больно, а потому, что это будет начало разлуки с ним навек, и его ножки, которыми он сейчас стучит, спешат уйти от матери, и они будут уходить все дальше и дальше - по мере его жизни, пока мой сын не скроется совсем от меня, от моих заплаканных глаз» [17; 24]. В эпизодах с Верой проявилась характерная черта концепции мира Платонова: это предельная конкретность тварного бытия, проявившаяся в том, что не-жизнь есть смерть, нерождение ребенка есть его досрочное умерщвление, так как каждая человеческая жизнь необходима для всеобщего смысла существования мира.
Ожиданию ребенка Веры посвящено в повести много эпизодов, и неслучайно. Этим создается эффект как бы всеобщего упования на него как на будущего спасителя. Сообщение о смерти ребенка и матери носит эпизодический характер. Назар Чагатаев узнает об этом из краткого письма Ксени: «Ваша жена, моя мама Вера, умерла во Второй клинической больнице, в г. Москве, от родов девочки, которая, когда родилась, то была мертвой, и я видела ее тело» [17; 47]. Однако эта «краткость» (кстати, художественно оправданная идейным акцентом на торжестве человеческого существования) не распространяется на смысловую нагрузку данного эпизода. Символический смысл открывается при обращении к одной весьма важной детали: девочку и мать похоронили «в земле на Ваганьковском кладбище, не очень далеко от писателя Батюшкова». Для чего Платонову, весьма далекому от излишнего бытописания такого рода уточнения? Вероятно, автором здесь проводится некая символическая параллель между судьбой поэта и утратой, которую понесло человечество от «нерождения» ребенка Веры.
Духовное и телесное в художественной философии спасения
Специфика платоновского художественного метода, вокруг которого в платоноведении до сих пор ведутся дискуссии, определяется исследователями, главным образом, через противопоставление: с одной стороны, традиционному реализму, с другой, в той же степени - традиционному (блоков-скому) символизму. Очевидным при этом является вопрос о соотношении абстрактного и конкретного в платоновской поэтике. С.Г. Бочаров, отмечая расхождение символизма Платонова с символизмом Блока, находит в платоновском творчестве стремление синтезировать идеальное и вещественное: «Платонов принадлежит уже тому потоку литературы, который был реакцией на невещественность символизма. («От абстрактного к конкретному, от метафизики к физике» - вспомним его раннюю программу). Платонов с некоторой даже болезненностью любит эту «грубую кору вещества» и непосредственно в ней хочет найти нетленное «вещество жизни». [105; 17-18]. Проблема платоновского художественного метода оказывается целиком связанной с решением вопроса о конструкции мира и основах миропостижения писателя. И в последнее время ряд научных работ был посвящен исследованию этой стороны проблематики через анализ «механизма жанрового мышления» Платонова (Хрящева Н.П., Серафимова В.Д., Проскурина Е.Н.) с целью вывить зарождение нового художественного метода. Вопрос о соотношении идеального и вещественного с не меньшей остротой встает и в процессе выстраивания платоновской концепции человека. В художественном мире Платонова человек как существо, соединившее в себе отблеск горнего мира и тварную природу, бессмертное и тленное, наиболее полно отразил эту сложность соотношения материи и идеального. В связи с этим принципиальное значение получает анализ субстанциальных элементов в платоновской антропологии, определяемых здесь вслед за писателем как «душа» и «тело».
При наличии в человеческом естестве двух элементов - души и тела — следовало бы говорить о дихотомии в платоновской антропологии. Действительно, уникальность платоновской ковдетши человека во многом определяется взаимосвязью этих субстанциальных элементов, которая будет прослежена в данной части работы. Но вместе с тем необходимо отметить наличие в платоновском человеке и третьей субстанции - Духа, которая оказывается окном в трансцендентный мир. Именно через эти «окна» в человеке в историческое пространство проникает свет онтологии. Понятие «дух» крайне редко встречается в платоновской прозе, но сама эта категория в творчестве писателя может быть изучена опосредованно, через феномен «проницаемости» тварного мира Платонова. Человек у Платонова служит тем окном, через которое проникает в физическое пространство мир сверхчувственный, и возможность такого проникновения приобретается как раз несводимостью человека только лишь к тварной природе. Дихотомия и трихотомия, следовательно, не исключают друг друга в художественной антропологии Платонова В христианском учении о человеке имеет место подобное этому определение духовного начала в человеке: оно «...не есть отдельная сфера, не есть некая особая и обособленная жизнь, а есть творческая сила, энтелехийно пронизывающая собой всю жизнь человека (и души, и тела) и определяющая новое «качество» жизни» [77; 46]. Освещаясь светом горнего мира, платоновский человек испытывает особое мистическое переустройство всей жизни, перерождение души и тела.
Однако справедливо будет заметить, что присутствие Духа получает художественное выражение в тексте лишь в форме «пресуществления» Его в человека неким трансцендентным вмешательством, этим обусловлено то, что озарение человека светом Духа происходит в критические, пограничные моменты: во сне, в болезни (будучи связано с мотивом разрушения и перерождения тела), перед смертью. Так как категория Духа в платоновском мире являет себя через «сошествие» на человека, озарение, с ней оказывается художественно связан мотив спасительной жертвы - этот аспект проблематики будет рассмотрен отдельно, в параграфе, посвященном евхаристической символике тела.
Таким образом, платоновская художественная антропология основывается на представлении о человеке как двойственном существе: эта двойственность разноплановая, но один из ее аспектов - духовно-телесное существо человека. Этим определяется то, что в конструкции мира А. Платонова именно в человеке проходит граница бытия и небытия, через человека в мир входит «фикция сущего» (в образе человеческих «полутел»), и в то же время именно человек спасает этот мир от развоплощения. Такое представление о человеке проявилось в авторской характеристике образа Назара Чагатаева («Джан»), который «...не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной бесчеловечной привязанности...» [17; 13]. Привязанность Назара Чагатаева к миру принимает в повести «Джан» форму заботы о живом веществе, о телесной оболочке бытия: «Он заботился о существующем, как о священном, и был слишком скуп сердцем, чтобы не замечать того, что может служить утешением» [17; 27].
В конструкции мира Андрея Платонова тело является непременным залогом полного, победного существования всего мира, который через рождение тела обретает свое будущее. В этом контексте прослеживается связь платоновского мировидения с православной традицией во взгляде на человека, где тело есть «одежда» души, а потому без тела жизнь души неполная. В работах, посвященных платоновской поэтике, попытки определить категорию плоти доходили до известной абсолютизации ее материальных признаков, переносимых на метафизические явления (например, в работах ЛВ.Карасева), само же онтологическое свойство тела, как феномена воплощения, оставалось без внимания. Это свойство тела заложено уже в самой конструкции платоновского мира, в идее софийности, воплощенной в образе матери. Уникальность этого платоновского образа, как уже указывалось выше, состоит в том, что, рождая ребенка в мир, мать не только «собирает ему тело» из запасов своей плоти, но и передает будущему человеку его главное назначение, его смысл жизни, соотнесенный со вселенским смыслом. Этим обусловлена двойственность образа матери: ее вещественность и одновременно идеальная сущность. Система платоновского мира, таким образом, строится на онтологической - не односторонней, но взаимной - связи живой тварной природы с горним миром: плоть одухотворяется у Платонова материнством, но и воплощенная в теле жизнь должна устремляться к всеобщему смыслу. Эта концепция вырастает из онтологической связи тела и души — основополагающего принципа платоновской художественной философии.
В восстановлении человеческого тела, без которого невозможно достижение всеобщего смысла существования состоит пафос повести «Джан». Онтологическая связь души и тела определила специфику платоновской поэтики вообще и в повести «Джан», в частности. В платоноведении уже имеется опыт анализа этой повести в свете библейских мотивов и образов, раскрывающих тему поиска земли обетованной. А вот пафос произведения, связанный с идеей восстановления души и тела не составлял доселе предмета исследования. Анализ показывает, что он реализуется в повести через иконографические мотивы: «Добрый Пастырь» и «Сошествие во ад», описывающие спасение Господом Иисусом Христом человечества.