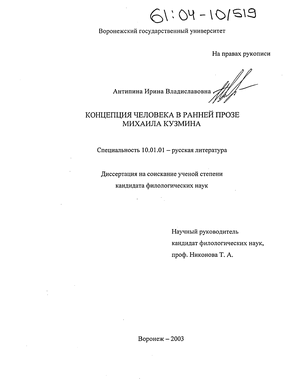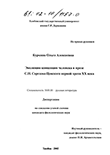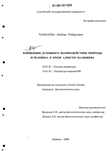Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Роман «Крылья» в контексте эстетических исканий литературы эпохи рубежа ХIХ-ХХвв 29
Глава II. Своеобразие стилизаций Михаила Кузмина 88
«Приключения Эме Лебефа» как «апробация новых эстетических идей» 88
«Подвиги Великого Александра»: идейное преодоление символизма 118
Заключение 146
Примечания 166
Список литературы 172
- Роман «Крылья» в контексте эстетических исканий литературы эпохи рубежа ХIХ-ХХвв
- «Приключения Эме Лебефа» как «апробация новых эстетических идей»
- «Подвиги Великого Александра»: идейное преодоление символизма
Введение к работе
Михаил Кузмин был одной из самых ярких фигур русской культуры эпохи рубежа ХІХ-ХХ вв. Современники знали его как поэта, прозаика, критика, композитора и музыканта. Художник так прочно связан с «серебряным веком», что современники в своих воспоминаниях не мыслят этот период без него. Он сам был творцом времени: «Восемнадцатый век под сомовским углом зрения, тридцатые годы, русское раскольничество и все то, что занимало литературные кружки: газэллы, французские баллады, акростихи и стихи на случай. И чувствуется, что все это из первых рук, что автор не следовал за модой, а сам принимал участие в ее творении», - писал Н. Гумилев [126, 154].
Приход М. Кузмина в литературу был достаточно неожиданным даже для самого художника. После первой публикации в 1905 г. в альманахе «Зеленый сборник стихов и прозы», не получившей сколько-нибудь значительных отзывов (1), в 1906 г. с появлением в журнале «Весы» «Александрийских песен» о Кузмине заговорили как об «одном из самых тонких поэтов того времени» [28, 174], а выход его романа «Крылья» принес автору настоящую популярность.
Тем не менее уже в 1920-х годах, еще при жизни писателя, началось его забвение. Художник «строгий и беззаботный», художник «с радостною легкостью кисти и веселым трудом» [1, 457], он оказался несозвучен времени социальных перемен. Тихий голос М. Кузмина, обращенный к отдельному человеку, потерялся среди событий мирового масштаба 1930-х годов. Своеобразие творчества писателя, сочетание в нем самых разных тем и мотивов также в какой-то мере способствовало его забвению: Кузмин не поддается однозначной оценке, он многолик и его невозможно подвести под одну черту. В его прозе есть и Восток, и Древняя Греция, и Рим, и Александрия, и Франция XVIII в., и русское старообрядчество, и современность. Б. Эйхенбаум писал о творчестве М. Кузмина: «Французское изящество соединяется у него с какой-то византийской замысловатостью, "прекрасная ясность" - с витиеватыми узорами быта и психологии, "не думающее о цели" искусство - с неожиданными тенденциями»
4 [341, 348]. Сыграла свою роль и сложность творчества Кузмина: знаки мировой культуры, которыми оно насыщено, легко узнававшиеся в начале века, оказались недоступны читателю 1930-х, да и сами идеи его творчества потеряли прежнюю актуальность. В связи с этим в советское время Михаил Кузмин был почти забыт. В литературоведении тех лет он упоминается лишь как теоретик «прекрасной ясности». Только в 1990-х годах, спустя столетие после появления в литературе, имя Михаила Кузмина вернулось к читателю. Первое собрание его прозаических произведений было подготовлено и издано В. Марковым в Беркли (1984-1990) - наиболее полное собрание сочинений М. Кузмина на сегодняшний день. В России же сборники его стихов и прозы выходили отдельными книгами. К первым среди них относятся книга «Михаил Кузмин. Стихи и проза» (1989), включающая несколько рассказов, стилизации, пьесу и семь критических статей Кузмина, и том «Избранных произведений» (1990), в котором проза также представлена только стилизациями. «Бытописательные» произведения, или произведения «на современные сюжеты», в том числе и роман «Крылья», появились лишь в 1994 г. в сборнике «Подземные ручьи» (2). Это было наиболее полное из российских изданий до появления трехтомника «Проза и эссеистика» (1999-2000), в котором Первый том посвящен прозе 1906-1912 гг., Второй том - прозе 1912-1915 гг., Третий - критическим работам 1900-1930 гг., причем большинство из них републикуется впервые. В этом издании наиболее полно представлена «современная» проза писателя, а не только стилизованная. Последними на сегодняшний день являются сборники «Плавающие путешествующие» (2000) и «Проза поэта» (2001) (3).
Проза относится к наименее изученной части литературного наследия М. Кузмина. «Она всегда была как бы падчерицей», - заметил В. Марков [214, 163]. Современники ценили его прежде всего как поэта, ограничиваясь лишь общими наблюдениями о прозаических произведениях художника. Серьезное внимание на них обратили только В. Брюсов и Н. Гумилев, особенно выделявшие «Приключения Эме Лебефа», Вяч. Иванов и Е. О. Зноско-Боровский, впер-
5 вые представивший творчество писателя как целое (4).
После статьи Б.Эйхенбаума «О прозе М. Кузмина» (1920), в которой предпринята попытка определить литературные истоки его произведений, имя писателя появляется в литературоведческих исследованиях только в 1972 г.: в «Блоковском сборнике» была опубликована статья Г. Шмакова «Блок и Кузмин», автор которой впервые открывает для советского читателя имя Михаила Кузмина, рассматривает его творчество в контексте эпохи, намечая отношения его с различными группами (символистами, акмеистами, «Миром искусства»), определяет литературные и философские истоки мировоззрения писателя.
Интерес к М. Кузмину возрос в последнее десятилетие, на фоне общего интереса к литературе начала XX в. Результатом этого становятся публикации произведений писателя, биографические разыскания, исследования на тему «Михаил Кузмин и эпоха», в которых рассматриваются отношения писателя с его современниками, школами, журналами. Анализ этих работ в целом свидетельствует, что М. Кузмин играл значительную роль в эпохе, и демонстрирует, насколько широк и многообразен был круг его культурных связей — от символистов до обэриутов. Исследования Н. А. Богомолова «Вячеслав Иванов и Кузмин: к истории отношений», «Михаил Кузмин осенью 1907 года», Н. А. Богомолова и Дж. Малмстада «У истоков творчества Михаила Кузмина», А. Г. Тимофеева «Михаил Кузмин и издательство "Петрополис"», «"Итальянское путешествие" М. Кузмина», «Михаил Кузмин и его окружение в 1880 — 1890-е годы», Р. Д. Тименчика «Рижский эпизод в "Поэме без героя" Анны Ахматовой», Г. А. Морева «Еще раз о Пастернаке и Кузмине", «К истории юбилея М. А. Кузмина 1925 года», О. А. Лекманова «Заметки к теме: "Мандельштам и Кузмин"», «Еще раз о Кузмине и акмеистах: Суммируя общеизвестное», Л. Селезнева «Михаил Кузмин и Владимир Маяковский», К. Харера «Кузмин и Понтер» и ряд других не только определяют место Кузмина в культурной жизни эпохи рубежа XIX-XX вв., но и позволяют заполнить «белые пятна» его биографии (5).
Многостороннее исследование жизни и творчества писателя проведено Н. А. Богомоловым в книге «Михаил Кузмин: Статьи и материалы». Она состоит из трех частей: первая представляет собой монографию о творчестве М. Кузмина, вторая посвящена исследованию ряда отдельных вопросов, связанных с биографией писателя, в третьей впервые публикуются некоторые архивные материалы с подробным комментарием. Помимо этого, в книге представлен анализ ряда «темных», «заумных» стихотворений М. Кузмина, которые дают возможность увидеть его творчество по-новому, в совершенно другом свете, чем то делалось ранее, когда оно представало исключительно как образец «прекрасной ясности».
Книга Н. А. Богомолова и Дж. Э. Малмстада «Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха» представляет собой продолжение и дополнение написанной Н. А. Богомоловым ранее. Помимо воссоздания (преимущественно на основании архивных документов) хронологической канвы жизни писателя, в ней рассматриваются также основные этапы его творчества на широком фоне мировой культуры, причем особое внимание уделяется связям с русскими традициями — старообрядчеством, XVIII веком, творчеством А. С. Пушкина, Н. Лескова, К. Леонтьева и др. Подробно прослеживается роль Кузмина в культуре его времени, его контакты как с литературными направлениями (символизмом, акмеизмом, футуризмом, ОБЭРИУ и др.), так и с отдельными художниками (В. Брюсовым, А. Блоком, А. Белым, Ф. Сологубом, Н. Гумилевым, А. Ахматовой, В. Маяковским, В. Хлебниковым, Д. Хармсом, А. Введенским, К. Сомовым, С. Судейкиным, Н. Сапуновым, Вс. Мейерхольдом и др.). Среди наиболее значимых работ о М. Кузмине необходимо отметить сборник «Studies in the Life and Works of Mixail Kuzmin» (1989), публикацию тезисов и материалов конференции, посвященной творчеству М. Кузмина и его месту в русской культуре (1990), а также статьи А.Г.Тимофеева «Семь набросков к портрету М. Кузмина», И. Карабутенко «М. Кузмин. Вариация на тему "Калиостро"», А. А. Пурина «О прекрасной ясности герметизма», Е. А. Певак «Проза и эссеи-
7 етика М. А. Кузмина», М. Л. Гаспарова «Художественный мир М. Кузмина: тезаурус формальный и тезаурус функциональный», Н. Алексеева «Прекрасная ясность в разных мирах».
Однако, несмотря на значительное в последнее время количество работ о Кузмине, исследователи уделяют основное внимание поэтическому творчеству художника, оставляя в стороне его прозу. В изучении прозы особая заслуга принадлежит Г. Шмакову, В. Маркову, А. Тимофееву, Г. Мореву. В. Марков первым из современных литературоведов попытался провести анализ прозы М. Кузмина в целом. В статье «Беседа о прозе Кузмина», ставшей вступительной к собранию сочинений писателя, он намечает основные проблемы, возникающие перед исследователем: природа стилизации и «западничества» Кузмина, пародизм его прозы, ее философские истоки, жанровая и стилевая эволюция.
Если говорить о работах, посвященных отдельным произведениям Куз-мина-прозаика, то они немногочисленны. Наибольшее внимание уделяется роману «Крылья», без которого, по мнению В. Маркова, разговор о прозе писателя вообще невозможен [214, 164]. Попытки «вписать» «Крылья» в традицию русской литературы были предприняты в статьях А. Г. Тимофеева («М. А. Куз-мин в полемике с Ф. М. Достоевским и А. П. Чеховым»), О. Ю. Сконечной («Люди лунного света в русской прозе Набокова: К вопросу о набоковском пародировании мотивов Серебряного века»), О. А. Лекманова («Фрагменты комментария к "Крыльям" Михаила Кузмина»). Исследователи проводят ряд интересных параллелей между романом М. Кузмина и произведениями Ф. Достоевского, Н. Лескова, А. Чехова, В. Набокова. Обнаруживается скрытая полемичность «Крыльев», присутствие в них различных традиций. А. Г. Тимофеев и О. А. Лекманов обращают наше внимание на образы героев, «пришедших» в произведение из литературы XIX в. — Ваню Смурова («Братья Карамазовы» Ф. Достоевского) и Сергея («Леди Макбет Мценского уезда» Н. Лескова). Их образы, с одной стороны, включают роман М. Кузмина в традицию рус-
8 ской литературы, с другой, несовпадение с трактовкой XIX в. выявляет особенности мировидения Кузмина. О. Ю. Сконечная показывает, что творчество М. Кузмина, в частности, роман «Крылья», тоже становилось предметом полемики для писателей следующего поколения: она выявляет реминисценции романа «Крылья» в произведении В. Набокова «Соглядатай».
В аналогичном ключе рассматриваются и некоторые другие произведения - роман «Тихий страж» (О. Бурмакина «О структуре романа М. Кузмина "Тихий страж"»), рассказы «Из записок Тивуртия Пенцля» (И. До-ронченков «...Красавица, как полотно Брюллова») и «Высокое искусство» (Г. Морев «Полемический контекст рассказа М. А. Кузмина "Высокое искус-ство"»). Однако эти работы не исчерпывают всех проблем реминисцентности прозы Кузмина. Большего внимания заслуживает пушкинское присутствие в прозе писателя, не исчерпана тема «М. Кузмин и Ф. М. Достоевский». Можно сказать, что выявление литературных истоков прозы М. Кузмина только начинается.
Философские истоки творчества художника намечены в уже упомянутых работах Г. Шмакова («Блок и Кузмин»), Н. А. Богомолова и Дж. Э. Малмстада («Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха»). Г. Шмаков рассматривает «Крылья» как философский роман, в котором писатель излагает «свое эстетическое и, если угодно, нравственное кредо» [336, 352]. Признавая эту попытку «не вполне удачной», он выделяет основные положения, важные для понимания взглядов М. Кузмина, отразившиеся в романе: его концепция любви, «религиозно-благоговейное отношение к миру», «восприятие чувств как посланцев божественной истины», идея самосовершенствования и служения красоте [336, 352-253]. Исследователи обнаружили близость взглядов писателя к идеям Плотина, Франциска Ассизского, Гейнзе, Гаманна, гностиков, сняв лишь очевидный слой этих перекличек и зависимостей. Однако связи и расхождения Михаила Кузмина со своими современниками, воздействие на его прозу идей В. Соловьева, духовных исканий символизма, философии имени и пр. до сих пор недостаточно изучено.
Значительный пласт исследовательской литературы посвящен изучению степени автобиографичности прозы М. Кузмина, ее соотнесенности с его поэтическим творчеством. Н. А. Богомолов («Михаил Кузмин и его ранняя проза» и др.), Г. А. Морев («Oeuvre Posthume Кузмина: Заметки к тексту»), А. В. Лавров, Р. Д. Тименчик («"Милые старые миры и грядущий век": Штрихи к портрету М. Кузмина»), Е. А. Певак («Проза и эссеистика М. А. Кузмина») и др. видят в прозе М. Кузмина отражение его личного опыта. С помощью дневников писателя они восстанавливают бытовой, культурный и психологический контексты его произведений. Такой подход позволяет объяснить возникновение в прозе Кузмина многих тем и мотивов, однако его существенным недостатком, на наш взгляд, является то, что концепция писателя выстраивается на основе документальных материалов - дневников, писем, а художественные произведения привлекаются лишь как вспомогательный материал. Такое отношение представляется совершенно необоснованным, так как она дает более глубокий и значительный материал, чем биографический комментарий. Напомним, что В. Брюсов считал М. Кузмина «истинным рассказчиком» и ставил его в один ряд с Ч. Диккенсом, Г. Флобером, Ф. Достоевским и Л. Толстым [96, 242]. Н. Гумилев в отзыве на книгу рассказов М. Кузмина отмечал, что ее автор, «помимо Гоголя и Тургенева, помимо Льва Толстого и Достоевского», ведет свое происхождение «прямо от прозы Пушкина»; в творчестве М. Кузмина царит «культ языка», что ставит его произведения на особое место в русской литературе [130, 215-216]. А. Блок назвал М. Кузмина писателем, «единственным в своем роде. До него в России таких не бывало, и не знаю, будут ли...» [59, 182].
Несмотря на признание художественной ценности и важной роли прозаического наследия в понимании эстетической концепции писателя, исследователи пока не подошли к кузминской прозе как к целостному и самостоятельному явлению русской литературы XX в. Остаются непроясненными вопросы периодизации, жанровых особенностей его прозы, практически не изучены рассказы, новеллы и стилизованные произведения.
10 Один из первых вопросов, возникающий при изучении прозы М. Кузмина
- вопрос о ее периодизации. Впервые она была проведена В. Марковым, выде
лившим в ней следующие периоды: «стилизаторский» (включающий, однако,
не только стилизации), «халтурный (первые военные годы), неизвестный
(предреволюционные годы) и экспериментальный» [214, 166-167]. Это деле
ние, по признанию самого исследователя, очень условно. Другое, также пред
ложенное им, - на «раннего» (до 1913 г.) и «позднего» М. Кузмина, однако
Марков не аргументирует его [215, 136]. Тем не менее В. Марков наметил об
щую тенденцию периодизации прозы М. Кузмина, которой придерживаются и
другие исследователи. Так, в трехтомнике «Проза и эссеистика» Е. Певак выде
ляет периоды 1906-1912 гг. и 1912-1919 гг.; схожую периодизацию предлагает
Г. Морев, отмечающий, вслед за самим писателем, «эпоху известного блеска
искусства и жизни» - 1905-1912/13 гг. - и «эпоху неудач» - с 1914 г. [233, 303].
Таким образом, исследователи сходятся в разделении прозы Михаила Кузмина
на два основных периода, рубеж между которыми приходится на 1913-1914 гг.;
при этом обычно указывают, что наиболее плодотворным был первый период.
Такое деление представляется обоснованным как с исторической, так и с литературоведческой точки зрения. 1914 г. — год начала первой мировой войны
— стал рубежом для всего человечества, и не случайно многие русские худож
ники именно 1914 г. считали подлинным началом XX века и, как следствие,
концом эпохи рубежа (6). М. Кузмин по своему мироощущению был человеком
и писателем эпохи рубежа — этим во многом объясняется его огромная попу
лярность в начале XX в. и его возвращение в русскую литературу именно на
рубеже XX-XXI вв. Произведения Кузмина оказываются близки по мировос
приятию рубежному человеку, ощущающему себя между двумя эпохами, при
надлежащим одновременно обеим и ни одной полностью. Невозможность
осознать до конца масштабность такого события, как смена веков, заставляла
людей уходить в частную жизнь, обращаться к «мелочам», находя в них оправ
дание и опору бытия отдельного человека. М. Кузмин оказывался созвучен
этому настроению, как никто другой. Его словами о европейской культуре конца XVIII в. можно дать определение всем рубежным эпохам: «На пороге XIX века, накануне полной перемены жизни, быта, чувств и общественных отношений, по всей Европе пронеслось лихорадочное, влюбленное и судорожное стремление запечатлеть, фиксировать эту улетающую жизнь, мелочи обреченного на исчезновение быта, прелесть и пустяки мирного жития, домашних комедий, мещанских идиллий, почти уже изжитых чувств и мыслей. Словно люди старались остановить колесо времени. Об этом говорят нам и комедии Гольдо-ни, и театр Гоцци, писания Ретиф де ла Бретона и английские романы, картины Лонги и иллюстрации Ходовецкого» [5, 74]. Возможно, в этих словах заключается и объяснение восторженного отношения современников к творчеству самого М. Кузмина, и причина всеобщей театрализации жизни в начале XX в. (о чем ниже), когда на пороге нового времени эпоха словно стремилась еще раз прожить и заново осмыслить всю предшествующую историю человечества. «Говорят, что в важные часы жизни пред духовным взором человека пролетает вся его жизнь; ныне пред нами пролетает вся жизнь человечества. <...> Мы действительно осязаем что-то новое; но осязаем его в старом», - пишет о своем времени Андрей Белый [51, 55].
Поэтому выделение в прозе М. Кузмина двух периодов, первый из которых совпадает с эпохой рубежа, а второй приходится уже на порубежное время, закономерно. Не ставя своей задачей исследовать особенности каждого из периодов, назовем главный, на наш взгляд, критерий их выделения — востребованность временем, причина которой кроется в рубежном мироощущении творчества М. Кузмина, о котором говорилось выше. Добавим, что прозу Кузмина отличают интенсивные идейные и художественные поиски, тематическое и стилевое многообразие, вследствие чего выделить какой-то внутренний критерий невозможно (что демонстрирует попытка периодизации В. Маркова). Поэтому мы, помня о рубежном сознании Кузмина, исходим из восприятия его прозы современниками. Этот внешний критерий представляется в данном слу-
12 чае наиболее объективным. Произведения Кузмина после 1914 г. постепенно теряют популярность, так как время и потребности общества меняются. Творчество писателя тоже меняется, но оказывается несозвучно времени, не совпадает с ним.
Наша работа посвящена прозе «рубежного» периода, когда М. Кузмин был одной из самых ярких фигур русской культуры. Прежде чем обратиться непосредственно к его произведениям, необходимо хотя бы бегло ознакомиться с эпохой, мироощущение которой в них так полно отразилось.
Центральным понятием художественной жизни начала XX в. было понятие игры, в котором воплощалась популярная идея вечно меняющейся, «на глазах теряющей очертания жизни» [201, 214]. Позднее Н. Бердяев вспоминал об эпохе рубежа: «Ничего устойчивого более не было. Исторические тела расплавились. Не только Россия, но и весь мир переходил в жидкое состояние» [52, 164-165]. Такое ощущение было связано с принципиально новой картиной мира, которую принес рубеж XIX-XX вв. как в научном, так и в художественном выражении. Вторая половина XIX в. - время изобретения кинематографа и радио, крупных открытий в физике, медицине, географии, повлиявших на все последующее развитие человечества. Изменялась картина мира, связи между явлениями оказывались совсем иными, чем представлялось ранее. Людям открылось, что мир изменчив и подвижен, и это открытие привело к полному перестраиванию мировосприятия. «Время ломалось», - пишет В. Розанов [258, 48]. Старые критерии уже не работали, новые еще не оформились, и неопределенность, возникшая из-за этого, дала неограниченную свободу для духовных исканий. Стали возможны самые невероятные идеи. «Взамен свойственного реализму XIX века отношения действительности и искусства как ее художественного отображения выдвигается иное смысловое пространство, где само искусство становится объектом собственного изображения» [328, 117].
Установка на относительность, царившая в эпохе, порождала ощущение условности происходящего, стирала границы между настоящей жизнью и при-
13 думанной, между реальностью и сном, жизнью и игрой. «...Кто скажет нам, где разница между сном и бодрствованием? Да и на много ли разнится жизнь с открытыми глазами от жизни с закрытыми?» — размышляет в одной из повестей А. Куприн (7). Мотив «жизнь-сон» часто встречается в литературе начала века (К. Бальмонт, 3. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Минский, Ф. Сологуб, В. Брюсов, М. Волошин, А. Куприн и др.). Игра воспринималась как «одна из форм сновидения», «сновидение с открытыми глазами» [106, 352] и возводилась в жизненный принцип, когда реальное сознательно подменялось вымышленным, вещи - их знаками. Игра при этом понималась как средство создания иной по отношению к реальной жизни действительности, то есть искусство.
Реальность в сознании модернистов оказывалась многоуровневой. Первым уровнем была сама жизнь, которая зачастую представлялась хаотичной, враждебной и уродливой. Единственным спасением от нее становился уход в мир иллюзии, фантазии, осуществлявшийся с помощью искусства. В противовес обманчивой действительности искусство представлялось как единственно достоверная реальность, в которой преодолевается хаос жизни. Искусство как замена действительности расценивалось как способ существования, а не просто как результат творческого воображения. Художник - тот, «кто сохраняет среди реальностей дневной обыденной жизни неиссякающую способность их преображения в таинствах игры» [106, 352]. Так возникал второй уровень реальности - реальность искусства, которая для многих модернистов становилась самой жизнью, они «пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство» [325, 863]. Таким образом, игра из чисто эстетического явления в эпоху рубежа превратилась в средство создания новой реальности, которая зачастую оказывалась для художников более настоящей, чем жизнь. Но раз игра возможна с объективно существующей действительностью, она возможна и с сотворенной - возникает третий уровень реальности, который рождается из игры уже с искусством. Символистское жизнетворчество на этом уровне иронически переосмысливается и оказывается уже не созданием нового
14 мира, а игрой с созданными мирами.
Мироощущение времени точнее всего выражалось в театре, ведь театр — это проигрывание на сцене уже существующих в искусстве произведений (написанных драм). Театрализованность была одной из определяющих характеристик эпохи рубежа XIX-XX вв. Именно эстетикой театра зачастую мотивировалось поведение многих деятелей культуры этого периода. Театр понимался как «сокровенный призыв к творчеству жизни» [50, 25]. Вячеслав Иванов отводил театру роль «прообраза» и создателя будущего, Александр Блок видел в театре точку соприкосновения и «встречи» искусства и жизни (8). Однако идея синтеза искусства и жизни воплощалась не только в театре. Художники «Мира искусства», воспринимая западную традицию ар-нуво, пытались «нести» искусство в жизнь, создавая мебель и интерьеры для целых комнат: утилитарные предметы (мебель) являлись одновременно прекрасными произведениями искусства. «Надо, чтобы красота сопровождала вас повсюду, чтобы она обнимала вас, когда вы встаете, ложитесь, работаете, одеваетесь, любите, мечтаете или обедаете. Надо сделать жизнь, которая прежде всего уродлива, - прежде всего прекрасной», - считала З.Гиппиус [117, 74]. Игровое начало вторгалось не только в искусство, но становилось основополагающим принципом построения жизни. Этот принцип был заложен уже в самой концепции символизма с его идеей жизнетворчества, то есть сотворения своей жизни поэтом согласно его представлениям о ней. «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. <...> События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались, как только и просто жизненные: они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратно: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех», — писал позднее В. Ходасевич [325, 863-864]. Жизнь дана художнику лишь для того, чтобы преобразоваться в искусство, и наоборот, искусство нужно для того, чтобы становиться жизнью. При этом подлинной жизнью считалась лишь
15 жизнь творцов, населяющих свой собственный художественный мир. Показательно, что в 1910-х гг. многие художники поддержали идею «театрализации жизни», с которой выступил Н. Евреинов (9). То есть в начале XX в. действительность воспринимается сквозь призму театра, и это делает ее условной. Поэтому художники часто не знают, «где кончается жизнь, где начинается искусство» [97, 41].
Личность и творчество М. Кузмина связаны на редкость тесно даже для эпохи рубежа. Можно говорить о существовании театра Михаила Кузмина, в котором сам художник играл главную роль. «В нем тоже было что-то от маски, но никак нельзя было разобрать, где кончалась маска и где начиналось истинное лицо», — вспоминает М. Гофман [124, 373]. Мемуаристы оставили нам немало описаний внешности М. Кузмина, в которых отразилась многоликость писателя: «Из окна бабушкиной дачи я увидел уходивших дядиных (К. А. Сомова - примеч. И. А.) гостей. Необычность одного из них меня поразила: цыганского типа, он был одет в ярко-красную шелковую косоворотку, на нем были черные бархатные штаны навыпуск и русские лакированные высокие сапоги. На руку был накинут черный суконный казакин, а на голове суконный картуз. Шел он легкой эластичной походкой. Я смотрел на него и все надеялся, что он затанцует. Моих надежд он не оправдал и ушел, не протанцевав» [222, 493]; «...удивительное, ирреальное, словно капризным карандашом художника-визионера зарисованное существо. Это мужчина небольшого роста, тоненький, хрупкий, в современном пиджаке, но с лицом не то фавна, не то молодого сатира, какими их изображают помпейские фрески» [330, 236]; «...он носил синюю поддевку и своей смуглостью, черной бородой и слишком большими глазами, подстриженный "в скобку", походил на цыгана. Потом он эту внешность изменил (и не к лучшему) — побрился и стал носить франтовские жилеты и галстуки. Его прошлое окружала странная таинственность — говорили, что он не то жил одно время в каком-то скиту, не то был сидельцем в раскольничьей лавке, но что по происхождению был полуфранцуз и много странствовал по Италии»
[141, 362]; «...Кузмин - какая затейливая жизнь, какая странная судьба! <...> Шелковые жилеты и ямщицкие поддевки, старообрядчество и еврейская кровь, Италия и Волга - все это кусочки пестрой мозаики, составляющей биографию Михаила Алексеевича Кузмина.
И внешность почти уродливая и очаровательная. Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуренные пряди редких волос - и огромные удивительные "византийские" глаза» [164, 138]; «Изысканный денди, бежевый костюм, красный галстук, прекрасные томные глаза, восточная нега в этих глазах (откуда только, уж не от прабабушки ли француженки?). Смуглый цвет лица тоже напоминал нечто восточное» [253, 169]. Это был законодатель вкусов и мод (по легенде - обладатель 365 жилетов). И ни один мемуарист не обходится без упоминания об удивительных глазах М. Кузмина и «неподражаемом своеобразии» его безголосого пения (10).
Те же, кто пытался вглядеться в духовный облик художника, говорили о нем как о человеке из каких-то иных сфер, лишь по прихоти судьбы оказавшемся их современником. «Я не верю (искренно и упорно) <...>, что вырос он в Саратове и Петербурге, - писал Э. Ф. Голлербах. - Это только приснилось ему в "здешней" жизни. Он родился в Египте, между Средиземным морем и озером Мереотис, на родине Эвклида, Оригена и Филона, в солнечной Александрии, во времена Птоломеев. Он родился сыном эллина и египтянки, и только в XVIII в. влилась в его жилы французская кровь, а в 1875 году — русская. Все это забылось в цепи превращений, но осталась вещая память подсознательной жизни» [119, 43]. О том же говорит и М. Волошин: «Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: "Скажите откровенно, сколько вам лет?", но не решаешься, боясь получить в ответ: "Две тысячи...", в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память» [105, 471], а К.Бальмонт в послании М. Кузмину по поводу десятилетия его литературной деятельности написал:
В Египте преломленная Эллада,
Садов нездешних роза и жасмин,
Персидский соловей, садов услада,
Запали вглубь внимательного взгляда —
Так в русских днях возник поэт Кузмин [179, 129].
Основой столь различного восприятия писателя было не только его творчество, очень точно совпавшее с эстетическими идеями и поисками своего времени и потому популярное, но и его жизнь, предельно театрализованная. «Жизнь Кузмина казалась мне какой-то театральной, — вспоминает Рюрик Ив-нев. — Мы сидели у него дома, встречались в "Бродячей собаке" и на литературных вечерах в Тенишевском и в других местах, гуляли в Летнем саду и в Павловске... Он был прост и обычен. И все же иногда мне рисовало воображение или предчувствие, что мы находимся в партере, а Кузмин на сцене блестяще играет роль... Кузмина. Что было за кулисами сцены, я не знал» [165, 545]. Очевидно, что мировосприятие М. Кузмина основывалось на том третьем уровне реальности, когда игра велась уже не с настоящей жизнью, а с созданной. Именно игрой в жизнетворчество можно объяснить изменения внешнего облика писателя и его внутреннюю многоликость. Поэтому у современника и возникает ощущение «театральной жизни» М. Кузмина. Исследователям до сих пор не удается восстановить до конца истинную биографию писателя. Его загадки начинаются уже с даты рождения. Долгое время она не была точно известна, так как сам М. Кузмин в разных документах называл разные годы (1872, 1875 и 1877). Только в 1975 г. К. Н. Суворова, проведя архивные исследования на родине писателя, пришла к выводу, что М. Кузмин родился в 1872 г. [288, 107-108]. Такое отношение к дате своего рождения свидетельствует о готовности М. Кузмина к игре и с собственной биографией, и со своими будущими биографами (11).
Формы проявления игрового начала в «серебряном веке» были разнообразны: «использование "игровых" (в частности, театральных и маскарадных) образов и сюжетов в качестве предмета изображения; привлечение "маски" театрального героя (например, Дон Жуана или Кармен)
как некой формы, способной наполняться многообразными, "мерцающими", смыслами; игра на контрастах и двусмысленностях; стилизация и т. д.» [36, 84]. Для наших целей особенно важно, что «театрализация жизни» в начале XX в. часто выражалась путем яркой стилизации собственного облика художниками, когда они вполне сознательно «проигрывали» известные исторические или культурологические ситуации (12). Н. Евреинов назвал начало XX столетия «веком стилизации» [144, 52]. Современный исследователь пишет: «Феномен "стилизации", подвергаясь одновременно и суровой критике, клеймящей его как "грубую подделку" или "декадентство", и восторженной похвале, принимающей его как самый "театральный" язык сценического искусства, становится одной из самых ярких особенностей тетрального искусства начала века» [328, 115]. Добавим, что не только театрального искусства. Стилизаторские тенденции захватили литературу, живопись, музыку, архитектуру, то есть все области искусства, и самую жизнь. Причин этому было несколько. А. Чжиен связывает возникновение стилизации с «антиреалистической тенденцией модернизма в целом» [328, 115]. По ее мнению, символизм возник как реакция и протест против гражданской поэзии, которая доминировала в русском стихе в 1870-е и 1880-е годы. Поэтому символисты отрицали любую попытку воспроизводить реальность в искусстве. Искусство виделось им как желанная замена реальности, и реальность начала искажаться. Но был и философский аспект этого явления. Современность обратилась к ушедшим эпохам, чтобы переосмыслить их на пороге нового времени, но из-за всеобщей театрализации пере-осмысленние стало возможным только в игре. Стилизация как нельзя лучше отвечала этому настроению, так как прием стилизации всегда подразумевает не просто воспроизведение чужого стиля, но и игру с ним.
По М. Бахтину, стилизация «предполагает, что та совокупность стилистических приемов, которую она воспроизводит, имела когда-то прямую и непосредственную осмысленность. <.. .> Чужой предметный замысел (художественно-предметный), - пишет М. Бахтин, — стилизация заставляет служить сво-
19 им целям, то есть своим новым замыслам. Стилизатор пользуется чужим словом как чужим и этим бросает легкую объектную тень на это слово». При этом, так как стилизатор «работает чужой точкой зрения», «объектная тень падает именно на самую точку зрения», а не на чужое слово, вследствие чего возникает условный смысл. «Условным может стать лишь то, что когда-то было неусловным, серьезным. Это первоначальное прямое и безусловное значение служит теперь новым целям, которые овладевают им изнутри и делают его условным» [37, 220]. «Условность» в данном случае прямо указывает на свойственный стилизации особый игровой характер: художественный смысл стилизации возникает на основе игровой дистанции между позицией стилизатора и воспроизводимым стилем.
Е. Г. Мущенко отмечает, что в переходные периоды у стилизации в литературе, помимо ее основных функций («обучающей», «самоутверждающей» и «защитной»), появляются дополнительные [238, 68]. Прежде всего, это функция поддержания традиции, обеспечивающая преемственность культуры, столь важную на переломе веков. «Стилизация, возвращая <...> к традиции разных эпох, <...> с одной стороны, проверяла их на "прочность" на данном витке национального существования. С другой — уводила от ближней традиции критического реализма, творя иллюзию пустого пространства для проигрывания ситуации "начала" искусства, "нулевой традиции". Это создавало для повествователя особую среду всевластия: он выступал и организатором диалога с читателем, и законодателем художественного действа, воплощенного в тексте, и исполнителем всех стилевых ролей» [238, 70].
Обращение к стилизации было связано и со стремлением подготовить почву для появления новых по сравнению с предшествующей традицией произведений, написанных по принципам «нового искусства», каковым ощущал себя символизм. То есть «стилизация на грани столетий была одним из способов апробации новых эстетических идей. Готовя плацдарм новому искусству,
она одновременно перепроверяла "старые запасники", отбирая то, что могло пойти в актив этого нового» [238, 75]. Кроме того, по мнению В. Ю. Троицкого, интерес к стилизации в эпоху рубежа был связан и с особым отношением к языку, характерным для начала века, к стилю речи, «потому что в нем своеобразно отражалась сама жизнь» [312, 164].
В определении стилизации можно выделить два подхода, сложившиеся еще в начале XX в. Для первого характерно понимание стилизации как точного воссоздания стилизуемой эпохи «на достоверной научной основе» [328, 114]. Этого подхода придерживался, например, Старинный театр в Петербурге. Второй подход предполагает выявление характерных черт, сущности объекта стилизации, используя «вместо большого количества деталей - один-два крупных мазка» [217, ч. 1, 109]. Это стилизация «сценических положений». «Под "стилизацией", — писал В. Мейерхольд, - я разумею не точное воспроизведение стиля данной эпохи или данного явления, как это делает фотограф в своих снимках. С понятием "стилизация" неразрывно связана идея условности, обобщения и символа. "Стилизовать" эпоху или явление значит всеми выразительными средствами выявить внутренний синтез данной эпохи или явления, воспроизвести скрытые характерные их черты, какие бывают в глубоко скрытом стиле какого-нибудь художественного произведения» [217, ч. 1, 109].
Различия в подходах обусловлены двойственностью самого понятия «стилизация». Как указывает Ю. Тынянов, прием стилизации всегда предполагает в тексте два плана: стилизующий и «сквозящий в нем» стилизуемый [314, 201]. Эта двуплановость позволяет автору, помимо отображения особенностей стилизуемого произведения или жанра, выразить и собственную позицию. В этом проявляется еще одна функция стилизации в рубежные эпохи — «обновление традиционной жанровой формы», когда «стилизация, обращаясь к устаревшему жанру, сохраняла опорные точки композиции, сюжета и фабульного повествования, но не мешала писателю выражать вполне современный пафос
его представлений о человеке и мире» [238, 74]. В зависимости от того, какой план становился главным для художника, и определялся подход к стилизации.
Объясняя понимание театральной стилизации символизмом, А. Белый писал о двух типах стилизации - символической и технической. Символическая стилизация, определяемая им как умение постановщика «слиться как с волей автора, так и с волей толпы» [42, 276], «приподымает завесу над сокровенным смыслом символов драмы» [42, 276] и является поэтому «игрой в пустоту», «уничтожением театра» [42, 277]. Но, разрушая театр, символическая стилизация, творческая по сути, выходит в жизнь и преобразует ее [42, 281]. Другой тип стилизации - техническая - более доступен для осуществления в современном театре, считает А. Белый. Это умение режиссера «дать опрятную, лишь внешним образом гармонирующую раму к образам автора» [42, 278]. Такая стилизация требует превратить личность актера в марионетку, уничтожить в нем все личностное и даже человеческое: только так техническая стилизация способна выявить сокровенный смысл символистской драмы. Маска способствует символической обобщенности, «максимализации» образа. Актеры на сцене должны превратиться в безличные типы, выражающие символический смысл [42, 281]. В пределах технической стилизации А. Белый требует от театра «картонных исполнителей», потому что «куклы безобидны, безотносительны к замыслу автора; люди же внесут непременно превратное отношение», которое «губит» символические драмы [42, 283]. Показательно в этой связи название одного из рассказов М. Кузмина 1907 г. - «Картонный домик».
В своей работе мы пользуемся определением, данным понятию «стилизация» В. Ю. Троицким: «стилизация - это сознательное, последовательное и целенаправленное проведение художником характерных особенностей <...> литературного стиля, свойственного писателю какого-то течения, занимающему определенную общественную и эстетическую позицию» [312, 169].
В распространении стилизации в русской культуре начала XX в. сущест-
венную роль сыграли художники «Мира искусства» (13). Для многих членов этого объединения средством переосмысления реальности были именно театр или принцип театрализации жизни. На их полотнах сюжеты комедии del arte, ее герои, маскарады, праздники, народные гулянья, карусели воплощали собой представление о театральности мира и человеческой жизни.
Творчество «мирискусников» во многом способствовало возникновению в русском искусстве серьезного внимания к стилю как таковому, что является необходимым условием появления стилизации. По словам К. Л. Рудницкого, пафос деятельности этих мастеров заключался в увлеченном раскрытии красоты искусства минувших времен через стиль [261, 13-31]. Некоторые исследователи (Г. Шмаков, Е. Ермилова, А. Чжиен) считают, что именно «мирискусники» наиболее значительно повлияли на творчество М. Кузмина и на формирование его эстетических взглядов: «...непрямой взгляд на мир позднее приведет Кузмина к тому, что предметы реального мира и взаимоотношения их будут постоянно рассматриваться Кузминым как бы сквозь культурно-историческое средостение, через фильтр искусства» [336, 350].
Михаила Кузмина в литературатуроведении традиционно принято считать «мастером стилизации». Эта характеристика, данная Б. Эйхенбаумом в 1920 г., прочно закрепилась за писателем на все последующие десятилетия и во многом определила судьбу его прозы. Стилизатором М. Кузмина называли и современники (Р. Иванов-Разумник, А. Измайлов, Н. Абрамович, М. Гофман и др.), и литературоведы второй половины XX в. (Г. Шмаков, А. Лавров, Р. Ти-менчик, А. Чжиен) (14). Впервые вопрос о природе кузминской стилизации был поставлен В. Марковым. Указывая, что обычно стилизации М. Кузмина понимают «как более или менее точное воспроизведение с оттенком "эстетского" любования» [214, 165], ученый сближает их с творчеством художников * «Мира искусства» и ставит под сомнение само определение М. Кузмина как стилизатора. Он считает, что «заметные примеры стилизации» можно найти
только в ранней прозе М. Кузмина (это «Приключения Эме Лебефа», «Подвиги Великого Александра» и «Путешествие сэра Джона Фирфакса»); вопрос о стилизациях М. Кузмина после 1914 г. является спорным. Во всяком случае, «количество "нестилизованных" романов, повестей и рассказов (то есть на современные темы) значительно больше» [215, 136]. С В.Марковым соглашается П. Дмитриев, считающий определение М. Кузмина как стилизатора «несправедливым» [138, 320].
Подтверждение этой точки зрения мы находим и у современников писателя, которые высоко ценили стиль писателя, а не стилизации: «Но то, что было действительно ценно у Кузмина, — это то, что он создал свой собственный (курсив наш. - И. А.) стиль, очень искусно воскрешая архаический и наивный язык сантиментальных мадригалов и старинной любовной лирики» [141, 363]; «Стиль. Изысканный, насыщенный, но опрозраченный. Есть культурная бессознательность в этом стиле. Он не сделан, не создан. Но он очень обработан, отшлифован. <.. .> Это органический сплав исконно славянского с исконно латинским» [105, 473]; «Начитанность Кузмина в русской старине не заронила ни малейшего сомнения в незыблемости русской книжной речи: Карамзин и Пушкин. Следуя классическим образцам, он добирался до искуснейшего литераторства: говорить ни о чем. У Кузмина страницы, написанные просто для словесного складу и очень стройно, точь-в-точь как у Марлинского, его великосветские кавалеры, подпрыгивая под Вестриса, говорят с дамами "средь шумного бала", или как дети в игре разговаривают друг с другом "по лицам"» [257, 122]. То есть говорить о всей прозе Кузмина как о «стилизованной» невозможно. Более того, в своей работе мы показываем, что даже те его произведения, которые традиционно считаются стилизациями, являются ими лишь на уровне формы.
Актуальность диссертации определена тем, что она представляет собой исследование прозы М. Кузмина как целостного явления, законченной художественной системы, в которой переплетаются различные тенденции литератур-
ного процесса и разрабатываются ведущие художественные идеи времени. Диссертация посвящена основополагающей проблеме литературного «антропологического ренессанса» - проблеме человека в ранней прозе М. Кузмина (до 1914 г.).
Предметом анализа стали наиболее значительные прозаические произведения М. Кузмина до 1914 г. - романы «Крылья» (1905), «Приключения Эме Лебефа» (1907) и «Подвиги Великого Александра» (1909). В них нашли выражение темы, идеи и принципы, определяющие философско-эстетическую концепцию писателя и важные для эпохи рубежа ХІХ-ХХ вв. в целом.
Произведения, выбранные нами для анализа, наиболее ярко представляют две линии, традиционно выделяемые в прозе М. Кузмина. Первая, к которой относят сочинения «на современные сюжеты», ведет свое начало от «Крыльев», вторая, включающая стилизации, - от «Приключений Эме Лебефа». Эти романы, как мы показываем в диссертации, возникали на пересечении самых разнообразных идейно-эстетических воздействий. Писатель чутко отзывался на все веяния и тенденции современности и в то же время учитывал опыт европейской культуры.
При обозначении круга исследуемых произведений следует прояснить вопрос об их жанровой принадлежности. Большинство современных литературоведов (Н. А. Богомолов, Г. А. Морев, А. Г. Тимофеев и др.), исходя из небольшого - «нероманного» - объема произведений М. Кузмина, определяют их как повести, в то время как сам писатель называл свои произведения романами. В. Ф. Марков, объясняя это расхождение, предполагает, что для М. Кузмина вообще мало значило традиционное жанровое деление прозы [214, 167]. Однако, на наш взгляд, определение М. Кузминым «Крыльев», «Приключений Эме Лебефа» и «Подвигов Великого Александра» как романов объясняется не ошибкой или небрежностью автора. Проблематика названных произведений, -самоопределение человека, поиск им своего места в мире - является сугубо ро-
манной. Один из основных принципов организации романного сюжета — преодоление героем границ — как внешних (пространственных), так и внутренних: «Способность переходить границы — характерная особенность романного героя» [265, 48]. В диссертации мы показываем, что весь жизненный путь героев исследуемых произведений - это «попытка преодолеть установленные судьбой границы» [265, 49]. Романный мир выступает как «отражение, продолжение мира реального, и как его преодоление, отрицание его границ» [266, 245]; в создаваемой картине мира «художник дает и свой ответ реальности, возражает ей, реализуя свои ценности» [265, 43-44]. Эти жанровые особенности мы обнаруживаем в названных произведениях М. Кузмина, поэтому их определение как романов представляется правомерным.
«Крылья» являются романом, в котором концентрируются идеи всего последующего творчества художника, поэтому без анализа этого произведения невозможно дальнейшее исследование прозы писателя. Романы «Приключения Эме Лебефа» и «Подвиги Великого Александра», если не считать рецензий современников писателя, рассматриваются впервые. Именно благодаря этим произведениям за М. Кузминым закрепилась слава «стилизатора», отодвинувшая на второй план его «бытописательную» прозу.
Цель исследования: рассмотреть истоки концепции человека в ранней прозе М. Кузмина, выявить идейно-художественное своеобразие его произведений. Поставленной целью определяются задачи исследования: обосновать принципы периодизации прозаического творчества писателя, рассмотреть его ранние романы на фоне традиций русской литературы XIX-XX вв., обозначив своеобразие художественных поисков автора.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нем ранняя проза М. Кузмина впервые представлена как целостная система и длящийся процесс; впервые прослеживается формирование концепции человека в прозе писателя, выявляются особенности стилизации как смыслооб-
разующего приема.
Методология исследования включает элементы системно-целостного, историко-биографического, мифопоэтического методов, интертекстуального и мотивного анализа. В каждом отдельном разделе работы исследуемый материал обусловливает преобладание того или иного принципа.
Теоретической основой диссертационного исследования стали работы М. М. Бахтина, Ю. Н. Тынянова, Е. Г. Мущенко, Н. Т. Рымаря, В. Ю. Троицкого, Н. В. Барковской и др.; в оформлении концепции исследования предпринято обращение к наследию крупнейших философов и критиков рубежа XIX-XX вв. (В. Соловьева, Д. Мережковского, В. Брюсова, Вяч. Иванова, А. Блока, А. Белого, Н. Гумилева, П. Флоренского, А. Лосева, С. Булгакова и др.).
На защиту выносятся следующие положения:
В ранней прозе М. Кузмина оформляется концепция человека как смыслообразующая составляющая поэтического мира художника. В первом романе («Крылья») обнаруживается синтез различных литературных традиций XIX и XX вв. - от элементов «воспитательного романа» и автобиографии, реминисценций произведений Ф. Достоевского («Братья Карамазовы») и А. Чехова («Человек в футляре») до аллегоризма концепции символистов. В этом романе формируются основные параметры художественного мира М. Кузмина, центром которого является непрерывный духовный рост человека, опредмеченный движением в пространстве.
В стилизации французского авантюрного романа XVIII в. «Приключения Эме Лебефа» М. Кузмин создает картину мира, в котором герой только и может обрести себя, ибо он так же бесконечен и многообразен, как и мир вокруг него. Стилизация выступает как формо- и смыслообразующее начало, носящее характер игры с читателем. «Воскрешая» стиль прошлых эпох на уровне формы, в содержательном плане М. Кузмин размышляет над проблемами эпо-
27 хи рубежа XIX-XX вв.
3. В романе «Подвиги Великого Александра», стилизующем литератур
ную традицию «Александрии», раскрывается не снимаемое для автора проти
востояние мира и человека. Гармония человека как с миром, так и с самим со
бой трагически недостижима.
4. Принципиальной новизной концепции человека в ранней прозе
М. Кузмина является пересмотр традиционной системы ценностей. То, что в
«Крыльях» выглядело частным случаем внеморального и асоциального поиска
героем своего места в мире, в стилизациях авантюрного романа и «Александ
рии» складывается в систему этических и эстетических отношений, где провоз
глашается право человека, его внутреннего мира на независимость от внешней
среды.
Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием комплекса современных литературоведческих методов, а также внутренней непротиворечивостью результатов исследования.
Практическая значимость диссертации определяется возможностью использования результатов исследования в дальнейшем изучении творчества М. Кузмина, в вузовском курсе по истории русской литературы XX в., а также в спецкурсах и семинарах по литературе эпохи рубежа XIX-XX вв.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре русской литературы XX века Воронежского государственного университета. Ее основные положения отражены в 5 публикациях, излагались в докладах на научных конференциях: научных сессиях ВГУ (Воронеж, 2001, 2002), международной научной конференции, посвященной 60-летию филологического факультета Воронежского государственного университета (Воронеж, 2001), XIV Пуришев-ских чтениях «Всемирная литература в контексте культуры» (Москва, 2002), межвузовской научной конференции «Национально-государственное и обще-
человеческое в русской и западной литературах XIX-XX веков (к проблеме взаимодействия "своего" и "чужого")» (Воронеж, 2002).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, примечаний, списка использованной литературы, включающего 359 названий.
Роман «Крылья» в контексте эстетических исканий литературы эпохи рубежа ХIХ-ХХвв
Эпоха рубежа как переходный период заставляла людей переосмысливать историю и с особой остротой ставила вопрос о будущем: каким окажется для человечества новое столетие и каким станет сам человек в этом столетии? Поэтому в конце XIX - начале XX вв. становятся особенно интенсивными духовные искания, появляются новые философские концепции, принципиально отличающиеся от предшествовавших. Это появление, с одной стороны, свидетельствовало о зарождении сознания нового времени, с другой, формировало это сознание.
Русская литература активно реагировала на происходившее в духовной жизни общества. Эпоха рубежа XIX-XX вв. характеризуется появлением множества новых направлений, создававших качественно новую литературу. Идея обновления сферы искусства так или иначе присутствует в творчестве всех художников эпохи рубежа, но наиболее яркое свое воплощение она получила в символизме. Впервые об этом направлении было заявлено в 1892 г. в лекции Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы».
По мысли его теоретиков - Д. Мережковского, В. Брюсова - символизм должен был принципиально отличаться от искусства всех предшествовавших эпох. Это было новое учение о человеке и жизни, «радикальная попытка построения нового мира», основанная на стремлении «охватить в едином художественном воззрении обе давно расторгнутые половины мира, мир земной и мир божественный» [317, 221]. «Наш путь — в соединении земли с небом, жизни с религией, долга с творчеством», - писал Андрей Белый [43, 284].
Обосновывая новое течение и объясняя закономерность его появления, символисты вписывали его в контекст русской (Д. Мережковский) и мировой (В. Брюсов) культуры, однако вместе с тем подчеркивали, что новое искусство качественно отличается от всех предшествующих. Являясь частью литературного процесса, символизм вместе с тем был новым способом познания, способом проникновения в тайну бытия, «ключом», «растворяющим человечеству двери ... к вечной свободе» [95, 87].
Символизм основывался на учении Владимира Соловьева о необходимости преображения человека и существующей действительности по законам Красоты. Основную причину несовершенства современного мира В. Соловьев видел в его разделенности на божественный и земной. Эта разделенность наследуется и человеком и порождает двоемирие, которое выражается в вечном противостоянии Духа и плоти. Духовное начало свидетельствует о божественном происхождении человека и дает ему надежду на бессмертие, но телесное -«греховное» - препятствует этому. Поэтому, по В. Соловьеву, возникает необходимость одухотворения плоти для преодоления двоемирия и воссоздания целостности человека и всего мира. Одухотворение плоти даст человеку возможность обретения не только духовного, но и телесного бессмертия. То есть в философии Соловьева признается несовершенство мира и необходимость этот мир менять. Субъектом преображения должен стать человек, но для этого необходимо сначала изменить его самого. Главной идеей философии Соловьева является идея восстановления богочеловеческого единства, создания «абсолютной личности», способной вместить в себя «абсолютное содержание», «которое на религиозном языке называется вечною жизнью, или царствием Божи-им» [286, 122]. В процессе творческой эволюции человек должен достичь духовного уровня, соизмеримого с уровнем божественной сферы, и перевоплотиться в свободного со-творца Богу. В этом и заключается полная реализация его со-образности и подобия Богу. При этом человек свободно на основе собственных знаний, разума и веры придет к осознанию, что он сотворен именно для того, чтобы реализовать последнюю идею космического творения — окончательно организовать действительность в соответствии с Божественным замыс 31 лом. «Абсолютную личность» Соловьев называет также «телесной духовностью», «истинным человеком» или «новым человеком». Такая личность, сохраняя человеческую природу, будет готова к познанию и преображению мира на новых основаниях - по законам Красоты, так как красота есть «преображение материи чрез воплощение в ней другого, сверхматериального начала» [280, 38]. Однако «истинного человека» в современном мире не существует, потому что он разделен на «мужскую и женскую индивидуальность». Чтобы создать «абсолютную личность», необходимо объединить эти индивидуальности, так как «бессмертным может быть только целый человек» [286, 132]. Способом объединения являются искусство и любовь. Творчество понимается философом как активная созидательная деятельность людей, неразрывно связанная с божественной сферой и ориентированная на воплощение Красоты. Творчество имеет три степени реализации: техническое художество (материальная степень), изящное художество (формальная степень) и мистику (абсолютная степень), из которых высшей является мистика - «земное подобие творчества божественного», поскольку в ней «упраздняется противоречие между идеальным и чувственным, между духом и вещью, ... и божество проявляется как начало совершенного единства...» [284, 325]. То есть, по Соловьеву, дело искусства заключается не в украшении действительности «приятными вымыслами», как говорилось в старых эстетиках, а в том, чтобы воплощать «в форме ощутительной красоты» высший смысл жизни. Поэтому художник становится в системе Соловьева человеком, продолжающим божественную работу по совершенствованию мира - теургом. Красота есть свет Вечной Истины, поэтому теург, созерцающий Красоту, открывает людям истину бытия. Для Соловьева теургия и есть искусство, воплощающее идеальное в материальной жизни, творящее эту жизнь по законам Красоты. Высшая задача искусства — «превращение физической жизни в духовную» [282, 82], а значит — в бессмертную, в такую, которая обладает способностью одухотворять материю. Сродни художнику оказывается и влюбленный, созидающий «свое женское дополнение» [286, 140]: «Задача любви состоит в том, чтобы оправдать на деле тот смысл любви, который сначала дан только в чувстве; требуется такое сочетание двух данных ограниченных существ, которое создало бы из них одну абсолютную идеальную личность.
«Приключения Эме Лебефа» как «апробация новых эстетических идей»
«Приключения Эме Лебефа» как «апробация новых эстетических идей» Идеи, высказанные в «Крыльях», обозначили основу мировосприятия Михаила Кузмина и определили все его последующее творчество. Однако «Крылья» были больше программным, чем художественным произведением. Упреки в некоторой схематичности, художественной недоработанности романа справедливы. Но в этом произведении начинающему автору было важно выразить собственную позицию, определить свое отношение к происходившему в культурной жизни страны. В следующем романе «Приключения Эме Лебефа» (1907) М. Кузмин реализует те же самые идеи в совершенно иной художественной среде. Для этого он обращается к стилизации; Напомним, что одной из специфических функций стилизации в рубежные эпохи является функция проверки новых идей: прием стилизации позволяет художнику поместить современные идеи в другую культурную эпоху и таким образом «проверить» их на художественную универсальность.
В начале XX в. в русской литературе складывалась целая стилизаторская школа (В. Брюсов, С. Ауслендер, Б. Садовской и др.). Обращение к стилизации в литературе во многом было обусловлено общей атмосферой эпохи рубежа, а также установкой символизма как части модернизма на единство культурного пространства, непрерывно обогащавшееся новыми открытиями и возможностями. Символисты исходили из представления о непрерывности литературного развития, о том, что до всякого слова всегда было какое-то чужое слово. Например, по мнению В. Брюсова, принципы классицизма, романтизма, реализма присутствуют в литературе изначально: «Можно указать романтические мотивы еще в античных литературах; реализм, как художественный принцип, существовал, конечно, и до реалистической школы и продолжает существовать поныне; символизм справедливо отмечается и у древних трагиков, и у Данте, и у Гете и т. д. Школы только выдвигали эти принципы на первое место и осмысливали их» [97, 46]. О том же говорит Ф. Сологуб: «Мы никогда не начинаем. ... Мы являемся в мир с готовым наследием. Мы - вечные продолжатели» (32). Любое литературное произведение в символизме воспринималось как фрагмент единой культуры и включалось в систему общекультурных отношений: «...всякое новое создание формы искусства представляет из себя лишь новое сопоставление, противоположение элементов, существовавших до нее», -писал Кузмин [13, 111]. Этим обусловлена культурная насыщенность произведений символизма, часто содержащих отсылки сразу к нескольким традициям мировой литературы.
Обращение к стилям прошлых эпох отражало высокий уровень культурных познаний у представителей «нового искусства». «Наше время было очень культурное и начитанное», - писал Кузмин [14, 369]. Культурная эрудиция самого М. Кузмина была уникальна даже для той эпохи, что не раз отмечали современники: «Круг его интересов и пристрастий характерен для русской культуры XX в., созданной или, лучше сказать, насажденной деятелями "Мира Искусства" и младшим поколением символистов. У Кузмина дело шло из первых рук. Он сам был среди тех, кто насаждал эту культуру. ... Нельзя назвать ни одного сколько-нибудь значительного явления европейской духовной жизни, искусства, литературы, музыки или философии, о котором он бы не имел собственного, ясного, вполне компетентного и самостоятельного мнения» [246, 177]. Сам Кузмин, определяя круг своих интересов, писал: «Я люблю в искусстве вещи или неизгладимо-жизненные, или аристократически уединенные. Не люблю морализирующего дурного вкуса, растянутых и чисто лирических. Склоняюсь к французам и итальянцам. Люблю трезвость и откровенную на-громожденность пышностей. Так, с одной стороны, я люблю итальянских новеллистов, французские комедии XVII-XVIII вв., театр современников Шекспира, Пушкина и Лескова. С другой стороны, некоторых из нем ецких романтических прозаиков (Гофмана, Ж. П. Рихтера. Платена), Musset, Merimee, Gautier, Stendhal a, d Annunzio, Уайльда и Swinburn a» [89, 72].
Однако современники считали, что этот список можно продолжить: «Основу его образованности составляло знание античности, освобожденной от всего школьного и академического, воспринятой, быть может, через Ницше — хоть Михаил Алексеевич и не любил его - и, в первую очередь, через большую немецкую философию. Книгу Эрвина Родэ "Die Phyche" Кузмин читал постоянно-чаще, чем Священное Писание, по собственным его словам.
Почти минуя средневековье, в котором его привлекали только отзвуки античного мира, вроде апокрифических повестей об Александре Македонском, интересы Кузмина обращались к итальянскому Возрождению, особенно к Флоренции кватроченто с ее замечательными новеллистами и великими художниками Боттичелли и молодым Микеланджело.
От итальянского Возрождения внимание Кузмина устремлялось к елизаветинской Англии с ее великой драматургией; далее - к Венеции XVIII века с commedia del arte, волшебными сказками Гоцци и бытовым театром Гольдони; еще далее - к XVIII веку в дореволюционной Франции, к Ватто, аббату Прево и Казотту, и, наконец, к немецкому Sturm und Drang y и эпохе Гёте» [246, 177-178]; «Много книг. Если посмотреть на корешки - подбор пестрый. Жития святых и Записки Казановы, Рильке и Рабле, Лесков и Уайльд. На столе развернутый Аристофан в подлиннике» [164, 131]; «Живой вдохновитель Кузмина Pierre Lougs, а соблазн - французские новеллы XVIII века. Любимые писатели: Henry Regnier и Анатоль Франс. От "Песен Билитис" - Александрийские песни; от новелл - "Приключения Эме Лебёфа" и "Калиостро"; от Анатоля Франса -"Путешествие сэра Джона Фирфакса", "Кушетка тети Сони", "Решение Анны Мейер". Из русских: Мельников-Печерский и Лесков - Прологи и Апокрифы, откуда вышли Кузминские действа - "О Алексее, человеке Божием", "О Евдокии из Гелиополя"» [257, 123]. Эрудированность М. Кузмина признают и современные исследователи: «Круг чтения Кузмина был всегда огромным по размаху, а в наше время постепенного исчезновения гуманистических знаний кажется невероятным. Единственные его соперники среди современников-поэтов - Вячеслав Иванов и Брюсов. Но второй уступает Кузмину в утонченности и свободе обращения с материалом, а первый несколько ограничен сферой "высокого", в то время как Кузмин поглощал неимоверное количество "чтива" вроде третьесортных французских романов, а в своей другой профессии — музыке -тоже не гнушался низкими жанрами: песенками, оперетками» [215, 162].
«Подвиги Великого Александра»: идейное преодоление символизма
Роман М. Кузмина в контексте традиции К теме судьбы и проблеме ее осознания человеком Михаил Кузмин обращался на протяжении всей жизни и в стихах, и в прозе. Судьба - центральная тема его творчества. Писателя интересовала не простая зависимость человека от судьбы, а проблема осознанного отношения к ней. По-новому эта проблема рассматривается в романе «Подвиги Великого Александра». Этот роман, напечатанный в 1909 г. в первых двух номерах журнала «Весы», является стилизацией «Александрии» - повествования о жизни и подвигах Александра Македонского (356-323 гг. до н.э.), широко распространенного в греческой и средневековой литературе.
В «Александриях» выделяют историческую и литературную традиции изображения легендарного царя. Для первой, к которой относят сочинения античных писателей (Флавия Арриана, Плутарха, Квинта Курция Руфа, Диодора, Юстина), характерно стремление к объективности и достоверности описания жизни Александра Македонского. Вершиной этой традиции является труд римского историка Флавия Арриана «Поход Александра», автор которого стремится к максимальной достоверности изложения и поэтому подвергает серьезному сомнению все свидетельства о жизни Александра, стараясь найти наиболее правдивые и развенчивая различные легенды, окружавшие имя царя. Также не придает значения легендам и Диодор, дающий в своей «Исторической библиотеке» краткое описание жизни и походов Александра Македонского. Напротив, в «Жизнеописании», выполненном Плутархом, исторические события отходят на второй план, так как главной своей задачей автор считает раскрытие характера Александра: «Мы пишем не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов» [247, 395]. Поэтому в произведении Плутарха, помимо исторических фактов, можно найти и немало легенд. Однако Плутарх, как и Арриан, стремится быть достоверным и потому часто подвергает легенды сомнению или пытается найти им правдоподобное объяснение. Так, появление змея в покоях Олимпиады Плутарх объясняет приверженностью царицы религиозному культу Диониса, а не посещением Зевса. Однако, несмотря на различия произведений античных авторов, все они опираются на исторические факты, не искажая их. Легенды и предания, не подтверждаемые историческими данными, занимают в них незначительное место.
Литературная традиция повествования об Александре Македонском уделяет вымыслу гораздо больше внимания. Исторические события подвергаются изменениям и искажениям в зависимости от места, времени возникновения и задач каждого конкретного произведения. К этой традиции относят восточные поэмы об Искандере, сказки, «Александрии» средневековой Европы и Руси.
Родоначальником литературной традиции принято считать Каллисфена, современника Александра и племяника Аристотеля, которому приписывается «Роман об Александре» (или «Деяния Александра»). На самом деле это произведение, очевидно, появилось позднее, во П-Ш вв. н.э., поэтому в литературоведении автора «Деяний Александра» принято называть Псевдо-Каллисфеном. Оригинал этого романа не сохранился, но он положил начало множеству произведений, в центре которых - жизнь и странствия Александра Македонского.
В средневековой Европе повествование о Македонском превращается в рыцарский роман. Походы царя, вызванные конфликтом Персии и Македонии, сближаются с феодальными войнами, подвиги совершаются во имя дамы сердца. Например, в поэме Рудольфа фон Эмса рыцарь Александр служит прекрасной царице амазонок Талистрии, а военное государство амазонок превращается в «сад любви». На Востоке образ Александра Македонского тоже переосмысливается. Меняется огласовка имени - Искандер, из македонского царя Александр превращается в персидского шаха.
Свою ориентированность на литературную традицию Кузмин указывает в самом начале повествования: «Я сознаю всю трудность писать об этом после ряда имен, начиная от приснопамятного Каллисфена, Юлия Валерия, Викентия из Бовэ, Гуалтерия де Кастильоне, вплоть до немца Лампрехта, Александра Парижского, Петра де С. Клу, Рудольфа Эмского, превосходного Ульриха фон Ешинбаха и непревзойденного Фирдуси» [8, 489], тем самым как бы вписывая себя в традицию (38). Хотя в романе М Кузмина можно найти также много общего с произведениями античных историков, в частности, Плутарха, М. Кузмин не называет в числе своих предшественников авторов исторической традиции, совершенно четко ориентируя читателя не на историческую хронику, а на роман приключений.
Если сравнить роман М. Кузмина с «Александриями» тех авторов, которых он считает своими предшественниками, то наибольшее фабульное сходство обнаруживается с романом Псевдо-Каллисфена, в котором есть практически все эпизоды жизни полководца, на которых останавливается Кузмин: бегство Нектанеба из Египта, рассказ о рождении Александра, укрощение Букефала, путешествие в Страну мрака, встреча с индийскими мудрецами, попытка подняться в небо за божественным знанием и спуститься под воду, встреча с амазонками и царицей Кандакией (39).
Как и у Псевдо-Каллисфена, в романе Кузмина мифы становятся частью биографии полководца, «правдиво» рассказанной автором. Например, такой эпизод, как встреча царя с амазонками у него является таким же реальным событием, как и сражение с Дарием. «Вскоре пришли они к большой реке, где жили воинственные девы амазонки. Царь, давно слыша о их доблестях, послал Птоломея просить у них воинский отряд и узнать их обычаи. Через некоторое время с вернувшимся Птоломеем пришла сотня высоких мужеподобных женщин, с выжженными правыми грудями, короткими волосами, в мужской обуви и вооруженных пиками, стрелами и пращами. ... Царь много еще расспрашивал, немало дивясь их ответам, и, отослав подарки в страну, двинулся дальше» [8, 517].