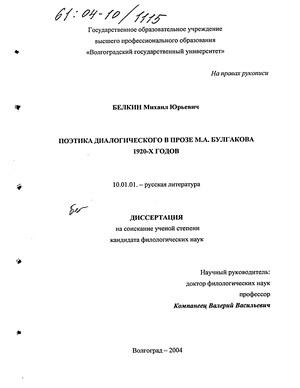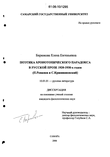Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. «Герой как автор» - структурообразующий принцип «малой» прозы М.А. Булгакова 26
1. Диалогизация образа героя (рассказ «Необыкновенные приключения доктора»). 26
2. Действительность «сотворенная - творимая» как аспект диалогизации (рассказ «Красная корона»). 36
3. Проблема творящего самосознания в «Записках на манжетах». 40
4.Жанровый аспект диалогизации как эстетический принцип (цикл рассказов «Записки юного врача»). 48
ГЛАВА 2. «Устойчиво-миражная» ситуация как фактор художественной системы М.А. Булгакова 72
1. Проблема взаимодействия «части» и «целого» в рассказе «Китайская история». 72
2. Проблема «бытия - небытия» и ее воплощение в рассказах М.А. Булгакова 81
3. Двуплановость структуры в повести «Дьяволиада». 87
4. Диалог «случайного» и «закономерного» в повести «Роковые яйца». 101
5. Диалогическое и монологическое в смысловой структуре повести «Собачье сердце». 111
ГЛАВА 3. Диалогический принцип композиции как отражение целостности мира (роман «Белая Гвардия») 126
1. Фабульно-сюжетная структура романа в свете диалогичности . 126
2. Диалогическая структура повествования. 141
3. Диалогическая целостность как фактор композиционной репродукции. 162
Заключение 172
Список использованной литературы 183
- Диалогизация образа героя (рассказ «Необыкновенные приключения доктора»).
- Проблема творящего самосознания в «Записках на манжетах».
- Проблема взаимодействия «части» и «целого» в рассказе «Китайская история».
- Фабульно-сюжетная структура романа в свете диалогичности
Введение к работе
Развитие отечественной литературы в XX веке характеризуется своими очевидными особенностями. Важнейшей из них, как отмечает СИ. Кормилов, является многообразие творческих методов1. На фоне усреднения культуры слова в официальной советской литературе, «шаблонизации», «конвейерности» произведений (в «соцреализме») выделяются яркие индивидуальности, творчество которых вошло в золотой фонд мировой словесности. В наибольшей степени это характерно для первой половины столетия, напрямую связанной и с «серебряным веком», и с веком XIX. К числу несомненных классиков принадлежит Михаил Афанасьевич Булгаков.
М.А. Булгаков является одним из немногих писателей в русской литературе, кому удалось органично и зримо объединить в своем творчестве традиции XIX века и новаторство XX столетия, диалогически связать их. Этот синтез позволяет отнести автора «Белой гвардии» и «Мастера и Маргариты» к художникам «культурологического» склада, чье творческое мышление рождено «стыком» двух глобальных культурных эпох: относительно «гармоничного» XIX столетия и «трагического» XX века. М. Золотоносов справедливо отмечает: «Главные черты той культурной ситуации, в которой пришлось жить Булгакову, - пресечение традиции, грехопадение культуры словесного творчества, гражданская война в литературе»2. Данная ситуация и обусловила художническое видение писателя и способы решения им нравственно-философских проблем.
Булгаковское мышление пронизано диалогическими интенциями, что и предопределило его умение «преломить богатейший ... потенциал классического искусства через свое миропонимание»3. Диалогические интенции возникали как отражение духа эпохи, который проступал в стремлении «осознать и преодолеть антагонистические дуальности ... цивилизации»4. Этим и вызвано обращение к проблематике и поэтике диалогического в творчестве писателя 1920-х гг., в данном ракурсе до сих пор малоисследованного.
Постановка проблемы диалогического в творчестве М.А. Булгакова далеко не случайна. Его произведения создавались в 1920-30-е гг., в пору формиро-
вания «философии диалога», среди представителей которой можно выделить
М. Бубера, Ф. Розенцвейга, О. Розенштока-Хюсси, Ф. Эбнера и, конечно, М.М. Бахтина. «Исторической предпосылкой возникновения философии диалога обычно называется кризис европейской культуры и, в частности, академической философии. Несомненно, диалогическое мышление стало своего рода вы-
(0 ражением духовных поисков личности», и при этом оно связано с «социальной
и духовной трансформацией архетипа дуальности (бинарности, дихотомично-сти)»5. Важным представляется то, что отход от догм и абстракций заключался в «критике притязаний на исчерпывающее знание о мире»6. Кроме того, очевиден исторический контекст возникновения философии диалога в России как противопоставленность «авторитарному слову». «Диалогический способ искания истины противопоставлялся официальному монологизму, претендующему
У на обладание готовой истиной»,- писал М.М. Бахтин7. В свою очередь совре-
менная исследовательница В.В. Заманская отмечает, что «диалогическая доминанта художественного сознания XX века возникает как реакция на кризисное экзистенциальное сознание и отраженные им деструктивные процессы» . Мир же Булгакова, как представляется, находится в сфере взаимодействия экзистенциального и диалогического начал, что во многом определяет особенности проблематики и поэтики его произведений.
'<* А. Вулис еще в 1966 г. в послесловии к роману «Мастер и Маргарита»
первым отметил «удивительное совпадение литературной теории и литературной практики» Бахтина и Булгакова9 (речь идет о мениппее). По мнению А.А. Кораблева, это совпадение очевидно как раз в аспекте преодоления разного рода оппозиций: «Разделение человеческого существования между двумя мирами - миром «житейского волнения» и миром «звуков сладких и молитв» - молодой Бахтин, как и молодой Булгаков, воспринял как исходное первобытное состоя-ние духа, которое может и должно быть приведено в новое качество: механическое соединение одного с другим должно стать органически целостным, эти
миры должны стать диалогически обращенными друг к другу, ответственными друг за друга»10.
,% Говоря о диалогическом, следует отметить, что его основой является «от-
крытость» творческого сознания, где «происходит сочетание нескольких индивидуальных воль, совершается принципиальный выход за пределы одной воли»11. Мысль М.М. Бахтина развивает М.М. Гиршман, полагая, что «общим истоком диалогического мышления является утверждение первоначального един-
(f ства бытия - единства, принципиально не сводимого ни к какой единственной
сущности, нигде, ни в ком и ни в чем натурально не воплотимого полностью»12. Диалог представляет собой некий процесс, становление. А.П. Григорян отмечал, что «диалог в его структурном понимании художественно преодолевает собственную одномоментность, сообщает содержательную длительность моменту и художественно фиксирует эту длительность»13. Однако диалог состоит не только в преодолении «одномоментности». Он включает в себя и
, «идею разрыва»14, т.е. оппозиционность. Булгаковский мир и строится на диа-
логе оппозиций, пересекающихся, взаимодополняющих друг друга. Объектом изображения в таком случае становится человек творящий, так как диалог происходит «в настоящем творческого процесса»15.
Художественный мир М.А. Булгакова выступает как незавершенная, развивающаяся, способная к изменениям реальность. Истоки подобного «письма» лежат еще в газетных фельетонах писателя начала 1920-х гг. По наблюдениям
<4 исследователей, уже в них просматривается «полемическое отношение» как к
чужому голосу, так и к своему слову16. Такой подход к изображаемому позволяет автору двойственно освещать явления, отыскивая истину через диалог с бытием.
Булгаков стремится воплотить в своей прозе «абсолютную смелость философского вымысла и воображения»17. Типичная для его произведений ситуация - нарушение привычного хода вещей (в разных вариациях: от экстремаль-ной в психологическом плане до авантюрной и фантастической) - дает возможность уйти от довления монолога, где обнаруживается истина в готовом виде, и
6 говорить о мире становящемся, о человеке, выходящем за пределы своего «я». В произведениях писателя отчетливо проступает знаковая черта литературного творчества XX века, отмечаемая исследователями: «... потребность в освещении своих персонажей и изображаемых событий с различных точек зрения, в их
1 о
проверке на прочность и испытании в несходной, меняющейся ситуации» . Создание художественной реальности через столкновение противоположных позиций, включение персонажа в непривычную для него ситуацию - эти принципы выявляются практически во всех значительных творениях Булгакова.
В истинно диалогическом мире неизбежно, как сказано, преодоление оппозиции и формирование амбивалентности, отражающей зыбкость мироздания. Следовательно, диалогическая картина мира - вечно становящаяся и никогда не завершающаяся. Мир не может быть устойчивым, находясь в творении самого себя; он одновременно «создается» и «распадается» (то же происходит и с героями), и все это отражается в структуре произведения. Диалогический мир имеет в праоснове «карнавальное» начало, отсюда происходит «перевертывание значений, отрицание смысла накопленного человечеством опыта ... наиболее ненормальное есть сама нормальность»19. Следствием этого становится и «перевертывание» оппозиции, когда ее члены меняются местами и невозможно дать ответ на вопрос: что же есть подлинное, а что - мнимое.
С другой стороны, именно диалог позволяет вступить в контакт с миром, бытием, «оказывается вообще единственным средством узнавания бытия...» . По словам М. Бубера, «особая сущность человека ... прямо познается лишь в живом отношении ... "человек с человеком"»21. И здесь проявляется важнейшее свойство диалога, заключающееся в нравственной направленности взаимоотношений, в принципе «участного мышления», «личного долженствования» (Бахтин). Определяющим положением для диалогической модели художественного мира становится наличие таких позиций сознания, для которых характерен «факт "не-алиби" в бытии, что означает невозможность уклониться от от-ветственности за свои деяния, от своего единственного места в бытии» . В диалогической системе «обе стороны оказываются ... в отношениях одновре-
менно дистанции и контакта между собой ...единство отношений контакта и дистанции и создает диалог...»23. Диалог в этом случае воплощается на уровне самосознания. Мир самосознания, который творится в произведении на наших глазах, является противовесом миру абсолютного небытия, в связи с чем возникает принципиальная, универсальная для булгаковской поэтики проблема бытия - небытия24, интерпретируемая как взаимосвязь и взаимозависимость концептов подлинного - мнимого. Данная амбивалентная оппозиция, носящая по своей сути экзистенциальный характер, пронизывает все творчество писателя. «Пристальное внимание... к трагической судьбе личности в мире привело многих исследователей к заключению об экзистенциалистском содержании мировоззрения художника»25. В прозе М.А. Булгакова на первый план выдвигается оценка нравственной позиции героя. Главный вопрос для его персонажей — как остаться честными прежде всего перед собой. Человек обращен лицом к деструктивному миру и должен совершить нравственный выбор, определить свое место в бытии. Кроме того, Булгаков заставляет своих героев быть в ответе за происходящее: персонаж обнаруживается в нравственно-этической сфере, перед ним стоит проблема ответственности, которая связана с его актом выбора. Традиционный выбор героя - принятие ответственности на себя. Данный аспект находится в рамках традиции русской классики. Но Булгаков — писатель XX века, что обусловливает иной ракурс проблемы. В XX столетии человек ощущает себя «потерянным». К.Г. Юнг, говоря о своеобразии души современного человека, отмечал, что «поблекла ... вера в рациональную организацию мира»26. В связи с этим возникает чувство неустойчивости и незащищенности. В большинстве произведений Булгакова важнейшими категориями становятся страх и тревожность — приметы новой эпохи. Онтологический страх передается через обостренное чувство приближения наказания за человеческие ошибки. Мотив ожидания чего-то неотвратимого является структурообразующим во многих произведениях писателя, он создает ситуацию «на грани», которая способствует выявлению диалогических интенций персонажа.
В обширной литературе о Булгакове ключевые особенности его поэтики, естественно, не остались незамеченными, однако их специфика и единство в целом художественного мира писателя раскрыты недостаточно полно. Об этом свидетельствуют и высказывания ряда исследователей. Так, М.С. Штейман говорит о «недостаточно полной изученности раннего творчества писателя, а именно его "малой" прозы»27. Е.О. Пенкина выделяет сходный аспект проблемы: «В булгаковедении последних лет прослеживается тенденция обобщения всего накопленного материала и выработка на основе его целостной философской концепции писателя. Однако чаще всего речь идет только о романе «Мае-тер и Маргарита» . Неравномерность изучения булгаковского наследия отмечается также в диссертациях А.В. Зайцева и Е.В. Пономаревой29. Последняя, в частности, пишет: «... рассказы М. Булгакова отнесены на второй план ... В исследованиях ученых новеллы часто рассматриваются лишь в идеологическом плане»30. Вместе с тем, в работах, посвященных анализу романа «Мастер и Маргарита», замечается, что «последний роман Булгакова оброс комментарием, в десятки раз превышающим объем самого текста», в связи с чем и наличествует тенденция, стремление «синтезировать накопленный материал»31.
Поэтика Булгакова в отечественном литературоведении по существу начала изучаться с конца 1980-х гг., хотя уже в 1920-е гг. существовали работы о его творчестве, а в 1960-е стали появляться исследования художественного мира, носившие в основном характер первого, непосредственного восприятия после длительного забвения. Кроме того, тогда не были доступны все тексты («Собачье сердце», многие рассказы). Очевидна также излишняя идеологизиро-ванность исследований советского времени.
В литературоведении о Булгакове для нас особый интерес представляют работы, в которых предпринимается попытка постижения непосредственно художественной системы писателя в аспекте диалогичности. Поэтому в обзоре, данном ниже, наличествует характеристика тех трудов, где так или иначе эта проблема затрагивается. В современных исследованиях все чаще речь идет о полифонизме художественного мира Булгакова, о невместимости его «поэтиче-
ского космоса» в рамки какой-то одной парадигмы, одного метода, о жанровом синтезе. Так, В.Н. Вербенко обнаруживает взаимодействие ряда тенденций в прозе Булгакова 1920-х гг.: мифологической, романической, нравоописательной. «Они вступают между собой в отношения пересечения, включения или тождества. Этот жанровый диалог ... составляет ... булгаковский принцип видения героя...»32.
Вопрос о диалогичности в творчестве писателя по сути был поставлен в середине 1990-х гг. в работах В.В. Химич. Исследовательница рассматривает жанровое, композиционное своеобразие произведений М.А. Булгакова, «ситуацию» героя, особенности психологизма. Выявляя своеобразие «странного реализма» Булгакова, автор утверждает, что «суть художественного мышления и формирующегося на его основе образа мира состоит у этого писателя ... в "диалогическом способе искания истины"» . «Реальность привлекала его в органической подвижности и нескончаемом пространственно-временном движении, реальность вне завершенности, вне окончательности, но в процессе становления и смены форм»34.
Наблюдения и выводы литературоведа основываются на конкретном, убедительном анализе поэтики писателя; ключевой становится мысль о том, что Булгаков сознательно противопоставлял свое творчество «монологизму официально принятой литературы» . В качестве определяющего и структурирующего работу принципа В.В. Химич выдвигает понятие истины и путь ее познания в булгаковских произведениях. Этот путь, по мнению ученой, «предполагает восприятие подвижной противоречивости между добром и злом, новым и старым»36.
Исследовательница оперирует различными терминами: «двуголосье», «двусоставность», «амбивалентность», «диалогические приемы», «зеркальность» и раскрывает роль указанных понятий, сводя ее к функции утверждения «многоверсионности и релятивности» бытия . Представляется необходимым выявление своеобразия диалогического на разных уровнях произведения.
Заметным явлением в «булгаковедении» стали исследования Е.А. Ябло-кова, большей частью обобщенные в труде «Художественный мир М. Булгакова». Литературовед рассматривает «мифопоэтику» писателя, соотносит его прозу с историей европейских литератур, выстраивая систему «типажей», инвариантных сюжетных мотивов, анализирует пространственно-временную организацию произведений. При этом, как и В.В. Химич, Е.А. Яблоков специально не рассматривает вопрос о диалогичности и ее функциях в художественном мире М.А. Булгакова. Однако выводы, к которым приходит исследователь, во многом способствуют созданию доказательной базы для описания диалогичности Булгакова. Ученый отмечает, что вся система булгаковской поэтики окрашена «мнимой авторитетностью», «подтекстом, который размывает "поверхностное" впечатление»38. Правда, этот момент исследователь связывает с личностно-биографическими чертами самого писателя, у которого «"рельефность" внешнего образа и декларируемая определенность жизненных принципов сочетались с болезненной рефлексией и постоянным внутренним "самоотрицанием"»39. Биографический контекст, безусловно, важен, однако он не является определяющим при рассмотрении своеобразия поэтики.
Е.А. Яблоков постоянно подчеркивает значимость диалога культур в бул-гаковском мире, имея в виду синтез «вечного», «архетипического» и «исторического», «фельетонного». Этим, по мнению исследователя, должно определяться и восприятие булгаковских произведений, когда «читатель призван ощутить себя на грани двух реальностей - мифологически-вневременной и конкретно-исторической»40. Специфическим выражением этого синтеза становится амбивалентность бытия, влияющая на всякий характер и поступок, любую ситуацию41.
Однако акцентированность анализа исключительно на мифопозтических ассоциациях, причем зачастую достаточно субъективных, не способствует и убедительности выводов, поскольку всякий образ в интерпретации Е.А. Ябло-кова становится амбивалентным. По сути из поля зрения выводится авторская позиция, она подменяется установкой на изначальную заданность интертекста.
11 Не случайно В. Гудкова в своей рецензии на работы Е.А. Яблокова подметила, что «анализ утрачивает объективно доказуемые связи с сочинением, разбор ко-
торого производится» . В свете сказанного особую важность приобретают наблюдения, сделанные Н.Т. Рымарем и В.П. Скобелевым: «авторское начало образует с началом неавторским, сверхличным, некое единство, без учета которого не может быть речи о серьезном понимании искусства»43.
В отличие от Е.А. Яблокова, И.З. Белобровцева в качестве эстетического «мерила истинности» выдвигает критерий внутренней непротиворечивости текста44. По словам исследовательницы, важнейшее место в творческом методе Булгакова «занимает игра с культурным наследием»45. Среди конструктивных принципов организации текста называются «оппозитарное мышление» и вытекающий из него двойственный характер «любого компонента» произведения46. Дуализм, двойственность, как отмечает И.З. Белобровцева, распространяются «и на жанровый уровень, включая проблему завершенности - незавершенности романа»47.
Проблема «оппозитарности» булгаковского мышления вызывает значительный интерес, поскольку ее решение находится в сфере глубинной парадигмы его поэтики. Н.В. Кузина развивает эту проблему, показывая на примере анализа оппозиций в романе «Белая гвардия» релятивизм булгаковской истины: «То, что для одного персонажа становится в романе воплощением зла, для другого является спасением»48. «И ранняя, и поздняя проза Булгакова», - пишет исследовательница, - «проникнута идеей о том, что ни одна теория ... не в силах исчерпать многоликую истину, привести к абсолютному знанию»49.
На диалогическую природу творчества писателя прямо указывает Т.И. Дронова: «Слово в художественном мире Булгакова осознанно диалогично и осмысляется двупланово ... Диалогичность является одной из основополагающих черт булгаковского творчества, и в этом Булгаков, без сомнения, художник XX века»50. В то же время другие литературоведы менее прямолинейны в своих высказываниях. Говоря о своеобразии художественного мира писателя (в частности, первого романа), Г.М. Ребель отмечает его монологический характер,
что является формой «эстетического сопротивления хаосу и произволу, царящим в реальном мире»51. Перед нами, по мнению исследовательницы, наличествует своего рода «диалог в монологе». По существу, данный тезис разделяется другими исследователями. Так, в диссертации Е.О. Пенкиной говорится, что у Булгакова «Истина не выясняется в процессе диалога, она дана», у писателя «все канонично и академично», ни о какой полемике речи идти не может52.
В.И. Немцеву жанрообразующие принципы стиля Булгакова видятся в обращении к «нравственно-эстетической проблематике отечественной классической литературы», в «нравственном максимализме личности»53. Что же касается интересующего нас аспекта, то здесь следует отметить мысль автора работы о читательском сотворчестве54. К данному выводу литературовед приходит на том основании, что произведения Булгакова характеризуются, как он отмечает, принципиальной незавершенностью55. Эта «незавершенность» позволяет приобщиться к общечеловеческой культуре, в то же время это и «знак огромного доверия читателю»56.
В.И. Немцев выделяет три периода в творчестве М.А. Булгакова, относя, в частности, «Белую гвардию» к «сатирическому» этапу, и это вызывает недоумение. Кроме того, исследователь характеризует произведения данного периода как «облегченные»57, что не соответствует действительности.
Таким образом, обнаруживается неоднозначность понимания принципов, формирующих булгаковский универсум, важнейшие черты которого описаны в работах М.О. Чудаковой. Исследовательница подчеркивает константность художественного мира писателя, говоря о типологических мотивах в его творчестве: покой, свет, болезнь, «литературность», театральность, биографичность и
ДР .
Среди трудов, посвященных изучению проблематики булгаковского наследия, для нас важны те, в центре внимания которых оказываются мировоззренческие аспекты его творчества. К таковым относится диссертация Е.В. Уховой «Философско-этические идеи в творчестве М.А. Булгакова». Литературовед резонно говорит о том, что «проблемы долга, ответственности, вины, по-
каяния, воздаяния и возмездия занимают писателя на всем творческом пути»59. Подчеркивая обусловленность «философии» событиями времени, Е.В. Ухова справедливо полагает: «Идея преображения человека волновала Булгакова как ключевая проблема эпохи»60. Эта идея, являясь сквозной в творчестве писателя, определяет структуру многих его произведений, в частности «Роковых яиц», «Собачьего сердца», «Белой гвардии».
Из произведений 1920-х гг. литературоведов более всего привлекает роман «Белая гвардия», а именно, его пространственно-временная структура и связи произведения с русской литературной традицией. Так, например, В.А. Коханова, размышляя в данном ракурсе, делает вывод о принадлежности первого романа Булгакова к «методу христианского реализма»61.
В свою очередь Н.Д. Гуткина, рассматривая русскую классическую традицию в романе, с неизбежностью приходит к выводу о диалогической природе творчества писателя (хотя делается акцент на диалоге культур): «Художественный текст ... становится открытой картиной мира, вбирающей все новые ком-поненты смысла из фонда культурной памяти» .
Помимо «Белой гвардии», неизменным остается внимание к повестям писателя. Н.П. Козлов обнаруживает в их образах «амбивалентный смысл»63, А.В. Флоря пишет о неоднородном, колеблющемся повествовании в «Собачьем сердце»64. О.С. Бердяева говорит об опрокинутой иерархии понятий и смыслов в «Роковых яйцах»65. Очевидно, что во многих работах намечается выход к типологии булгаковской поэтики, но осуществляется это не специально, на уровне некоторых наблюдений, отдельных высказываний.
Что же касается рассказов писателя, то они долгое время на уровне поэтики практически не изучались. Данный пробел отчасти восполнен в комментариях к собранию сочинений Булгакова, а также в исследованиях Е.В. Пономаревой, А.Ф. Петренко. Е.В. Пономарева рассматривает взаимодействие новеллистики и традиций классического реализма, а также ее связь с опытом модернизма. Исходя из того, что в рассказах писателя происходит соединение «фантастического и реального, отраженного и преображаемого, сиюминутного
и вечного», исследовательница определяет художественную систему как диалогическую66. При этом отметим, что Е.В. Пономарева идет вразрез с мнением Г.М. Ребель, которая говорит о монологизме как форме преодоления хаоса. Е.В. Пономарева считает, что именно «диалогическая система ... дала писателю возможность постигнуть хаотичность, иррациональность, гибельную бездуховность ... эпохи, и ... эстетически овладеть хаосом»67.
А.Ф. Петренко, рассматривая поэтику комического в ранней прозе, выделяет драматургические структуры повествования, подчеркивает роль диалога (как формы речи) , усиливающего смысловое звучание текста.
При взаимодействии разнородных систем и концептов, что происходит у Булгакова, становятся невозможными линеарность, упорядоченность и монолитность как подачи материала, так и его оценки. Исследователи диалогического отмечают, что в этой ситуации «максимально активизируется рецепция, «достраивая» и «переоценивая» сказанное, выполняя креативную функцию соавто-ра»69.
На фактор обращенности к читателю указывают зарубежные исследователи: «... материал ... оказывается сильно преломленным в ряде повторов ... часто пародийных»70, где читатель больше не знает, что отражает что. Как считает М. Гурж, подвижность, рождаемая диалогом в структуре произведения, обусловливает «пластичность, которая позволяет персонажам и ситуациям легко преодолевать временные и пространственные категории и отдаляет их от ограничивающих схем»71.
Следует отметить, что в зарубежном литературоведении вопрос о диало-гичности булгаковского мира не ставился, хотя первые монографии, посвященные творчеству писателя, создавались именно на Западе (в 1970-е гг.). Но в них
главным недостатком был как раз слабый литературоведческий анализ . При этом в работах, как правило, подробно освещалась биография писателя, история создания его произведений. Данная тенденция сохранилась до конца 1990-х гг. Так, в монографии Э. Хабер, вышедшей в 1998 г., творчество анализируется в аспекте тематики и проблематики, чему служит, в частности, объединение от-
дельных произведений (ранних рассказов) в единый блок (тема Гражданской войны). Автор сосредоточен на пересказе фабульных особенностей, как бы знакомя своего читателя с содержанием рассказов и повестей73.
Одной из лучших работ о Булгакове на Западе остается монография Л. Милн, в которой доминирует «телеологический литературно-критический подход», когда «биографические события служат источником для анализа произведений...»74. Отдельные положения, высказанные исследовательницей, находятся в русле диалогической парадигмы булгаковского творчества: рассматривая латинскую этимологию фамилии Турбиных в «Белой гвардии», Милн подмечает ее амбивалентный характер (буря и детский волчок), что явно проецируется и на полифоническую смысловую структуру романа75.
Существенный вклад в осмысление поэтики Булгакова с точки зрения ее внутренних законов внес и польский исследователь А. Дравич, выдвинувший концепцию структуры, состоящей «из подменных элементов», которая полностью преобразует смысловой ряд произведения76.
Актуальность исследования. Несмотря на множество работ, посвященных рассмотрению булгаковской поэтики, вопрос о ее глубинно-доминантных принципах ставится только в последние годы. Остается невыясненной как специфика диалогического (на этот счет, что видно из обзора, существуют даже противоположные мнения), так и особенности его функционирования в разных эпических жанрах. Обращение к проблеме диалогического и опора при этом на идеи представителей «философии диалога» чрезвычайно важны, поскольку являют собой некую альтернативу современному интерсубъективизму, который не отменяет кризиса идентичности, а лишь усиливает его. Булга-ковский диалогизм в этом плане словно предвосхищает ту атмосферу «глухоты», «трагического молчания»779 которые складывались в первые пореволюционные десятилетия XX века и достигли расцвета на разных уровнях бытия человека в современную эпоху.
Выявление основных параметров булгаковского мира в аспекте диало-гичности способствует также уточнению ранее сложившихся концепций и ус-
16 тановок на «автобиографичность» писателя, «литературность», «упорядоченность пространства», «театральность» и др. моментов.
Важность обращения к прозе 1920-х гг. не подлежит сомнению. Во-первых, именно данный период, как отмечалось, требует пристального внима-ния. По словам И. Золотусского, «мы начали читать Булгакова с конца» , и это привело к обедненности представления о художественном мире писателя. Кроме того, выбор одного литературного рода, на наш взгляд, позволяет представить определенную проблему конкретно и обстоятельно, что и является первоочередной задачей в современном «булгаковедении».
Во-вторых, в 1920-е гг. художественная система Булгакова начинает складываться, развиваться, предопределяя его творческую манеру, которая во многом, как уже отмечалось, является единой для обоих десятилетий. По справедливому мнению М. Петровского, «двусоставность» как принцип поэтики в творчестве прозаика определилась именно в начале 1920-х гг.: «Столкновение лоб в лоб высокого и низкого, трагического и комического, священного и про-фанного, вечного и сиюминутного ... проявилось в «Мастере и Маргарите» с наибольшей наглядностью, но присутствовало у Булгакова "всегда", едва ли не изначально...»79. Несомненным является и «контакт» с теми идеями, которые стали основой для «философии диалога», складывавшейся в это же время.
Объектом исследования является проза М.А. Булгакова 1920-х годов.
Предмет изучения - функционирование диалогического в различных жанровых формах, обусловленность им структурно-смысловых особенностей произведений, характер и способы воплощения диалогического в прозе М.А. Булгакова 1920-х годов.
Материалом для изучения послужили основные прозаические произведения в творчестве М.А. Булгакова 1920-х гг.: фельетоны, рассказы, повести, роман. Выбор конкретного произведения обусловлен как его местом в творческой эволюции писателя, так и репрезентативностью интересующей нас проблемы.
Цель работы заключается в исследовании поэтики диалогического, своеобразия его функционирования и способов воплощения в прозе М.А. Булгакова 1920-х годов.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
рассмотреть в ракурсе избранной проблемы принципы соотношения категорий «герой» и «автор» в произведениях Булгакова;
охарактеризовать ключевые оппозиции булгаковского творчества в аспекте диалогичности (подлинное - мнимое, творимое - сотворенное, часть - целое, бытие - небытие, случайное - закономерное);
исследовать роль лейтмотивной структуры в формировании диалогического начала;
выяснить динамику формирования структурно-смысловой двупланово-сти произведений;
проанализировать взаимосвязь «макро-» и «микроуровней» текста в как отражение диалогической позиции автора в аспекте сюжетно-композиционной организации;
рассмотреть парадигму интертекстуальных связей Булгакова как воплощение целостности диалогического мышления.
Методология исследования опирается на системный подход к тексту. Методологическую основу настоящей диссертации составляют историко-функциональный, сравнительно-сопоставительный, структурно-семантический методы анализа. В рамках данных методов мы опираемся на труды М.М. Бахтина, Н.Т. Рымаря, М.М. Гиршмана, Б.А. Успенского, Ю.М. Лотмана, Л.Н. Целковой, И.В. Нестерова, работы представителей «философии диалога» (М. Бубера, О. Розенштока-Хюсси, Ф. Розенцвейга и др.), а также исследования наиболее репрезентативных отечественных и зарубежных «булгаковедов»: М.О. Чудаковой, В.В. Химич, Е.А. Яблокова, И.З. Белобровцевой, Л. Милн и
др.
Исходя из того, что «диалог противостоит абсолютизации двоичных альтернатив», но при этом «разделение, даже разрыв не только не затушевывают-
ся, но, напротив, акцентируются диалогическим сознанием» , мы рассматриваем эти оппозиции в аспекте их взаимосвязи, в результате которой часто обнаруживается нечто «третье», которое стремится разрешить противоречие, сделать его внутренним, «своим»81. Этим новым качеством является принцип амбивалентности, понимаемый как сочетание на одном уровне разнополюсных концептов. Здесь «противоположности сходятся друг с другом, глядятся друг в друга, отражаются [выделено нами. - М.Б.] друг в друге, знают и понимают друг друга ... Все ... живет на самой границе со своей противоположностью»82.
Под биологичностью в работе понимается прежде всего качество авторского сознания, принцип мышления, заключающийся в целостности и открытости Другому. Диалогическое есть эстетический принцип писателя, предполагающий использование спектра средств, способствующих раскрытию, постижению мира в его, с одной стороны, целостности, а с другой - раздробленности и противоречивости.
Основываясь на понятии целостности и системности произведения (М.М. Гиршман), мы анализируем взаимосвязь «макро-» и «микроэлементов» конкретной системы, рассматривая, главным образом, их композиционную вопло-щенность. Помимо сочетаемости «частей», исследуется структура точек зрения (Б.А. Успенский), с которых ведется повествование, при этом учитывается принцип чередования и смены позиций . На сюжетно-композиционном уровне происходит расчленение эпизодов на микроэпизоды, конструкция которых и анализируется. При этом в сюжете наибольший интерес представляют свойства «опорных акцентных точек»84 (завязки, кульминации, развязки), а также «вне-фабульных элементов», поскольку здесь происходит нарастание максимальной напряженности и, соответственно, ее убывание. Это чередование «спадов» и «акцентов» (Л.Н. Целкова) позволяет выявить и проследить как доминирующие мотивы, так и основные способы формирования структуры произведения. Тем самым достигается то, что каждый элемент «рассматривается как момент становления и развертывания художественного целого, как своеобразное выражение внутреннего единства»85.
Научная новизна работы обусловлена обращением к проблеме диало-гичности булгаковской прозы 1920-х гг. В диссертации впервые предпринимается попытка целостно и системно описать базовые принципы поэтики Булгакова с учетом «неодномерности», адогматичности авторского мышления. При этом для анализа выбираются не только общеизвестные повести и роман, но и недостаточно изученные рассказы, рассматриваемые в общей парадигме. В исследовании уточняются и частично пересматриваются сложившиеся ранее представления о проблематике и смысловой наполненности булгаковских произведений, определяются пути нетрадиционного прочтения художественных текстов «культурологического» писателя.
Теоретическая значимость исследования определяется разработкой принципов анализа макро- и микроструктуры текста в качестве основы для описания и построения диалогической модели художественного мира, что позволяет выявить и охарактеризовать авторскую позицию в произведениях с «колеблющимся» смыслом. Наблюдения и выводы существенны для понимания проблем художественного стиля и жанрообразования.
Результаты данного исследования имеют практическое значение и могут быть использованы в вузовских курсах по истории русской литературы XX века, теории и методике анализа художественного произведения, спецкурсах и спецсеминарах по изучению творчества М.А. Булгакова, в практике школьного курса литературы.
Апробация материала осуществлялась в форме докладов на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Волгоградского государственного университета (Волгоград, 2002, 2003), на региональных конференциях молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, 2002, 2003); в виде публикаций тезисов по итогам Всероссийской научной конференции «Природа: материальное и духовное» (Санкт-Петербург, 2002), Международной научной конференции «Литература и культура в контексте христианства» (Ульяновск, 2002); в форме статей в научно-теоретическом журнале «Вестник Волгоградского государственного университета» (Волгоград, 2001, 2002).
Положения, выносимые на защиту:
В прозе М.А. Булгакова 1920-х годов диалогическое начало является системообразующим, во многом определяя способы создания художественной картины мира и обусловливая авторскую оценку. Отражая стремление писателя к постижению единства мира и отказу от догм «сомнительной» реальности, диалогическое функционирует в сфере творчества («герой как автор» в ранней прозе), в парадигме адогматичности («устойчиво-миражная ситуация» в рассказах и повестях), как бытийно-культурная целостность (диалогически постигаемая целостность мира на уровне композиции и интертекста в романе «Белая гвардия»).
Формирование приемов диалогического в прозе М.А. Булгакова 1920-х годов связано с наличием особого типа «вопрошающего» героя-творца, находящегося в ситуации выбора. В сферу авторского взгляда вовлекается самосознание экзистенциально одинокой личности, что обусловливает выдвижение на первый план не сотворенной, а творимой действительности и позволяет герою претендовать на роль автора. Результатом становится принятие протагонистом ответственности за бытие, что приводит к трагически-спасительной диалогиза-ции отношений с Другими. Доминирующими характеристиками повествования становятся синтез романических структур с формой рассказа («Записки юного врача»), композиционная фрагментарность, «мнимые неправильности» стиля, оксюморонная детализация (ранние рассказы, «Записки на манжетах»).
Для художественного мышления М.А. Булгакова важное значение имеет поиск свободы. В связи с этим автор подвергает собственное слово, воплощающее в себе модель бытия, сомнению. Данное обстоятельство обусловливает возникновение «устойчиво-миражной» ситуации в прозе писателя, создавая эффект мнимости в сюжетном развитии. «Устойчиво-миражная» ситуация реализуется через систему амбивалентных оппозиций, функционирование которых определяет нарушение причинно-следственных связей. Амбивалентное совмещение противоположных точек зрения создает «приращенный» смысл, наце-
ленный на читательскую рецепцию и осознание «адогматичности» и «незадан-ности» авторской позиции.
«Устойчиво-миражная» ситуация актуализирует проблему подлинного существования личности, решение которой зачастую находится в сфере соотношения слова-имени и вещи, маски. Принцип смещения границ между собственной и нарицательной сущностями характеризует «бытие» как «небытие», «случайное» как «закономерное», и наоборот («Китайская история», «Московские сцены»). Мнимая реальность выстраивается по законам абсурда, что приводит к утрате самоидентификации героя как личности. «Подлинное» повествование переводится в «мнимое» благодаря спектру средств и приемов: «паро-дичности», гротеску, алогизму («Дьяволиада», «Роковые яйца»).
Роман «Белая гвардия» концентрирует в себе диалогические интенции автора, обозначившиеся в ранних произведениях, что проявляется в фабульно-сюжетной структуре, на уровнях повествования и «метатекста». Диалогичность фабульно-сюжетной структуры заключается прежде всего в том, что если в фабуле заключено эпическое начало и герои «завершены», то в сюжете заложен трагизм будущего, его развитие направлено в метафизический план, и герои обнаруживают свою несводимость к схемам. Основные акценты повествования моделируются на основе амбивалентности и контрапунктности, и это одновременно свидетельствует о созидании и разрушении художественной действительности. Особое значение интертекстуальности в романе раскрывается в сопричастности героев всеобъемлющей культуре, позволяя личности одновременно преодолевать «самость» и «возвращаться» к собственному «я».
Структура диссертации обусловлена поставленными целями и задачами и включает в себя введение, три главы, заключение, а также список литературы.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 История русской литературы XX века (20 - 90 годы). Основные имена. - М, 1998. - С. 22.
2 Золотоносов М. «Родись второрожденьем тайным» // Вопросы литературы. - 1989. -№ 4.- С.
149.
Петров В.Б. Нравственно-философские проблемы в творчестве М. Булгакова II Индивидуальное и типологическое в литературном процессе. - Магнитогорск, 1994,- С. 121.
4 Нестеров И.В. Диалог и монолог как литературоведческие понятия: Дисс.... канд. филол.
наук.-М„ 1998.-С. 61.
5 Нестеров И.В. Указ. соч. - С. 61.
6 Пигалев А.И. Узнавание и встреча с новым // Философские науки. - 1995. - № 1. - С. 145.
7 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М., 1979.- С. 126.
8 Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. - М., 2002. - С.
290.
9 Вулис А. Послесловие // Москва. - 1966.- № 11.- С. 127.
10 Кораблев А. А. Булгаков и литературоведение (точки соприкосновения) // Литературные
традиции в поэтике М. Булгакова. - Куйбышев, 1990. - С. 12.
11 Бахтин М.М. Указ. соч. - С. 25.
12 Гиршман М.М. Основы диалогического мышления и его культурно-творческая актуаль
ность // Наследие М.М. Бахтина и проблемы развития диалогического мышления в совре
менной культуре. - Донецк, 1996. - С. 5.
13 Григорян А.П. Анализ структуры литературного произведения. - Ереван, 1984. - С. 41.
14 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман //М.М. Бахтин: Pro et contra. - СПб., 2001. - С.
242.
13 Бахтин М.М. Указ. соч. - С. 74.
16 Орлова Е.И. Автор - рассказчик - герой в фельетонах М. А. Булгакова 20-х гг. // Филологи
ческие науки. - 1981. -№ 6. - С. 27.
17 Кристева Ю. Указ. соч. - С. 235.
18 Фридлендер Г.М. Поэтика русского реализма. - Л., 1971. - С. 126.
19 Дравич А. Булгаков, или взгляд со стороны //Диалог. - 1993. - № 5 - 6. - С. 68.
20 Гуревич П. С. Проблема Другого в философской антропологии М.М. Бахтина // М.М. Бах
тин как философ. - М., 1992. - С. 91
21 Бубер М. Я и Ты. -М., 1993. - С. 155.
22 Нестеров И.В. Указ. соч. - С. 89.
23 Рымарь Н.Т. Поэтика романа. - Куйбышев, 1990. - С. 76-77.
24 В связи с проблемой бытия - небытия возникает вопрос о творческом начале. Л.В. Кара-
сев, разрабатывающий «онтологическую поэтику», отмечает, что фундаментальная онтоло
гическая антитеза бытия-небытия «снимается» «в стихии творческого акта. Материи тленной
... противопоставляется чистое творчество...» (Карасев Л.В. Вещество литературы. - М, 2001. - С. 256). См. разработку данной темы в 1 главе наст. дисс.
Немцев В.И. Михаил Булгаков: становление романиста. - Самара, 1991. - С. 12. Однако этот момент явно игнорируется современными исследователями экзистенциальных традиций в русской литературе XX века. Так, в специальной работе В.В. Заманской имя Булгакова даже не присутствует. См.: Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. - М, 2002.
26 Юнг КГ. Проблема души современного человека // Это человек. - М, 1995. - С. 30.
27 Штейман М.С. «Малая» проза М.А. Булгакова в контексте литературного процесса 1920-х
гг.: Дисс.... канд. филол. наук. - М., 1998.- С. 15.
28 Пенкина Е.О. Мифопоэтика и структура художественного текста в философских произве
дениях М.А. Булгакова: Автореф. дисс.... канд. филол. наук. - М., 2001.- С. 5.
29 См.: Зайцев А.В. Взаимодействие жанров в прозе М.А. Булгакова 1920-х гг.: Дисс. ... канд.
филол. Наук. - М., 1998.- С. 3-4; Пономарева Е.В. Новеллистика М.А. Булгакова 20-х гг.:
Дисс. ... канд. филол. наук. -Екатеринбург, 1999.
30 Пономарева Е.В. Указ. Соч. //
. htm
31 Белобровцева И.З. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: конструктивные принципы
организации текста. - Тарту, 1997. - С. 9.
32 Вербенко В.Н. Мифопоэтическое начало и его эстетические функции в произведениях
М.А. Булгакова 1920-х гг. // Тезисы республиканских булгаковских чтений. - Черновцы,
1991.-С. 68.
33 Химич В.В. «Странный реализм» М. Булгакова. - Екатеринбург, 1995.- С. 7.
34 Там же.-С. 167.
35 Там же. - С. 7.
36 Там же.-С. 37.
37 Там же.-С. 73, 134.
38 Яблоков Е.А. Художественный мир М. Булгакова. - М., 2001. - С. 391.
39 Там же.
40 Там же.-С. 392.
41 См.: Там же.
42 Гудкова В. [Рецензия] // Новое литературное обозрение. - 1998. - № 32. - С. 425.
43 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Теория автора и проблема художественной деятельности. -
Воронеж, 1994.-С. 138.
См.: Белобровцева И.З. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: конструктивные принципы организации текста. - Тарту, 1997. - С. 9.
45 Там же.-С. 11.
46 См.: Там же.-С. 147, 146.
47 Там же.-С. 147.
48 Кузина Н.В. О нескольких важнейших оппозициях в романе М. Булгакова «Белая гвардия»
// Русская филология. Уч. Зап. Вып. 4. - Смоленск, 1999.-С. 133.
49 Там же.-С. 156.
30 Дронова Т.И. Художественное осмысление времени в романе М. Булгакова «Белая гвар
дия» // Античный мир и мы. Вып. 5. - Саратов, 1999. - С. 54,58.
31 Ребель Г.М. Художественные миры романов М. Булгакова. - Пермь, 2001. -С. 32.
32 Пенкина Е. О. Указ. соч.: Дисс. ... канд. филол. наук. - С. 114.
Немцев В.И. Поэтика М. А. Булгакова как эстетическое явление: Дисс. в виде науч. доклада ... д-ра филол. наук. - Волгоград, 1999. - С. 7.
54 Там же.-С. 67.
55 Там же.-С. 15.
36 Там же.-С. 16.
37 Там же. - С. 7.
58 См.: Чудакова М.О. Комментарии. Рассказы. «Записки на манжетах» // Булгаков М.А. Собр. Соч. в 5 т. Т. 1. - М., 1989. - С. 614 и далее.
39 Ухова Е.В. Философско-этические идеи в творчестве М.А. Булгакова: Дисс. ... канд. филол. наук. - М., 1999. - С. 117.
60 Там же.-С. 35.
61 Коханова В.А. Пространственно-временная структура романа М.А. Булгакова «Белая гвар
дия»: Дисс.... канд. филол. наук. - М., 2000. - С. 216.
62 Гуткина Н.Д. Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия» и русская литературная традиция:
Дисс.... канд. филол. наук. - Нижний Новгород, 1998. - С. 196.
63 Козлов КП. Гротеск в сатирической трилогии М. Булгакова... // Содержательность форм в
художественной литературе. - Самара, 1991. - С. 135.
64 Флоря АВ. Дискурсивная структура повести М. Булгакова «Собачье сердце» // Единицы
восточнославянских языков. Межвуз. сб. - Тула, 1993. - С. 86,87.
63 Бердяева О.С. Повесть «Роковые яйца» и ее место в творческой эволюции М. А. Булгакова // Некалендарный XX век. - Великий Новгород, 2001. - С. 132. 66 Пономарева Е.В. Указ. соч.
67 Там же.
68 Петренко А.Ф. Сатирическая прозаМ.А. Булгакова 1920-х гг.: Автореф. дисс.... канд. фи-
лол. наук. - Ставрополь, 2000. -СП.
69 Воробьева СЮ. Поэтика диалогического в прозе Е.И. Замятина 1910-20 гг.: Дисс.... канд.
филол. наук. - Волгоград, 2001. - С 12.
70 Gourg М. Echos de la poetique Dosto'fevskienne dans Г oeuvre de Bulgakov II Revue des etudes
slaves. Tome soixante-cinquieme. Fasc. 2. M. Bulgakov: classique et novateur.- Paris, 1993.- P.
346-347.
71 Ibid.
72 См.: Wright E.C. M Bulgakov: Life and interpretation. - Toronto etc., 1978; Proffer E. Bulga
kov: Life and work. - Ann Arbor, 1984.
73 См.: Haber E.C M. Bulgakov. The early years. - L., 1998.
74 Будицкая Т.Г. M. Булгаков глазами Запада. - M, 2001. - С 152.
75 Milne L. М. Bulgakov: A critical biography.- N.Y., 1990. - P. 93.
76 Дравич А. Указ. соч. - С 69.
77 См.: Эйдинова В. Идеи М. Бахтина и «стилевое состояние» русской литературы 1920-1930-
х гг. // XX век. Литература. Стиль. Стилевые закономерности русской литературы XX в.
Вып. II. - Екатеринбург, 1996. - С 10.
78 Золотусский И. Заметки о двух романах М. Булгакова // Литературная учеба. - 1991. - № 2.-
С 147.
79 Петровский М. Смех под знаком Апокалипсиса (М. Булгаков и «Сатирикон») //Вопросы
литературы. - 1991. - № 5. - С. 11.
80 Гиршман М.М. Литературное произведение: теория художественной целостности. - М.,
2002. - С. 463.
81 Там же.-С. 464.
82 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - С. 206.
83 См.: Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М., 1970. - С 320.
84 Целкова Л.Н. Роль сюжетных эпизодов в композиции романического повествования //
Вестник МГУ. - Сер. 9. Филология. - 1981. - № 4. - С 30.
85 Гиршман М.М. Анализ поэтических произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И.
Тютчева. - М., 1981. - С. 27.
Диалогизация образа героя (рассказ «Необыкновенные приключения доктора»).
Основной «массив» «малой» булгаковской прозы был создан в 1922 -1926 гг. Л. Фиалкова отмечает, что «не все написанное ... равнозначно и одинаково интересно»1. С этой мыслью нельзя не согласиться, однако важно выявить те тенденции, которые оказались значимы для творчества писателя в целом и сыграли основополагающую роль в построении его художественного мира.
Один из первых рассказов М.А. Булгакова, опубликованных в Москве, -«Необыкновенные приключения доктора» (1922). По словам М.О. Чудаковой, «к 1922 году сложились не только черты ... центрального героя, основные мотивы, устойчивые сюжетные ходы и ситуации, но и устойчивые предметно-повествовательные «блоки». Проза Булгакова строится в дальнейшем с помощью некоторого достаточно определенного набора элементов - изобразительных и повествовательных»2. В этом раннем произведении проявляются типологические черты поэтики писателя.
Первая фраза («Доктор N, мой друг, пропал»3) вводит читателя в самую суть ситуации, помещает его внутри происходящего и задает определенный набор ассоциаций-ожиданий: 1) Тип повествования. Оно ведется от первого лица, что формирует непосредственную обращенность повествователя к читателю, заставляя последнего «вжиться» в происходящее, «примерить» авторскую точку зрения; 2) Оценочно-смысловой характер описываемого. Констатацией «пропал» - задается ряд мотивов: тревожности как чего-то устойчиво-напряженного и онтологического «выпадения» человека из универсума, причем не только как его физического исчезновения, но взаимного «не-приятия» личности и бытия, их принципиальной несовместимости. Происходит исчезновение не человека, а личности, ее распад, или, в крайнем случае, принятие ею иной системы ценностей. Отметим, что оба момента фиксируются повествователем уже во второй фразе произведения: «По одной версии его убили, по другой - он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей - он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе» (I, 431). Первые две версии как раз и связаны с мотивом онтологического «выпадения» как физического исчезновения, третья — с несовместимостью личности и бытия, пребыванием личности в ином бытии (Буэнос-Айрес - экзотический хронотоп с иной системой ценностей); 3) Тип героя и ситуации. «Доктор N» - безымянность персонажа в данном случае значима для придания описываемому предельно обобщенного смысла: экзистенциальный герой в экзистенциальной (здесь: пограничной) ситуации. Важен и социальный статус персонажа: название рассказа тяготеет к амбивалентности, которая отчетливо проступает в следующем высказывании доктора: «Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки» (Т, 432). Первая часть названия — «Необыкновенные приключения» — выражает значение слома, изменения в структуре реальности, неких преобразований и переходов в системе хронотопов. Заглавие дается в контексте авантюрного жанра, однако доктор «ненавидит» именно подобные формы бытия4. Совмещение разнородных сфер диалогизирует создающуюся художественную реальность и придает ее элементам, как и ей самой, неоднозначный смысл. Однако первая фраза, взятая в своей целостности, а не раздробленности, задает иной ориентир: она произносится довольно бесстрастно, безлико, в ней не ощущается тревога за друга или скорбь о нем. Этот момент усиливается спокойным перечислением версий его возможной гибели и иронической всеохватностью «вещного мира» героя. Таким образом, заглавие и первые фразы содержат в себе смысловую структуру произведения в «свернутом» виде. Ее раскрытие осуществляется последовательно, через диалогизацию автором образов рассказчика и повествователя, а также изображение контактно-дистантных отношений рассказчика с описываемой им действительностью.
Диалогизация образа рассказчика происходит, в частности, через описание вещей, найденных в его чемодане. Он содержал в себе «три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова (изд. 1916 г.), две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман «Марья Лусьева за границей», шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора» (Т, 431). Состав вещей крайне разнороден, и перечислены они в хаотичном порядке. В вещном хаосе отражается деформированное сознание героя-рассказчика и предопределяется композиционная структура текста. При этом персонаж оценивается с некоторой долей иронии: с одной стороны, в чемодане обнаружились «рецептура доктора Рабова» и «пирамидон», с другой - «роман «Марья Лусьева за границей» и «окаменевшая французская булка». Однако эта ирония не только «расподобляет» трагическое положение героя, но и создает многомерность образа: персонаж преодолевает некую самозамкнутость, перестает укладываться в о-пределенное, о-граниченное понятие - образ диалогизируется. В силу этого герой становится «вопрошающим» героем, адресуясь к бытию, с которым, напомним, находится в отношениях не-приятия: «За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад?» (1,431). Но этот «вопль» дается в отсвете предшествующих иронических замечаний повествователя о характере данных записок: «Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно - некоторые места совершенно нельзя разобрать (у доктора N отвратительный почерк), тем не менее печатаю бессвязные записки...» (Т, 431). Достаточно легковесно он сообщает читателю и о гонораре, который, возможно, получит доктор N. Но авторская позиция, в свою очередь, характеризуется своеобразной иронической отстраненностью от точки зрения повествователя. Предисловие находится в рамках традиции авантюрного жанра (мотив «найденной рукописи») - т.е. автор дискредитирует позицию повествователя тем, что тот не может выйти за ограничивающие жанровые каноны. Его образ диалогизируется в силу авторской иронии, возникающей как раз на основе взаимодействия «предисловия» с записками героя-рассказчика, отличающимися драматическим содержанием. Позиции автора и героя уравновешены, а не иерархичны: автор как бы не властвует над персонажем, а позиция героя «развоплощает» уровень повествователя. Читательские ожидания «приключений», заданные традиционным предисловием, не оправдываются: автор «играет» с воспринимающим сознанием, вводя его в заблуждение на уровне целостного текста, но раскрывая смысловую структуру на микроуровне, что и было показано ранее в замечаниях о соотношении частей и целого в данном произведении. Не случайно композиционная форма произведения - «текст в тексте» - важна именно мысль о соотношении части и целого, о тексте истинном и мнимом; «истинное» - это «внутренний» текст, т.е. записки доктора.
Как следствие, в качестве ведущей проблемы ставится вопрос о самосознании экзистенциально одинокой личности. В центре авторского внимания не столько события (они - в фокусе героя), сколько именно точка зрения персонажа, т.е. его самосознание.
«Выброшенностъ» героя из бытия (как типологическая ситуация конфликта у Булгакова), заданная в первой фразе произведения (на микроуровне), отчетливо проступает через вопрошающий взгляд персонажа и в первой фразе его дневника. Но если в сознании повествователя событие уже совершилось («доктор ... пропал»), то на уровне героя оно совершается, и персонаж пытается вступить в диалог с миром, адресуя вопросы своей судьбе, но мир не принимает личность: «А еще лучше, если б я совсем не родился» (Т, 431). Происходит, говоря словами К.Г. Юнга, «потрясение веры в себя ... в собственную значимость»5.
Проблема творящего самосознания в «Записках на манжетах».
Многие исследователи творчества М.А. Булгакова говорят о единстве его художественного мира. Так, А.А. Кораблев в работе о драматургии писателя правомерно утверждает, что «перед нами не обычная совокупность произведений, а их ... периодическая система»25. Та же мысль вполне приложима и к прозе. Одним из ключевых прозаических произведений «малых жанров», показательным в плане поэтики, являются не дошедшие в полном виде до наших дней «Записки на манжетах» (1922-1923).
Жанровая форма определяется в данном случае заглавием, сравнительно устойчивым у Булгакова (герой «Необыкновенных приключений...» создает «записки», «Записки юного врача», «Записки покойника»), и носит, естественно, не просто формальный (хронологические дневниковые записи), а принци-пиально смысловой характер , в том числе с очевидной отсылкой на литературную традицию («Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя). Как и в рассмотренных ранее произведениях новеллистического жанра, здесь в основе художественного построения - самосознание героя-рассказчика. М.О. Чудакова отметила ведущее начало этого произведения: «... в центре повествования встал герой, рассчитанно близкий к автору. Автор ... создавал иллюзию автобиографичности. Интерес читателя направлялся ... к соотношению автора с «я» рассказчика. Здесь это соотношение выражалось в слиянии...»27.
Автор сразу погружает читателя в ход событий, описывая ситуацию, первым звеном которой является традиционное нарушение порядка. При этом какого-то изначального благополучия вообще нет. Общеизвестно, что «архаическая» композиционная схема выглядит таким образом: исходный порядок - его нарушение - восстановление порядка. Н.Т. Рымарь говорит, что такая композиция служит и «раскрытию и утверждению незыблемой мировой гармонии...»28.
У Булгакова же первичного звена - гармонии - нет (она может быть в прошлом, «мифологизируясь» в сознании персонажей). Первые фразы героя-рассказчика «Записок на манжетах», обращенные к коллеге, связаны с мотивом изменения данности: « - Стойте! - завопил я, опомнившись, - стойтеХ Какое Credito? FinitaV. Что? Катастрофа! .» (I, 473). В восклицании одновременно присутствует и желание «остановить» движение, и заданность деструктивно-сти, конца. То же встречалось и в двух рассмотренных выше произведениях («друг пропал»; «ненавижу солнце» - сразу обозначается конфликт с реальностью). «Нарушение» есть принципиальная, онтологическая данность бул-гаковского мира и миропонимания. Любая событийная завязка у Булгакова -это «разрушение старой ясности. Герой ... возвращен к истокам судьбы. "Готовность" героя отменяется...»29. В терминологии В.Е. Хализева конфликты такого рода обозначаются как «субстанциональные» и характеризуются тем, что «неизменно и постоянно окрашивают жизнь героев, составляя некий фон и своего рода аккомпанемент изображаемого действия»30. Однако именно этот тип художественной организации произведения устремляется к диалогичности, поскольку «здесь доминирует писательская установка ... на глубину читательского проникновения (вслед за автором) в сложные и противоречивые жизненные пласты»31.
Ситуация героя в этих рассказах - это ситуация «на грани», «на краю», неизмеримо поднимающая личность над собой, делая ее самосознание всеобъемлющим, самосознанием творящим. В то же время автор никогда не дает устояться и такому сознанию в настоящем, в ситуации «теперь». В.В. Химич точно характеризует подобное положение, называя его реальностью «вне завершенности, вне окончательности, но в процессе становления и смены форм», при этом авторская позиция функционирует в сфере отказа «от дидактического монологизма»32. В этом аспекте показательно следующее описание из 4 главы 1 части «Записок...» («Вот он - подотдел»): «Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него и денег требуют» (Т, 479). Писатель - Творец, Бог, но его функция не соответствует роли: «лепит» всего лишь «подотдел», при этом у него еще и «денег требуют». Обратим внимание и на заданность мотива «актерства» в этом фрагменте, сводящего «реальность» к «театру». Ирония формирует диалогическую позицию, которая не позволяет говорить, как то утверждает М.О. Чудакова, о соотношении автора и героя как о «слиянии» (чего не может быть и в принципе), несмотря на автобиографичность произведения.
Типологическая ситуация - конфликт, дисгармония как данность - реализуется в фрагментарной композиции через мотив онтологической неустойчивости. Герой так говорит об этом: «Тьма. Просвет. Тьма... просвет ... Просвет... тьма. Проев... нет, уже больше нет!» (I, 476). Скачкообразный ритм создает в сюжете абсурдные ситуации, которые решаются в аспекте «подлинное - мнимое». Так, герой, уже работая в Лито, вдруг обнаруживает, что «Лито не включено» в жизнь загадочного здания. Это, кстати, явно связывается с мотивом «присутствия-отсутствия» Мейерхольда, о котором много говорят: «Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет» (Т, 497). Возникает диалогическое отражение положений персонажей: рассказчик в здании «есть», но о нем ничего не знают, Мейерхольда «нет», но о нем все говорят. Поэтому логично выглядит ответ секретарей: « - Мы думали - вас нет» (Т, 498). Но Булгаков в характерной для него манере усиливает мотив «присутствия - отсутствия» дублированием сюжетного хода33. В главе «Неожиданный конец» герой, опоздав на работу, находит свой отдел пустым: «Не только не было столов, печальной женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего» (Т, 501). Возникает мотив «зыбкого миража», подлинное становится мнимым, и наоборот. «Все вокруг какое-то ненастоящее, бутафорское»34, перед нами предстает мир, «находящийся в стремительном преображении, состоящий из магмы идей и начинаний, мир, еще далекий от того, чтобы принять определенную форму...»35. Именно в этом раннем произведении зарождается один из универсальных приемов булгаковской поэтики - «достоверной фантастики», кода последнее предстает как реальность. Не случайно данный момент связан с классической традицией - повестью Н.В. Гоголя «Нос», прямым ее цитированием. Как и у Гоголя, пропажа в итоге обнаруживается, но, в отличие от «Носа», фантастика «снимается» прозаическим объяснением: Лито всего лишь было «переселено» в другой подъезд того же дома. Здесь же проступает еще одна универсальная ситуация - блуждание по загадочному зданию, некий поиск, т.е. мотив пребывания в ирреальном хронотопе. «Записки...» в этом плане очевидно связаны с повестью «Дьяволиада» (блуждание Короткова в поисках Кальсо-нера) и, естественно, с поздними произведениями, в частности с романом «Мастер и Маргарита» (от «бега» Бездомного вплоть до «нехорошей квартиры»).
Проблема взаимодействия «части» и «целого» в рассказе «Китайская история».
Проблема целостности художественного мира в булгаковских рассказах решается по-разному. Кроме группы произведений, в которых основой структуры является ситуация «герой как автор», выделяется тип «творений», где доминирующим фактором становится «устойчиво-миражная» ситуация1. Здесь «мир» одновременно являет себя и константно-реальным, и деструктивно-ирреальным. В конечном итоге, «миражность» проявляется как «устойчивость», и наоборот. В этом аспекте (на уровне взаимодействия части и целого) будет рассмотрена структура рассказа «Китайская история» (1923).
Произведению предпослан подзаголовок: «6 картин вместо рассказа». Использование подзаголовка у Булгакова превращается в часто применяемый прием. Кроме этого произведения и «Красной короны» назовем «Налет» («В волшебном фонаре»), «Похождения Чичикова» («Поэма в X пунктах с прологом и эпилогом»), «Московские сцены» («На передовых позициях»), «Багровый остров» («Роман тов. Жюля Верна...»); часто использование подзаголовка в фельетонах, присутствует он и в повестях писателя. Основная его цель - игра с читателем, в конечном итоге приводящая к авторскому отстранению от своего же слова. Однако назначение приема - и в авторском стремлении обозначить сферу, призму читательского восприятия. Используя подзаголовок «6 картин вместо рассказа», автор создает установку на изначальную фрагментарность изображаемого2. В то же время заглавие произведения сообщает ему естественную, закономерно-необходимую целостность. Моделируется становящаяся уже традиционной для Булгакова амбивалентная оппозиция «часть - целое», где одно перетекает в другое, приводя к устойчиво-миражному изображению «реальности» и героя в ней. Этим и определяется стройность и единство всех компонентов рассказа.
Каждая из его шести «картин» озаглавлена, и «построение» этих заглавий, а также их взаимодействие с текстом носит амбивалентный характер, тот же, что задан соотношением основного заглавия и подзаголовка. 1 глава - «Река и часы». В одном образе происходит соединение «неравносильных» предметностей. Их союз мотивирован существованием в одном хронотопе - хронотопе героя, поскольку описание реки и часов дается в слиянии пространственной точки зрения повествователя и персонажа. При этом последний представлен как «загадочный»: «Это был замечательный ходя ... лет 25, а может быть, и сорока? Черт его знает! Кажется, ему было 23 года» (Т, 449). Видимый мир являет себя китайцу как «чужой»: река - «чужая», «проклятая», «дурацкая». Заметим, что концепт «чужое» (в соотношении с понятием «свое», которое также присутствует в рассказе) обладает семантикой «странное, поверхностное»3, т.е. неглубокое и отстраненное. В результате исходной ситуацией вновь становится «вырванность» героя из привычной жизни, а его сознание, как и язык, никому не понятными. Название предметов, вынесенных в заглавие, является номинацией «вещности», однако «неравносильность» обусловливает их переход в сферу «распредмечивания», зыбкости. Слово повествователя, объединяясь с точкой зрения героя или описывая последнего, принципиально выделяет «развоплощение» конкретики, амбивалентные фрагменты бытия. Пример тому - изображение колокольного звона: «Колокола лепетали невнятно, вперебой, но все же было очевидно, что они хотят сыграть складно...» (Т, 450). На уровне «микротекста» реализуется основная оппозиция: «часть - целое» в аспекте «раздробленности - слаженности». Амбивалентен и портрет «ходи», воплощенный, главным образом, в его одежде: «На ходе была тогда шапка с лохматыми ушами, короткий полушубок с распоротым швом, стеганые штаны, разодранные на заднице, и великолепные желтые ботинки» (Т, 449). «Костюм» героя явно «карнавальный», он отражает «загадочную» противоречивость героя и мира. Показательно, что внешний вид «ходи» обозначается только через одежду (упоминаются также его «кривые, но жилистые ноги»). Данный момент акцентирует мотив маски, развитый в следующих главах через описание улыбок китайца.
Здесь же определяется характер отношений между повествователем и героем, который можно определить как ироническую отстраненность. Повествователь пытается создать ореол таинственности вокруг китайца, изображая его как появившегося ниоткуда и исчезающего неизвестно куда: «Никто не знает, почему загадочный ходя ... оказался на берегу реки под изгрызенной зубчатой стеной ... и ушел в неизвестном направлении» (I, 449-450). Повествователь дистанцируется от героя, оказываясь якобы не в силах объяснить его прошлое и некоторые моменты настоящего. Собственно говоря, загадочность возникает на пустом месте, предстает как мнимая тайна. «Никто не знает» о нем - да и незачем эти знания. Таинственность «снимается» и тем, что повествователь может принимать пространственную точку зрения героя, вводить в свою речь «внутреннее слово» персонажа: «Позади ходи была пустая трамвайная линия, перед ходей - ноздреватый гранит ... за лодкой эта самая проклятая река...» (I, 449). Знаменательно, что «ходя» оказывается в своего рода «центре мира», поскольку пространственные векторы направлены от него. Однако сам китаец этого не осознает: здесь явно проступает его психологическая точка зрения, отражающая восприятие собственного положения как трагического, «на краю» бытия, а не в его «центре». Но эта позиция диалогизируется отстраняющим голосом повествователя: «эта самая». «Трагичность» «снимается», «развоплоща-ется», преобразуясь в некую норму, естественное состояние мироустройства. Единичная история перестает быть чем-то уникальным, а становится закономерной обыденностью. Это обстоятельство возвращает нас к проблеме «часть -целое», которая в обозначенной ситуации приобретает «приращенный» смысл -«уникальное - обыденное». Название 2 главы - «Черный дым. Хрустальный зал» - в еще большей степени, чем первой, реализует изначальные установки. Двойное заглавие структурно соотносится с двойной номинацией самого произведения и явно обусловливает сюжетное развитие второй «картины».
Хронотоп, в котором оказывается «ходя», теперь определяется как «окраина», что соответствует его реальным ощущениям и соотносится с судьбой героя в целом, пребыванием в «поверхностной» для него реальности. Примечательно, что он находится в «последней комнатке»: «На грязной окраине в двухэтажном домике ... за которым непосредственно открывался покрытый полосами гниющего серого снега и осколками битого рыжего кирпича пустырь. В последней комнатке по вонючему коридору, за дверью, обитой рваной в клочья клеенкой...» (Т, 450). Эпитеты с близкой семантикой создают атмосферу распада, взаимодействия жизни и смерти.
Слово повествователя вновь переходит в зону «предположений», пребывания на границе реального-ирреального. Описывая пожилого китайца, повествователь акцентирует внимание на его неопределенном возрасте: «Ему было лет 55, а может быть, и восемьдесят» (Т, 451). Ключевым понятием главы становится фраза «может быть» со своей семантикой предположения и нахождения в сфере между утверждением - отрицанием, бытием - небытием. Ничего нельзя сказать наверняка. Состояние героев охарактеризовано как «черный дым» (1 часть заглавия).
Фабульно-сюжетная структура романа в свете диалогичности
Структура романа как жанра специфична тем, что предусматривает глобальное онтологическое соотношение «человек-мир». В самой природе романной формы заложен диалог героя и окружающей действительности. Человек стремится к полноте, целостности, к достижению гармонии с самим собой и миром, однако при этом он вступает в противоречие с окружением, живущим по другим законам, отличным от его позиции. Принцип соотношения «человек-мир», заложенный в структуре романного произведения, обусловливает то, что «сначала необходимо выявить структуру художественной формы, а затем нужно попытаться понять эстетический смысл этой структуры, соотнеся ее с проблематикой произведения»1.
В романном жанре фабула, как известно, является своеобразной «матрицей», из которой происходит «вытягивание» остальных элементов «текста». Если взять фабулу в очень обобщенном виде, то мы обнаружим типологическое родство чуть ли не всей мировой романной литературы. Причем это родство выведет нас на связь романа и эпоса, а также романа и волшебной сказки.
Архаическая фабульная схема, как известно, выглядит следующим образом: исходный порядок - его нарушение - восстановление порядка. Данная схема очевидна во многих романах мировой литературы, начиная с античности. Так, в «Золотом осле» Апулея первоначальная жизнь героя нарушается его превращением в осла и связанными с этим приключениями. Пройдя через цепь испытаний, герой возвращается в исходное состояние, обретя новый опыт. Исходный порядок в романе М. де Сервантеса «Дон-Кихот» нарушается выездом рыцаря за пределы своего двора и восстанавливается возвращением домой. Выход в большой мир - это нарушение исходного порядка для многих произведений, в частности, данный момент особенно характерен для авантюрного жанра, например, для романа А.Р. Лесажа «Похождения Жиль Бласа».
Ситуация в принципе не меняется и в пору расцвета романа (19-20 века). В русской литературе 19 в. архаическая фабульная схема характерна для поэтики И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. Но при этом следует отметить, что часто происходит некоторое видоизменение этой фабулы, когда в начале сообщается о нарушении порядка, а затем начинается «предыстория», где дается исходная мироустановка. Так, например, происходит в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», где первые строки показывают настоящее (актуальное) время действия, когда Онегин мчится к дяде, после чего следует рассказ о жизни Евгения в Петербурге вплоть до момента его поездки к умирающему родственнику (что и является нарушением порядка, которое перенесено в самое начало произведения). Этот же момент характерен для романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», где уже вторая фраза указывает на нарушение порядка: «Все смешалось в доме Облонских».
В 20 веке феномен архаической фабулы проявляется по-разному. Например, она характерна для произведений М.А. Шолохова («Поднятая целина», «Тихий Дон»). В творчестве М.А. Булгакова прасхема также присутствует, но своеобразно. В «Белой гвардии» мы встречаемся с ее нарушением, когда уже в самом начале сообщается о смерти матери, тогда как в «Мастере и Маргарите» очевиден «классический» вариант (об этом свидетельствует первая фраза: «В час жаркого весеннего заката...»).
На наш взгляд, выявляется некоторая закономерность в использовании «классического» и видоизмененного вариантов «прафабулы». Если повествование в начале романа ведется с точки зрения героя, то происходит нарушение схемы, поскольку позиция героя - это отношение контакта, сближения, а «пра-фабула» характерна для эпического мира, где действуют законы дистанции. Если же начало подается с точки зрения мира «с высоты птичьего полета», то тогда обычно обнаруживается «классический» вариант фабулы. Н.Т. Рымарь отмечает «универсальные» образы в романных зачинах: погода, солнце, луна, звезды, которые характерны именно для обычной схемы2.
Что касается «Белой гвардии», то здесь следует отметить некоторую двойственность «прафабулы».
С одной стороны, представлен такой текст: «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская - вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс» (I, 179). Здесь явно вычленяются образы, названные Н.Т. Рымарем: погода, солнце, снег, звезды. К этому можно добавить двойной отсчет времени: «вечное» и «историческое», а также библейско-летописный стиль самих фраз. Очевидно, что в данном случае мы сталкиваемся с точкой зрения «мира», с позицией, представленной из космоса. Надо сказать и о том, что здесь можно провести аналогию с завязкой волшебной сказки. В.Я. Пропп отмечал, что вступление «в некотором царстве» указывает на неопределенность места действия, на совершение действия вне пространства и времени3. В зачине «Белой гвардии» присутствует указание на время, однако оно вписывается в мифологическую модель вечного времени, в круг повторяющихся событий. Что касается пространства, то, как зачин, так и весь роман не привязан к конкретному локусу (Дом и Город - универсальные понятия). Автор избегает конкретизации, поэтому правомерны заявления исследователей о том, что Город - это и весь мир, и все города - мировые центры в разное время. М. Каганская, например, дает такую интерпретацию: «петлюровщина - не что иное, как бунт давно покоренного варварского племени, нашествие варваров на Рим... »4.
Итак, очевидно, что перед нами - акцентированная автором позиция «мира». Но можно ли говорить, что одновременно вырисовывается «исходный порядок»? Нет, и это происходит потому, что Булгаков предлагает сразу две точки зрения. Автор, сообщая далее о похоронах матери, вступает в отношения контакта с героем (героями), даже выводя его (их) позицию в тексте: «Мама, светлая королева, где же ты?» (1,179).
Совмещение отношений дистанции и контакта в зачине моделирует и принцип романного мышления вообще, и принцип глубинного строения «Белой гвардии» в частности.