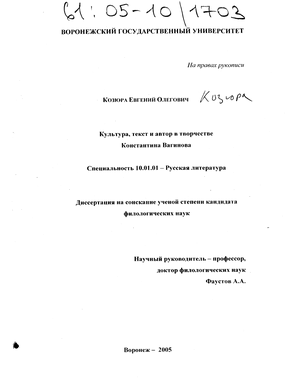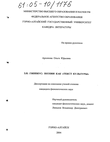Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. От «осколка культуры» к «расколотому я»: лирический субъект поэзии Константина Вагинова — стр. 20
Глава 2. «Разложение основ»: Константин Вагинов на фоне традиции символизма - стр. 60
2.1.1. Теория искусства Вяч. Иванова в поэзии Вагинова - стр. 60
2.1.2. Теория трагедии Вяч. Иванова в романе Вагинова «Козлиная песнь» - стр. 73
2.2. Гробовщик и колыбельных дел мастер («Козлиная песнь» и «Записки чудака» Андрея Белого) - стр.84
Глава 3. Автор и герои «Козлиной песни» в нумерологической и нарратологической перспективах
3.1. Числовой код романа
3.1.1.Тройки - стр. 101
3.1.2. Двойка, семерка... пятерка- стр. 113
3. 2. Структура персонажей «Козлиной песни» - стр. 132
3.3. Автор и герои - стр. 149
Заключение стр. 168
Библиография - стр. 176
- От «осколка культуры» к «расколотому я»: лирический субъект поэзии Константина Вагинова
- Теория искусства Вяч. Иванова в поэзии Вагинова
- Гробовщик и колыбельных дел мастер («Козлиная песнь» и «Записки чудака» Андрея Белого)
- Числовой код романа
Введение к работе
Цель настоящей работы - исследовать художественную интерпретацию в творчестве К. Вагинова категорий культуры, текста, автора (отчасти на фоне соответствующих символистских представлений). Цель эта предполагает решение следующих основных задач:
проследить закономерности структурирования и эволюции вагиновского лирического субъекта;
обосновать логику перехода К. Вагинова от поэзии к романной прозе;
рассмотреть рецепцию К. Вагиновым эстетических идей Вяч. Иванова;
сопоставить авторские стратегии К. Вагинова (в его романе «Козлиная песнь») и Андрея Белого (в его романе «Записки чудака»);
вскрыть «пушкинские» подтексты вагиновского творчества;
реконструировать нумерологический код романа «Козлиная песнь»;
выявить основные модели авторского поведения К. Вагинова и их воплощение в романе «Козлиная песнь». Актуальность диссертации обусловлена все возрастающим
интересом к творческому наследию К. Вагинова со стороны отечественных и зарубежных ученых, при том, что многие общие и частные проблемы его творчества остаются неисследованными.
Научная новизна работы состоит в том, что понятия культура, текст, автор впервые применяются в качестве концептуальной
системы для анализа поэзии и прозы Вагинова. Помимо этого, в работе исследуются принципиально новые аспекты взаимоотношений писателя с предшествующей литературной традицией.
Объектом и материалом исследования являются прежде всего поэзия К. Вагинова и его роман «Козлиная песнь» (1927 - 1-я редакция, 1929 - 2-я редакция); по мере необходимости мы обращаемся и к другим прозаическим произведениям писателя. Предметом исследования выступает художественный мир Вагинова, в тех его измерениях, которые означены в теме диссертации.
Методологической базой работы послужили философские и литературоведческие разыскания в следующих областях: теория автора (М. М. Бахтин, В. В. Виноградов, Б. О. Корман, А. А. Фаустов), теория повествования (Б. А. Успенский, В. Шмид), теория художественного текста (Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян), теория интертекстуальности (К. Ф. Тарановский, О. Ронен, И. П. Смирнов, М. Б. Ямпольский, Ю. Кристева).
Теоретическая значимость диссертация заключается в анализе на материале вагиновского творчества таких ключевых для понимания духовной, филологической и литературной атмосферы начала XX века категорий, как культура, текст, автор.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть использованы при разработке вузовского курса истории русской литературы XIX - XX века, чтении спецкурсов по творчеству К. Вагинова, а также при комментировании вагиновских произведений.
Апробация работы. Диссертация обсуждена на кафедре русской литературы Воронежского государственного университета. Ее основные положения докладывались на международной научной конференции «Литература и мир идей» (Воронеж, 2003) и на заседа-
ниях ежегодных научных сессий филологического факультета В ГУ в 2003 - 2005 гг. По теме диссертации опубликовано 5 работ.
Основные положения, выносимые на защиту:
Категории культуры, текста, автора являются базовыми для понимания вагиновского творчества и определения его места в литературном и философско-эстетическом горизонте современной писателю эпохи.
Творческая эволюция К. Вагинова обусловлена динамикой его воззрений на соотношение личности и культуры, автора и текста.
Поворотный этап творческой эволюции К. Вагинова- переход от лирики к романной прозе - связан с кризисом точки зрения на личность как на органическую часть культуры и формированием вгляда на культуру как на явление, неминуемо от личности отчужденное.
Концепция культуры, реализованная в романах К. Вагинова, сложилась в результате полемического отталкивания от наследия писателей-символистов, прежде всего от эстетических идей Вяч. Иванова и, в особенности, от его учения о трагедии.
Предлагаемые К Вагиновым модели авторского поведения противоречиво соотносятся с авторской стратегией Андрея Белого и связаны с различным решением вопроса о вненаходимости автора тексту и распределении полномочий между автором и героями.
Текст мыслится К. Вагиновым как феномен, творимый определенным автором в рамках определенной культуры, но
после своего завершения целиком отчуждающийся от них и не являющийся их репрезентацией. 7. Нумерологический код романа «Козлиная песнь» является формой выражения отношений, существующих между автором, героями и культурой.
Ключевыми понятиями в предлагаемом исследовании творчества Константина Вагинова будут «я» и «культура». Взаимоотношения «культуры» и «я» рассматриваются в двух планах. В одном случае «я» выступает как «реципиент» предшествующей культуры, в другом - как творец, создающий новый «элемент» культуры. Соотношение личности и культуры здесь предстает как соотношение творца и творения, автора и текста.
Заявленные темы (я и культура, автор и текст) были магистральными для русской философской и филологической мысли 1920-х годов. Поскольку обстоятельный разбор концепций разных авторов мог бы стать темой отдельного исследования, мы ограничимся констатацией «общих мест» их размышлений.
Размышления в первом из обозначенных направлений (личность и культура) развивались под знаком кризиса.
Так, Вячеслав Иванов в работе «О кризисе гуманизма (о морфологии современной культуры и психологии современности)» (1919) существеннейшей чертой современности называет кризис явления, определяя его как «разложение внутренней формы являющегося <...> Внутренняя форма предмета есть его истолкование и преобразование в нас действенным составом наших душевных сил. <...> Кризис явления состоял в том, что прежняя внутренняя форма вещей в нас обветшала и омертвела» [Иванов 1979:370]. Этот кризис вызывает у личности «чувство развоплощенности прежней внутрен-
ней формы и мертвенности ее былых покровов» [Иванов 1979:371]. Взору человека предстает лишь спадающая с мира чешуя, мертвые гиероглифы богооставленной, обмершей Земли.
Иными словами, кризис заключается в ощущении того, что у феноменального мира отсутствует «второй план», объединяющий разрозненные явления и придающий им внутренний смысл. Такую точку зрения Иванов обосновывает и в «Переписке из двух углов» (1920). В противовес своему визави М. О. Гершензону, утверждающему, что «культурное наследие» давит на личность тяжестью 60 атмосфер» [Иванов 1979:390], Иванов настаивает, что культура «есть память не только о земном и внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях <...> память <...> приобщает истинных служителей своих «инициациям» отцов и, возобновляя в них таковые, сообщает им силу новых зачатий, новых починов» [Иванов 1979:395-396].
С позицией Иванова пересекаются взгляды Андрея Белого, создавшего в начале 1920-х целый ряд «Кризисов». Так, в «Кризисе культуры» культура- это «кристаллизация живых ритмов парений», «образование материи <...> из образа, в нас нисходящего свыше из мысли» [Белый 1994:286, 289]. В основе человеческой культуры лежит импульс, момент осознания единства человеческого я с «космическим» Я. Именно этот импульс «кристаллизуется» в формы культуры. Согласно Белому, «кризисы современной культуры в смешении: цивилизации и культуры». Цивилизация же определяется как выделка из природно нам данного [Белый 1994:289]. В центре культуры ставится форма, а не порождающий ее импульс. Такое оплот-нение импульса - «порок», изначально свойственный европейской истории. Основные инструменты оплотнения - государство и церковь. До двадцатого века оплотнение импульса уравновешивалось
«воспроизводившими» его художниками и мыслителями, и последним в этом ряду был Фридрих Ницше. «Здесь кончаются русла культуры; по ним живоносныи источник протек: от второго и первого века; и до двадцатого века; тут он иссякает, тут снова должны мы свершить поворот; осознать в себе импульс». «Возвращение к импульсам Ренессанса - залог зарождения новой культуры; возвращение к пирам его, к формам его есть падение в смерть» [Белый 1994:275,277].
«Кризисное» состояние разрыва между импульсом и формою разрешается революцией - проявлением творческих сил, разрушающим омертвевшие культурные формы, превращающим их в бесформенный хаос, сквозь который «прорастают» новые - текучие - формы, приходящие на смену старым, «уплотненным» и «ороговевшим», и адекватно выводящие вовне «текучее» содержание жизни («Революция и культура», 1917).1
В иной плоскости рассматривали данную проблематику биографически близкие Вагинову мыслители «невельской школы». В пределах той же «кризисной» топики они смещают угол зрения от «метафизики» к «антропологии».
М. И. Каган называл кризис культуры «одной из самых острых проблем всего европейского внутреннего сознания» («Пауль Наторп и кризис культуры», 1922) [Каган 2004:93]. В работе «Еврейство в кризисе культуры» (1923) он пишет: «вся работа культуры ведь всегда на то и направляется, чтобы преодолеть косное безразличие уже готовой, постоянно преднаходимой хаотической или теоретически закономерной стихии природы» [Каган 2004:171].
1 «Содержание жизни текуче; оно утекло из-под форм» [Белый 19946:300].
Кризис европейской (христианской) культуры Каган усматривает в том, что в ней не было до конца преодолено языческое (пантеистическое) отношение к миру, которое «заключается в том, что оно подходит к миру как к готовому». Однако «мир вовсе еще не готов <...> все дело в созидании его и оправдании себя в очищении работою над ним не только искуплением и просветлением внутренне, человечески-природно, но и внешне, просветленно-эстетически» [Каган 2004:174]. Необходимым условием бытия культуры является ее принципиальная «неготовость», культуры всегда еще нет, она вся в будущем. Ее единственная основа в настоящем - личностное усилие, труд по ее непрерывному сотворению.
О необходимости такого личностного усилия пишет в своих ранних работах «Искусство и ответственность» (1919) и <«К философии поступка»> (1922) М. М. Бахтин.
По Бахтину, для современности характерна «дурная неслиян-ность и невзаимопроникновенность культуры и жизни» [Бахтин 2003:8]. Мир культуры и мир жизни, объективное единство культурной области и неповторимая единственность перелетаемой жизни - это «два мира, абсолютно не сообщающиеся и не проницаемые друг для друга» [Бахтин 2003:7].
Бахтин сравнивает такую ситуацию с двуликим Янусом: «нет единого и единственного плана, где оба лика взаимно себя определяли бы отношению к одному единственному единству» [Бахтин 2003:7-8]. Этим единственным единством может быть только событие свершаемого бытия, в котором оба плана объединяются ответственным поступком личности. «Три области человеческой культуры - наука, искусство и жизнь - обретают единство только в личности, которая приобщает их к своему единству». «Искусство и
жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности» [Бахтин 2003:5,6].
Размышлениям о смысловых основаниях культуры параллельны теоретико-литературные исследования, посвященные изучению «скрытого» центра художественного текста.
Ю. Н. Тынянов, вводя в статье «Блок» (1921) понятие лирического героя, писал: «когда говорят о его [Блока - Е.К.] поэзии, почти всегда за поэзией невольно подставляют человеческое лицо <...> Эмоциональные нити, которые идут непосредственно от поэзии Блока, стремятся сосредоточиться, воплотиться, и приводят к человеческому лицу за нею» [Тынянов 1977:119, 123]. Лирику Блока в единый Текст организует лицо лирического героя, не выводимое из отдельного текста и не сводимое к реальному автору-человеку.
Немного позже, во второй половине 20-х гожов, В. В. Виноградов начинает детально разрабатывать понятие образа автора. Образ автора «сквозит в художественном произведении всегда. В ткани слов, в приемах изображения ощущается его лик. <...> Это -своеобразный «актерский» лик писателя <...> его структура определяется не психологическим укладом данного писателя, а его эстети-ко-метафизическими воззрениями» [Виноградов 1980:311]. В произведении образ автора реализуется в художественной игре масок [Виноградов 1980:341], непосредственно в тексте явлены лишь лики писательской личности [Виноградов 1980:333].
У обоих исследователей автор «центрирует» текст, но в то же время пребывает как бы в некоем «параллельном мире» по отношению к тексту. Текст предстает своеобразной эманацией авторской личности.
Альтернативную точку зрения на организующее начало текста предлагал М. М. Бахтин. В работе <«Автор и герой в эстетиче-
ской деятельности»> (1922-24) Бахтин также пишет о «вненаходи-мости» автора, автор «должен находиться на границе создаваемого им мира, как активный творец его» [Бахтин 2003:248]. Но «автор не может и не должен определиться для нас как лицо», автор это «активная индивидуальность видения и оформления, а не видимая и не оформленная индивидуальность», «единственно активная формирующая энергия», «момент произведения» [Бахтин 2003:261, 91, 93]. В противовес «статичному» автору Виноградова автор Бахтина -динамический принцип, «участник» эстетического события, не «сквозящий» в героях, а «оформляющий» их. Автор не выражает себя в героях, а завершает героев, не порождает их из себя, а предна-ходит, борясь с упругой, непроницаемой внехудожественной реальностью героя.
Характерное для современной теоретической мысли восприятие исследовательских текстов как одной из форм самоописания литературы [Михайлов 1997] позволяет нам анализировать творчество К. Вагинова, опираясь, в первую очередь, на те «константы», которые мы выделили в литературоведческих и философских работах его современников.
Обозначенные проблемы не раз уже привлекали внимание ученых. Темы культуры и «авторствования» - центральные для романа «Козлиная песнь», которому посвящено подавляющее большинство работ филологов, обращавшихся к творчеству писателя. Зачастую «Козлиная песнь» рассматривается как «ключ» ко всему ва-гиновскому творчеству.
Проблему культуры (и текста как части культуры) в своих работах затрагивали Л.Н. Чертков, Т.Л. Никольская, А.Г. Герасимова, О.В. Шиндина, Д. С. Московская, СМ. Панич, А.Л. Дмитренко,
Е.А. Подшивалова, А. Скидан, М. Бологова, A. Anemone, D. von Heyl. Проблему автора (и текста, в его связи с автором), и «родственную» ей проблему творчества рассматривали те же А.Г. Герасимова, О.В. Шиндина, Е.А. Подшивалова, а так же Д.Л. Шукуров, С. Сойнов, М. Романович, G. Roberts, Е. Tichomirova. Мы рассмотрим наиболее развернутые точки зрения.
А. Г. Герасимова, предложившая одну из первых попыток целостного рассмотрения вагиновского творческого пути, пишет о почтительности «эрудита-книжника по отношению к культурным реалиям прошлого» [Герасимова 1989:131]. «Внешне принадлежа своему времени, он на деле существовал в живых для него мирах культур далекого прошлого, таких, как эллинизм и испанское барокко, итальянское Возрождение и французское Просвещение» [Герасимова 1989:132]. Культура предстает абсолютной антитезой действительности, личность, не находящая своего места в мире жизни (исследовательница пишет о присущем Вагинову ощущении ничей-ности, подвешенности в пустоте) обретает полноценное бытие в мире культуры.
Вопрос о категории автора в творчестве писателя также был поставлен А.Г. Герасимовой в психолого-биографическом ключе, в связи с проблемой перехода Вагинова от поэзии к прозе. «Проза Ватинова - попытка понять и, наверное, преодолеть самого себя, свое непонятное, мучительное искусство. Лирический герой его стихов в прозе объективируется, остраняется от своего создателя, распадается на персонажи, в каждом из которых - частица автора. Теперь за ними можно понаблюдать, над ними можно смеяться» [Герасимова 1989:145]. Таким образом, написание текста оказывается для писателя своеобразной автопсихотерапевтической процедурой, в этом же плане осмысляется и специфика авторствования.
Основы наиболее распространенной интерпретации романа «Козлиная песнь» были заложены в ряде работ О.В. Шиндиной ([Шиндина 1989; 1991; 1992; 2000]). По мнению исследовательницы, сближающей (если не отождествляющей) мировоззрение Вагинова с мировоззрением акмеистов (в первую очередь О.Э. Мандельштама) «Козлиная песнь» «стала одним из ярчайших образцов той художественной традиции, которая превратила литературный текст в средство сохранения культурной информации в перспективе бытия, в средство противостояния надвигающемуся разрушению личности и мира» [Шиндина 1991:169]. Преодоление распада возможно путем «создания романа, полностью «проживающего» этот распад, разыгрывающего его и тем самым воспроизводящего семиотический механизм накопления, хранения и передачи культурной информации» [Там же]. Такое «воспроизведение» осуществляется за счет структурного подобия романа архаической трагедии, в свою очередь «разыгрывающей» миф об умирающем и воскресающем боге, Дионисе.
Находящемуся «в центре» трагического действа страдающему богу-жертве в романе соответствует персонифицированный автор, называемый исследовательницей образом автора, «эманациями личности» которого она считает всех прочих героев [Шиндина 1991:163]. Первостепенную роль здесь играет деление романного пространства на два мира: «мир профанический (исторически узнаваемая реальность) и мир сакральный (пространство культуры)» [Шиндина 1991:164]. Все персонажи «ипостасно» распределяются по этим мирам, оказываясь двойниками друг друга. Соотношение же образа автора с ними, а также с самим писателем организована как цепочка своеобразных «подмен»: «написание романа ОА [образ автора - Е.К.] превращает в своего рода средство «заговорить» судьбу
автора» [Шиндина 1989:157]; «реальный автор отчасти заменяет себя персонажем ОА, которому, в свою очередь, удается избежать смерти за счет принесения в жертву НП [неизвестного поэта - Е.К.], несущего в себе черты как ОА, так и самого писателя» [Шиндина 1991:162]. Распадаясь на «театральных» профанических двойников, автор «на деле» сохраняет свою целостность. Равно и культуру, переживающую распад в мире действительности, ожидает возрождение в тексте романа.
Схожим образом рассматривает творчество Вагинова-прозаика немецкая славистка Daniela von Heyl [Von Heyl 1993]. Анализируя первый прозаический опыт Вагинова, «Монастырь Господа нашего Аполлона», исследовательница (опираясь на истолкование акмеистической поэтики, предпринятое Р. Лахманн в книге «Gedachtnis und Literatur») «конструирует» модель взаимодействия художника и культуры, отражающую, по ее мнению, воззрения самого писателя. Ключевым здесь оказывается понятие «макропространства культуры» (der Makroraum der Kultur). В этом пространстве одновременно сосуществуют все культуры и эпохи человеческой истории, и любое новое явление культуры лишь возрождает этот «предвечный» континуум /15-16/. Солидаризуясь с О.В. Шиндиной, D. Von Heyl считает, что сакральному пространству культуры в романе противостоит «профанное» пространство действительности. Художник, центральная фигура в этой картине мира, находится на границе двух пространств. В каждом новом его творении оживают все предшествующие культуры, выражая себя в искусстве, он одновременно «открывает» макропространство культуры /22/.
Значимость этой оппозиции в структуре романа рассматривается также в работе [Панич 1994J.
В «Козлиной песни» такое миросозерцание воплощает неизвестный поэт, чьи творческие принципы исследовательница подробно описывает /24-31/. Трагедию этого персонажа D. Von Heyl видит в его абсолютном отрыве от действительности. Пытаясь создать в своей поэзии «гармонический аналог действительности» /30/, он полностью замыкается в своем внутреннем мире. Обнаруживая же реальное несоответствие «искусства и жизни», неизвестный поэт утрачивает веру в возрождение и полностью переходит в «ведомство» профанной действительности. В качестве антипода и двойника неизвестного поэта исследовательница называет Андрея Свистонова из «Трудов и дней Свистонова», чьи художнические принципы базируются на скрупулезном переносе в текст как можно большего числа объектов реального мира /32-39/.
Антитеза искусства и действительности служит основой для рассуждений немецкой славистки об авторском начале в тексте. «Соединяя» персонажей двух романов («Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова») в цепочки двойников, распределяемых по сакральному и профанному пространствам, центром этого «кабинета зеркал» (Spiegel kabinett) она считает «реального автора», самого Ватинова /39/. Все герои оказываются лишь его масками /55/, к нему восходят все ряды двойников /48/. При помощи героев-масок осуществляется диалог между «Вагиновым-поэтом» и «Вагиновым-прозаиком», писатель иронически объективирует свои поэтическое и прозаическое «я». В этом «игривом и свободном диалоге с самим собой» писатель осмысляет свой переход от поэзии к прозе, а также отношения искусства и действительности в целом /53/.
«Козлиной песни» посвящен отдельный раздел (по сути, монографическое исследование) книги Е.А. Подшиваловой, озаглав-
ленный «В словохранилищах блуждаю я...». Принципы организации поэтического языка и функция жанровой модели архаической трагедии в романе Константина Вагинова «Козлиная песнь»» [Подшива-лова 2002:382-468]. По (итоговому) мнению Е.А. Подшиваловой, «К. Вагинов посредством романа сделал художественный анализ тех смыслов, которые прожила литература в конце XIX - первой половине XX веков. Ценность этого анализа заключается в том, что он был осуществлен на языке, спродуцированном типами описываемых культур» /458/. Соответственно, «Козлиная песнь» это «текст, который был призван «склеить» разорвавшиеся «позвонки» культуры и стал мостом над пропастью» /460/.
По мнению Е. А. Подшиваловой, роман Вагинова обращен к предшествующей (символистской) литературе (культуре), использует ее тексты (Текст) в качестве своего языка. Этот язык рассматривается писателем как носитель эстетических смыслов, поэтому особенности поэтики отдельных символистских текстов для него не релевантны. Аллюзии на эти тексты служат лишь знаками общекультурного языка, отсылающего к универсальной сфере смыслов. «Поэтому чужие тексты в ткани вагиновского романа не мыслятся как чуждые» /384/. В основном Вагинов черпает из двух источников -творческих миров (и «мифологизированных» биографий) Александра Блока и Андрея Белого.
Поскольку в центре символистской картины мира стоял Поэт, то и «семантическим ядром романа является автор» /384/. «Универсальный творец, Поэт отчуждается от самого себя через создаваемые образы. Они находятся в разной степени отдаленности от своего создателя, но они - его порождение, часть его души<...> и автор, представленный в качестве персонажа произведения, и повествова-
тель, рассказывающий о героях, и сами герои, проявляющие себя как художники - одно лицо» /439,441/.
Признавая справедливость и ценность многих наблюдений, сделанных в рассмотренных выше исследованиях, мы тем не менее не разделяем предложенных в них концепций культуры и «авторст-вования» в творчестве Вагинова. С нашей точки зрения, подобные модели применимы лишь при реконструкции «представлений» персонажей романа и решительно расходятся с взглядами собственно авторскими. (Характерно, что О.В. Шиндина, сравнивая «поэтологи-ческие» воззрения Вагинова и Гумилева, позицию Вагинова восстанавливает с опорой исключительно на высказывания неизвестного поэта [Шиндина 1992]).
Иную точку зрения на творчество Константина Вагинова занимает английский литературовед Graham Roberts.В книге [Roberts 1997] Вагинов (а также Д.И. Хармс и А.И. Введенский) рассматривается как фигура, стоящая на границе между литературой модер-низма и постмодернизма. В частности, в первой главе исследования («Authors and authority», pp.22-74) анализируется «ревизия» названными писателями восходящих к эпохе романтизма воззрений на автора как на всемогущего творца, создателя произведений, отмеченных печатью его индивидуальности.
От «осколка культуры» к «расколотому я»: лирический субъект поэзии Константина Вагинова
Первым объектом нашего исследования будет обширный корпус юношеских стихотворений Вагинова (так называемая «парчовая тетрадь»), относящихся к 1917 году и при жизни поэта не печатавшихся. В 1921 году Вагинов подарил альбом с этими стихами своему другу К. М. Маньковскому, не оставив себе копии. Всего альбом содержит в себе 96 текстов, т. е. примерно треть всего стихотворного наследия Вагинова.
Т. Л. Никольская верно отметила, что в ранних стихах уже присутствуют центральные темы вагиновского творчества - «судьба культуры в современном мире, Петербург как хранитель европейской культуры, гибель античных богов» [Никольская 1988: 68].
Ранние тексты отличаются от поздних не только степенью стилистической искушенности автора. Весьма значимы и отличия в поэтике. Принципы вагиновской лирики 1920-х годов были с большой степенью точности определены еще Б. Я. Бухштабом: «Из хаоса образов появляются темы. Они неясны и в отдельном стихотворении неощутимы. Но образы идут из стиха в стих, набираются на общие стержни и так создают темы» [Бухштаб 2000: 351]. Бухштаб отмечает невозможность понимания отдельного вагиновского текста без обращения к другим. На этом же основании современный исследователь постулирует необходимость применения к анализу вагиновского творчества методов анализа, выработанных «семантической поэтикой» [Дмитренко 1997: 191].
В текстах из альбома, подаренного К. М. Маньковскому, нет такой развитой системы лексических соответствий (мотивов), предрасполагающей к рассмотрению всего корпуса стихотворений как одного Текста. В юношеских стихах лексика «детерминирована» темой отдельного текста и не содержит «скрытых смыслов». Некоторые образы, конечно, повторяются (напр., сфинксы, башня), но на их основе нельзя реконструировать какие-либо эксплицитно не выраженные мифологемы.
Стоит отметить и большой удельный вес ролевой лирики. «Лицо», которому принадлежит такой текст-монолог, зачастую называется в заглавии: «[Эротоман]» /176/, «Современный поэт» /180/, «Опиофаг» /180/, «Мечтатель» /185-186/. Причем лирический субъект ряда текстов явно не предполагает идентификации с автором: «Из дневника девушки» /175-176/, «Старая дева» /176/, «Кокотка» /178/, «Я купила себе красной герани...» /201/.
В большинстве случаев «субъект речи» не заявлен в названии, но и тогда текст имеет целью создание образа некоего «я». Монолог «я» представляет собой своеобразное самоописание или даже самоконструирование. Особую модификацию подобной текстопо-рождающей стратегии образуют произведения, в которых лирический субъект конструирует чужой образ. Этот образ может фигурировать в тексте как «лирическое ты»: «Грациозная кошечка и полудева, / При которой можно говорить обо всем ... Твое сердце - это воздушный замок» /177/, «Вы цветок фарфоровый и нежный, / Украшение красивых будуаров» /178/, «Нерон! Нерон, я один тебя понимаю» /194/, «О, Бодлер! Мой царственный любовник, / Умирающее дитя многих веков» /205/, «Ты - раковина неведомого моря, / Сохранившая моря прибой» /211/. Может подаваться чужой образ и «в третьем лице», в качестве отстраненного от автора «объекта» описания: «Старуха гладила морщинистые сосцы, / Хлопала себя по отвислому животу» /180/, «Он построил великолепную башню / Из красивых, голубых планет» /182/, «У женщины есть нежные, пушистые крылья, / Это - ее розовые, как бутоны, бедра» /193/, «Перед зеркалом сидит Аполлон ... Сидит он в белокуром парике / И пудрит пожелтевшее лицо» /205/. Автор как будто перебирает возможных лирических героев своего художественного мира.
Итак, текст служит, прежде всего, для репрезентации образа личности, и альбом Маньковского предлагает целую галерею «воображаемых я». Обратившись к приемам построения таких «я», отметим, что поэт словно стремится «собрать» их из элементов «окружающей среды». «Я» может прямо отождествляться с «фрагментами» предметного мира («Моя душа - это старая заглохшая столица, / Моя душа - это склеп изо льда» /173/, «Моя душа - это пыльная библиотека» /184/, «Я - фарфоровая куколка - не человек» /191/) или определяться через свои действия относительно этого мира («Я -обладатель старых фимиамов» /180/, «Я построил себе из слоновой кости башню» /181/, «Мне не надо ни вкусной пиши, / Ни красивой девочки в шелестящем платье» /185/, «Я тоскую по умирающей мебели» /206/). Субъект создает себя только через мир.
Но мир ранних стихов Вагинова предельно дисгармоничен, что может принимать форму нарочито примитивной оппозитивности явлений этого мира: «Худенький котенок умрет на панели - / Он никому не нужен! / Толстый ребенок, кончив ужин, / Будет валяться в колыбели» /189/, «Вы ехали в роскошной, изысканной коляске, / Вы ехали с лорнетом и собачкой, / А я стоял в мечте о вашей ласке / И ждал ничтожной маленькой подачки» /179/, «Здесь не ласточка вьет гнездо, / А уныло скрипят засовы» /183/.
Теория искусства Вяч. Иванова в поэзии Вагинова
Мы уже называли статью Иванова «Поэт и чернь» среди подтекстов вагиновской «Поэмы квадратов». Ряд других примеров свидетельствует о том, что эстетическая теория Иванова не раз служила для Вагинова предметом поэтической рефлексии.
Присущее Вячеславу Иванову «глубокое интуитивное переживание культурного преемства и связи с веками ... внутреннее ... ощущение единства всей человеческой культуры»23 [Аверин-цев 1976: 20-21] выглядит как полная антитеза тому восприятию культуры, которое начинает складываться у Вагинова к середине 20-х годов. И выбор именно Вячеслава Иванова в качестве контрастного фона собственных художнических построений оказывается для Вагинова более чем закономерным.
Принципиально важным в этом аспекте представляется стихотворение «Отшельники» (1924), названное Вагиновым «повествованием о трех ипостасях» [Вагинов 1982:211].
«Ипостаси» заявлены в самом начале стихотворения, обыгрывающем строки из «Сна в летнюю ночь»: «Отшельники, три-станы и поэты,/ Пылающие силой вещества - / Три разных рукава в снующих дебрях мира/ Прикованных к ластящемуся дну» /60/. Мотив рукава эксплицирует медиативный характер ипостасей: они призваны «перекачивать» вещество ластящегося дна вверх. Это подчеркивается и реминисценцией из оды Г. Р. Державина «Бог» (ср.: «Пылающие силой вещества» и «Я связь миров, повсюду сущих, / Я крайня степень вещества» [Державин 2002:57]).
Вагиновский текст «сцеплен» рядом соотносимых конструкций, маркирующих «переходы» между двумя «мирами»: «Среди людей я плыл по морю жизни» & «Среди пустынь вдруг очутился я». Границы мира «отшельников» маркируются еще и такой конструкцией: «Зеленых крон все тише шелестенье» /60/ & «Зеленых крон все громче шелестенье» /62/. Шелестенью в мире «ипостасей» соответствует членораздельная речь — монологи всех трех ипостасей (следующие, кстати сказать, в обратном первой строке порядке: поэт, тристан, отшельник).
С медиативным характером ипостасей связана и насыщенность стихотворения образами «пустот». Мир «отшельников» определяется как пустыня, и соответствующие мотивы сопровождают всех «героев» текста. Рассмотрим монолог поэта: «И слышу песнь во тьме руин высоких, / В рядах колонн без лавра и плюща: «Пустынна жизнь среди Пальмир несчастных, / Где молодость, как виноград, цвела / В руках умелых садовода / Без лиц в трех лицах божества» (последний стих - прямая цитата из державинского «Бога»).
Мотив винограда задает иной план медиативности, который можно назвать «монадологическим». Любое творение здесь восходит к некоему высшему источнику {садоводу): «солнце виноградарем стоит» (50) (ср. у Державина: «Во мне себя изображаешь, / Как солнце в малой капле вод»).
Основные мотивы рассматриваемого текста отсылают к эстетической теории Вячеслава Иванова. Так, сам образ пустыни играет важную роль в его работе «О границах искусства». Пустыня (пустота) у Иванова — некая сфера, где оказывается восходящий дух художника, уже отделившийся от «низшей реальности», «удаление творческого духа в область трансцендентную действительности» /642/. И лишь тому, «кто действительно поднялся путем отчуждающего восхождения до подлинной пустоты, до суровой пустыни, могут открыться за ее пределами ... начертания высших реальностей» /643/.
Сама задача художника, по Иванову, заключается в соединении «дольнего и горнего миров», в освобождении материи, воплощающей «откровение высших реальностей» /646/. Функция худож-ника — лишь функция посредника, послушного зову скрытого в материи начала: «Томление художника и томление вещества, ему послушного, одно и то же: оба тоскуют по живой, не символической жизни ... Вещество же делает больше, чем, так называемый, «творец» и «поэт» ... оно ... являет свою волю последовать за духом по тайным путям его» /647/. В вагиновском стихотворении с этим пересекается образ вещества ластящегося дна.
На первый взгляд, «вертикальные» мотивы {высокие руины, ряды колонн, столп в пустыне) вагиновского текста реализуют подобную же коммуникацию «верха» и «низа». Однако столп в пустыне (сквозной мотив текста) — символ «акоммуникативного» искусства.30 Руины репрезентируют порванную связь двух «миров», ее отсутствие hie et nunc. Высокие руины — это своего рода «сломанные» колонны, больше не контактирующие с высшими реальностями. Колонны без лавра и плюща также вписываются в эту «тематическую кривую» — это атрибуты поэта из одноименного стихотворения Иванова («Ты музами, поэт, наставлен и привык / Их мере подчинять свой голос своенравный. II Зане ты сердце сжег и дал богам язык, / Тебе судили лавр, пророческий и славный, IС плющом, что
Пинд взростил и Киферон дубравной / Вещуньи Памяти и матери Музык» [Иванов 1974:498-499]). И отсутствие этих атрибутов у вагановского персонажа маркирует нарушение его «поэтической функции».
Изменяется у Вагинова и направление коммуникации, которая становится «нисхождением без восхождения», уносящим соприкоснувшегося с руинами в «дотварное» состояние: «Неутолимы и ясны, / Выходят из развалин пары / И вспыхивают на порогах мглы» /61/. В «Символике эстетических начал» Иванов говорит о хаосе: «[в нем] нет разлуки пола ... хаотическая сфера — область двуполого, мужеженского Диониса» /829/. Таким образом, вспыхивающие пары, соприкасаясь с мглой, сливаются воедино.
Гробовщик и колыбельных дел мастер («Козлиная песнь» и «Записки чудака» Андрея Белого)
Если в центре «ивановского» сюжета «Козлиной песни» стояла проблема взаимосвязей индивида и культуры, то «на материале» прозы Андрея Белого Вагинов рассматривал отношения личности с творимым ей текстом. Понятия «личности», «я», «сознания» и «самосознания», интересовавшие Белого с самого начала его литературной (и - шире - культурной) деятельности, в 20-е годы делаются главным предметом его занятий. Здесь следует упомянуть замысел «Эпопеи «Я», частями которого должны были выступать романы «Котик Летаев» и «Крещеный китаец», а также написание фундаментального трактата «Душа самосознающая» (1925). Входит в этот ряд и роман «Записки чудака», скрытая «полемика» с которым со ставляет один из существеннейших интертекстуальных пластов «Козлиной песни» (в особенности, первой редакции романа).49
«Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается - автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер ... Вот сейчас автор готовит гробик двадцати семи годам своей жизни» /16/.
Так в «Предисловии, произнесенном появляющимся посреди книги автором» Вагинов определяет «творческий принцип», лежащий в основе «Козлиной песни». Близкий пассаж есть в стихотворении «Я стал просвечивающей формой...», опубликованном в том же году (1927), что и журнальный вариант романа: Я сам сижу На облучке, Поп впереди - за мною гроб, В нем тот же я - совсем другой» /87/.
Автоинтертекстуальность «Предисловия» подчеркивает значимость для Вагинова подобной позиции. Однако «Предисловие» отсылает также к творческой стратегии другого писателя, и эту стратегию необходимо иметь в виду при анализе «Козлиной песни».
Процитированный выше фрагмент содержит в себе аллюзию и на «Записки чудака». В открывающей «Записки» главе «На холме» их герой (он же Автор) сообщает о себе: «Казалося мне, что все прошлое миновало бесследно; там где-то при переезде из Христиании умер писатель; и «Леонид Ледяной» труп былого; мой труп хоронили в России: Иванов, Булгаков, Бердяев, Бальмонт, Мережковский; не было никогда - Петербурга, Москвы; то - был сон, от которого я просыпался в веселую шлепотню молотков» [Белый 1997:283].3 (Отметим попутно, что просыпающийся автор есть и в романе Вагинова /78/).
Итак, если Автор «Козлиной песни» «хоронит» себя сам, то Автор «Записок» предоставляет делать это своим бывшим коллегам. Вообще, с «мертвыми телами» оба автора обращаются совершенно противоположным образом.3 Вагиновский Автор «любит ... своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготовляет, кружев по случаю достает» /15/. Автор же из романа Андрея Белого декларирует: «и я ухожу от вас - пышные, сильные и богатые мертвецы обреченной на гибель действительности» /311/. Но разница между двумя Авторами этим не исчерпывается.
Главное событие, происходящее с Автором «Записок чудака», - раскрытие им в себе «над-индивидуального Я». По-другому это Я в «Записках» обозначается как младенец: «звезда привела меня к яслям; там, в «яслях», младенец лежал. // Событие неописуемой важности заключалося в том, каким образом я убедился, что этот «младенец» есть «я» ... во мне, человеке,родился теперь человек. Был он, правда, младенцем еще, но я нянчился с ним, я любил его» /310/. Герой-Автор «Записок чудака» и оказывается колыбельных дел мастером, противопоставленным в вагиновском «Предисловии» гробовщику.
И внутритекстовое Я Белого, и Автор Вагинова подчеркнуто дистанцированы их «биографическими» создателями. Андрей Белый (в главке «Вместо предисловия») пишет: «Герой пролога «Я»; этот «Я», или это «Я» не имеет же никакого касания к «Я» автора; автор «пролога» Андрей Белый; герой пролога - Леонид Ледяной; этим все сказано: Леонид Ледяной - не Андрей Белый /280/. В свою очередь, Вагинов в «Предисловии, написанном реальным автором на берегу Невы» (впрочем, для печати писателем не предназначавшимся) говорит о том же: «Автор в следующих предисловиях и книге является таким же действующим лицом, как и остальные, и поэтому, если можешь, не соотноси его с реально существующим автором, ограничься тем, что дано в книге, и не выходи за ее пределы»/461/.
Для Андрея Белого написание «Записок чудака», создание их героя являются своеобразной формой автопсихотерапии, о чем он пишет в «Послесловии»: «я, проходя чрез болезнь, из которой для многих исхода нет, - победил свою "mania", изобразив объективно ее» /493/; «я остался здоров, сбросив шкуру с себя; и - возрождаясь к здоровью» /494/.
Аналогичную «объективацию» производит и внутритекстовый Автор. Ведь если автор Андрей Белый утверждает, что присутствует в тексте - не он, а Леонид Ледяной, то герой-Автор признавать себя Леонидом Ледяным отказывается. Последний оказывается тоже своего рода «болезнью», одержимостью, он - тень, узурпировавшая подлинное Я: «я - стал фикцией, оклеветанной литературной тенью, пользовавшейся моими руками, ногами и голосом для появления своего на подмостках публичной арены» /310/. Поэтому Автор, осознавший себя как «космическое» Я, преодолевшее узкие «земные» рамки, воспринимает Леонида Ледяного отстраненно, как нечто внешнее: в тексте он фигурирует как тело (труп).
И «реальный», и фиктивный авторы манифестируют свое превосходство над своими предыдущими «инкарнациями», хотя относятся к ним неодинаково. Андрей Белый утверждает, что ««Записки Чудака» — сатира на самого, на пережитое лично»» /494/, но в то же время не зачеркивает этот эпизод своей биографии и даже подчеркивает его принципиальную важность для себя: «Я прошел сквозь болезнь, где упали в безумии Фридрих Ницше, великолепнейший Шуман и Гельдерлин» /494/. Герой-Автор «Записок» отказывает минувшему в существовании: для него все прошлое миновало бесследно, Петербурга никогда не было. Если Андрей Белый изгоняет свое прошлое в текст, объективирует «больную» частицу собственной личности, переводя ее изнутри вовне, то его герой-Автор прошлое трактует как некий внешний «налет», мешавший проявлению истинного Я. Поэтому прошлое подлежит абсолютной отмене.
Числовой код романа
Одной из существеннейших черт повествования «Козлиной песни» является наличие в ней развитого числового кода. В рамках этого кода выделяются два «субкода», различающиеся как своим «цифровым» составом, так и функциями. В первом случае единственным элементом кода является число три, «мифологизация» которого имела место еще в лирике Вагинова. Составляющие второго «субкода» - два, пять и семь - восходят к одному из претекстов «Козлиной песни», пушкинской «Пиковой даме».
Наиболее ранний пример «троичной мифологии» у Вагинова обнаруживается в стихотворном цикле «Ночь на Литейном» (1922): «Давно легли рассеянные пальцы / На плечи детские и на бедро твое / И позабыл и волк, и волхв и лирник I Гортанный клекот лиры боевой» /43/. Развернутое «тройное» определение относится к лирическому субъекту стихотворения, который воспринимается как «трехли-кий».62 И эта «трехликость» связана с «аполлоновским» субстратом вагиновского творчества: в греческой мифологии волк «имел ближайшее отношение к Аполлону» [Лосев 1957:42] , связь же Аполлона со сферами волхеованья и лирничества особых комментариев не требует .
Для полноты анализа стоит привести пассаж с противоположной логикой: «Я променял весь дивный гул природы / На звук трехмерный, бережный, простой, I Но помнит он далекие народы / И треск травы и волн далекий бой» /47/.
В обоих случаях троичность связана с памятью об исчезнувшем мире и противостоит реальности, жизни (репрезентируемой, в частности, женщиной).
Уже разбиравшееся в первой главе стихотворение «Отшельники» персонифицирует троичность в облике трех ипостасей - путей соединения горнего и дольнего миров, являющегося условием порождения нового творения. Но, как мы уже видели, ипостаси предстают в «неработающем» виде
В дальнейшем на троичные конструкции нанизываются мотивы, восходящие к «Отшельникам»: «Его же голос, сидя в пышном доме, / Кивал ему, и пел, и рвался сквозь окно» (1923) /55/. Так, например, в сочетании рвался сквозь окно соединяются мотивы три-стана (стремление к воссоединению) и отшельника {окно - стекло, замкнутость).
Другой контекст представляет иронический вариант «отшельничества»: «И мы по опустевшему паркету / Подходим к просветлевшим зеркалам ... / И в глубине, в переливающемся зале, / Танцуют, ходят, говорят./ Один сквозь ручку к даме гнется, / Другой медлительно следит /За собственным отображеньем, /А третий у камина спит /И видит Рима разрушенье»66 (1926) /79/.
Характерно, что лирический субъект в троичную структуру не включается - она существует в «ином мире». Это навсегда исчезнувший «путь» медиации; даже связь с ним самим для человека не представляется возможной.
Любые попытки воспроизведения троичности обречены на провал, что и демонстрирует стихотворение, посвященное тщетным попыткам восхождения: «Среди равнин равнина я I Неотделимая. То соберется комом, / То лесом изойдет, то прошумит травой / Не человек: ни взмахи волн, ни стоны, / Ни грохот волн и отраженье волн» (1923) /53/. Тянущийся вверх лирический субъект не соединяется с высшими реальностями и, соответственно, не может вызвать из волн нового творения.
Конкретно-исторической версией этой ситуации мы завершим беглый обзор «поэтической» троичности: «Пред разноцветною толпою / Летящих пар по вечерам, / Под брызги рук ночных таперов / Нас было четверо: / Спирит с тяжелым трупом души своей, / Белогвардейский капитан / С неудержимой к родине любовью, / Тяжелоглазый поп, /Молящийся над кровью, / И я, сосуд пустой / С растекшейся во все и вся душою. / Далекий свет чуть горы освещал / И вывески белели на жилищах, / Когда из дома вышли трое в ряд и побрели по пепелищу» (1925) /65/.
Брызги рук таперов, профанирующие «музыкальность» и «пеннорожденность» Венеры, задают камертон ситуации: вместо сотворения нового - (бесконечное) повторение, «проигрывание» одного и того же. Этим и занимается легко вычленяемая из «тетрады» триада героев стихотворения. Намертво «прикованные» к исчезнувшему «старому миру», они словно не замечают его гибели (ср. определение тяжелоглазый), продолжая вести себя так, как будто ничего не изменилось, вновь и вновь возвращаясь к пепелищу.
Троичные конструкции в «Козлиной песни» функционируют с «оглядкой» на «поэтическую» троичность. Как и в поэзии, троичность связана с поэтическим творчеством: «Снова, как коробочки, для него раскрывались слова. Он входил в каждую коробочку, в которой дна не оказывалось, и выходил на простор и оказывался во храме сидящим на треножнике, одновременно и изрекающим, и записывающим, и упорядочивающим свои записи в стих» /129/. Поэзия наделяется жреческими, аполлинийскими чертами (треножник).
Процитированный фрагмент стоит сопоставить со стихотворным: «Ты подбирай слова, и приручай, и пой» /58/. В романе же имеется вариант с отрицательным знаком: «Вот человек [Сентябрь -Е.К. ], - думал он [неизвестный поэт - Е.К.], - у которого было в руках безумие и он не обуздал его, не понял его, не заставил служить человечеству» 1ЛЪ1. (Любопытно, что аналогичным образом определял «функции» поэта А. А. Блок: «Три дела возложено на него: во-первых - освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых - привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих - внести эту гармонию во внешний мир» («О назначении поэта». Курсив Блока) [Блок 19716:519-520]).
У Вагинова троичен как творческий процесс (делящийся на три фазы), так и творческое «Я» («три ипостаси»). Троично и само «творение» (на уровне «глубинной структуры»): «возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть, другую, третью, все над сопоставленными словами думаешь. И замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами» /76/. Троичность как характеристика поэтического творчества является необходимым условием его медиативности, символизируя тотальную связность всего сущего.