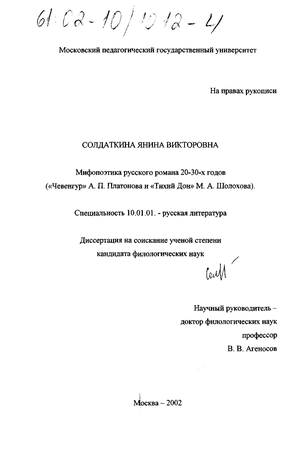Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Основные смыслообразующие мифологические образы в романе А. П. Платонова «Чевенгур» 15
1.1. Солярная мифологическая символика в романе: происхождение, семантика, функции 19
1.2. Образ земли и смежные образы: мифологические основы и их преломление в романе «Чевенгур» 34
1.3. Приемы создания оппозиции: Яков Титыч и Федор Кондаев 65
1.4. Опыт мифологического синтеза: образ Александра Дванова 75
Глава II. Христианский миф в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон»: значение и принципы использования 111
2.1. Казнь отряда Подтелкова: пасхальные мотивы 114
2.2. Мотив слепоты в романе: генезис, поэтика, особенности применения 132
2.3. Мотив верха/низа в романе: реальный и символический смысл 145
2.4. Агиографические мотивы в образе Григория Мелехова сюжетика и проблематика 170
2.5. Роль христианского мифа в системе «художественного мифологизма» романа «Тихий Дон» (обобщающие выводы) 187
Заключение 210
Библиография 230
- Солярная мифологическая символика в романе: происхождение, семантика, функции
- Образ земли и смежные образы: мифологические основы и их преломление в романе «Чевенгур»
- Казнь отряда Подтелкова: пасхальные мотивы
- Мотив слепоты в романе: генезис, поэтика, особенности применения
Введение к работе
Настоящее исследование посвящено проблемам мифопоэтики русского романа 20-х-ЗО-х годов XX, в частности романам А. П. Платонова «Чевенгур» и М. А, Шолохова «Тихий Дон». Соединительный союз, поставленный между такими персоналиями, как А. П. Платонов и М. А. Шолохов, требует специального объяснения, поскольку на первый взгляд какое-либо сопоставление официально признанного таланта Шолохова и на протяжении многих лет не понимаемого и замалчиваемого гения Платонова кажется неуместным. Нынешняя ситуация, сложившаяся вокруг каждого из них, также предполагает скорее противопоставление, чем сопоставление: если платоноведение сегодня представляет собой одно из самых бурноразвивающихся направлений изучения русской литературы XX века, то текстологические «скандалы» в соседстве с идеологической предвзятостью хоть и привлекают внимание к фигуре М. А. Шолохова, но во многом мешают вдумчивому литературоведческому изучению его творчества. Действительно, что может объединять этих авторов? Факт личного знакомства, дружбы Платонова и Шолохова, участия и помощи, оказываемой Шолоховым Платонову (благодаря заступничеству М. А. Шолохова был освобожден из заключения сын А. П. Платонова Платон, при поддержке Шолохова вышли две книги сказок Платонова («Башкирские народные сказки» (1947), «Волшебное кольцо» (1949)), сам по себе еще не дает оснований для проведения сравнительного анализа произведений А. П. Платонова и М. А. Шолохова.
Однако, первые попытки сопоставления принципов поэтики названных авторов уже предпринимались. Среди них можно назвать статью В. Н. Запевалова, анализирующую знаменитые послевоенные рассказы: «Возвращение» А. П. Платонова и «Судьбу человека» М. А. Шолохова, и указывающую на сходство тематики и проблематики этих рассказов [71; 125-
134]1; диссертацию Е. С. Конюховой, рассматривающую роман М. А. Шолохова «Поднятая целина» в контексте произведений о русской деревне 30-х годов и в рамках избранной темы упоминающую и платоновский «Котлован» (но это сравнение можно, скорее, отнести к разряду «отрицательных», поскольку Е. С. Конюхова приходит к выводу о том, что «сравнивать «Котлован» с другими произведениями не представляется возможным» [92; 89]).
Очевидно, поводом для сопоставления в обоих случаях является определенная тематическая близость сравниваемых произведений. И с этой точки зрения сопоставление «Чевенгура» и «Тихого Дона» представляется вполне допустимым и уместным: оба этих произведения посвящены проблемам революционного переустройства общества, построения новой жизни на новых основаниях, преодолевающих дисгармонию прежнего, дореволюционного мира; поискам того справедливого миропорядка, который способен удовлетворить всем строгим (а подчас и максималистским) требованиям, предъявляемым к нему героями (в частности, и путешествие по революционной России Александра Дванова, и участие Григория Мелехова в гражданской войне то на стороне красных, то на стороне белых могут пониматься как реализация семантически родственных побуждений отыскать единственно правильный миропорядок). Возможно также отметить и определенную временную соотнесенность описываемых в обоих романах событий: и в «Чевенгуре», и в «Тихом Доне» действие начинается еще до революции, продолжается в период революции и гражданской войны (первая мировая война, которой в «Тихом Доне», как произведении во многом историческом, уделено немалое внимание, в «Чевенгуре» остается практически незатронутой) и завершается попыткой установления новой, послереволюционной жизни (период военного коммунизма и НЭПа в
1 Здесь и далее первое число в квадратных скобках соответствует номеру указанной работы в библиографическом перечне, приведенном в конце диссертации, второе число -обозначает цитируемую страницу.
«Чевенгуре» и период введения продотрядов, организации колхозов в «Тихом Доне»). Однако, при всем том невозможно не обратить внимание на тот факт, что сами по себе художественные характеристики прозы Платонова и прозы Шолохова чрезвычайно разнятся, проза Платонова - проза философская, тогда как проза Шолохова - проза эпическая, что, казалось бы, априори сводит любое сопоставление художественных миров этих авторов к констатации различий и несходств.
Поэтому, на наш взгляд, более продуктивным может оказаться иной подход к сопоставлению: данная работа сосредоточит внимание исключительно на изучении вопросов мифопоэтики этих произведений. Понятия «мифопоэтика», «мифопоэтическое», спорадически возникающие в современном литературоведении, употребляются для описания функционирования мифа в литературном произведении. Причем, как особо отмечает В. Н. Топоров, автор книги «Миф. Ритуал. Символ. Образ», имеющей подзаголовок «Исследования в области мифопоэтического», проблему функционирования мифа в художественно-литературном тексте можно трактовать двояко: с одной стороны, «тексты выступают в «пассивной» функции источников», «носителей» мифа, но, с другой, «эти же тексты способны выступить и в «активной» функции, и тогда они сами формируют и «разыгрывают» мифологическое...» [186; 4]. То есть, мифопоэтику можно рассматривать как составную часть поэтики произведения, изучающую мифологические образы, мотивы, аллюзии и реминисценции, реализованные в тексте произведения, а также создаваемые авторами новые мифологемы, новые мифы (авторское «мифотворчество», «художественный мифологизм» /А. М. Минакова/, «неомифологизм»), С одной стороны, мифопоэтика работает со сферой выразительных средств, мотивов, сюжетов. С другой - мифопоэтика демонстрирует способность к глобальным обобщениям на содержательном и проблемном уровне произведения, поскольку, как пишет В. Н. Топоров, «принадлежа к высшим проявлениям духа <...> мифопоэтическое являет себя
как творческое начало эктропической направленности, как противовес угрозе энтропического погружения в бессловесность, немоту, хаос» [186; 5].
Направление исследования от частного к общему, которое, таким образом, предполагается изучением мифопоэтики, во-первых, помогает избежать идеологической заданности, предвзятости, что в отношении и А. П. Платонова, и М. А. Шолохова представляется необходимым, а во-вторых, позволяет конкретизировать объект исследования, не вторгаясь в рассмотрение всех принципов поэтики анализируемых произведений, художественного мира этих произведений.
Тем самым, у нас появляется возможность, не сравнивая между собой творческие методы А. П. Платонова и М. А. Шолохова в целом, провести сопоставление в области мифопоэтики романов А. П. Платонова «Чевенгур» и М. А. Шолохова «Тихий Дон». (Например, именно изучение мифопоэтики позволило А. М. Минаковой при рассмотрении романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» вписать этот роман в следующие типологические ряды [125; 31-52]: реализация в тексте славянской земледельческой культуры (эпика М. А. Шолохова, философская лироэпика С. А. Есенина, эпика А. Т. Твардовского); актуализация оппозиции земля-город (эпика М. А. Шолохова, социально-философский роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина», философские романы М. А. Булгакова)).
Изучение произведений А. П. Платонова, М. А. Шолохова в мифопоэтическом ключе имеет свою традицию. Присутствие в их текстах тех или иных мифологических аллюзий и реминисценций, мифологических образов и комплексов языческого и христианского генезиса установлено положительно и бесспорно. Работы, рассматривающие те или иные аспекты мифопоэтики А. П. Платонова, отражение мифологического сознания в его произведениях, могут составить особую «отрасль» платоноведения (работы Н.
М. Малыгиной, Л. В. Карасева, В. А. Колотаева, Е. А. Яблокова, ряд диссертаций, защищенных в последние годы2).
Наша диссертация учитывает опыт, накопленный вышеперечисленными исследователями, однако, не менее принципиальными для наших разысканий стали также труды, посвященные поэтике и проблематике платоновских произведений, философским и эстетическим взглядам писателя, его концепции человека и общества, времени, исторического процесса, в частности, результаты, полученные такими исследователями платоновского творчества, как Л. А. Аннинский, С. Г. Бочаров, В. В. Васильев, М. Геллер, Н. В. Корниенко, Н. М. Малыгина, С, и. В. Пискуновы, С. Г. Семенова, Н. Г. Сейранян, Е. Толстая-Сегал, В. А. Чалмаев, Л. А. Шубин.
В шолоховедении основополагающими работами, анализирующими мифопоэтические особенности «Тихого Дона», являются исследования А. М. Минаковой, разработавшей понятие «художественного мифологизма» в эпике М. А. Шолохова3. Помимо трудов А. М. Минаковой, настоящая диссертация обращается также к классическим и современным монографиям и статьям о художественных и идеологических свойствах романа-эпопеи «Тихий Дон», среди авторов которых необходимо назвать Ф. Г. Бирюкова, А. Ф. Бритикова, В. В. Гуру, Ю. А. Дворяшина, Е. А. Костина, В. М. Литвинова, В. В. Петелина, К. Прийму, Л. Г. Сатарову, В. М. Тамахина, Л. Г. Якименко.
При рассмотрении вопросов мифопоэтики в творчестве А. П. Платонова, М. А. Шолохова нами уделялось внимание и описанию использования отдельных известных мифологем различного генезиса, и анализу общих мифопоэтических свойств произведения, однако данная работа сосредоточит свое внимание на
Васильева М. О. Религия и вера в творчестве А. П. Платонова [35], Грачев А. Ю. Философско-эстетические концепции А. Платонова и их художественное воплощение [49]; Пастушенко Ю. Г. Мифологические основы сюжета у А. Платонова (Роман «Чевенгур») [136]; Сергеева Е. Н. Народное художественное сознание и его место в поэтике А. Платонова: (концепция героя и художественный мир) [163],
3 Минакова А, М. Поэтический космос М. А. Шолохова; О мифологизме в эпике М. А. Шолохова [124]; Минакова А. М. Художественный мифологизм эпики М. А. Шолохова: сущность и функционирование [125]
изучении реализации в текстах славянского язычества и христианства - как основных смыслообразуюших мифологических систем этих романов
(поскольку, хотя отдельные аллюзии и реминисценции, не относящиеся к славянскому язычеству или же христианству, в романах имеют место, но они в данной работе не рассматриваются, так как не носят в поэтике романов системного характера). Для данной работы представляется наиболее целесообразным такое рассмотрение функционирования славянского языческого и христианского мифов в текстах анализируемых романов (то есть, выявление сходств и различий в использовании мифологического материала, изучение особенностей обращения к тем или иных мифологемам, заимствования мифологических сюжетов, образов, метафор, характерных для «Чевенгура» и «Тихого Дона»), которое дало бы возможность обобщить полученные в ходе исследования выводы и сформулировать общие принципы мифопоэтики, свойственные в отдельности «Чевенгуру» и «Тихому Дону» - с тем, чтобы иметь возможность соотнести эти принципы мифопоэтики между собой, выявить типологическую общность как используемых А. П. Платоновым и М. А. Шолоховым мифопоэтических приемов, так и философских позиций этих двух художников.
Таким образом, в работе можно выделить два направления, два уровня исследования: первый, посвященный анализу непосредственно мифологических аллюзий и реминисценций, существующих в тексте каждого из произведений, тех закономерностей мифопоэтики, которые присущи по отдельности «Чевенгуру» и «Тихому Дону», и второй, предполагающий обобщение и сопоставление полученных в ходе исследования результатов.
Тем самым, актуальность данного исследования будет заключаться в поисках путей для сопоставления поэтик ранее не сопоставлявшихся произведений, объединенных не только общностью тематики, временем создания, но и таким художественным свойством, как использование мифологического по своему генезису материала (образов, сюжетов, метафор и
проч.) Это позволит расширить представление о мифопоэтике русского романа 20-х-ЗО-х годов, а также, что представляется наиболее важным, будет способствовать установлению типологических связей между различными видами русского романа означенного периода, выявлению неких общих закономерностей, свойственных произведениям высокой художественной значимости, какими, безусловно, являются в равной степени такие разные платоновский «Чевенгур» и шолоховский «Тихий Дон».
Объектом исследования для данной работы являются христианские и славянские языческие мифологические образы, сюжеты, метафоры, которые возможно выявить в текстах «Чевенгура» и «Тихого Дона», а также те трансформации, которым они подвергаются в художественной системе романов; общие приемы и принципы функционирования мифологического материала на всех уровнях произведения: от поэтики до проблематики.
Основными методами исследования, таким образом, становятся методы текстологического, структурного, мифопоэтического, интертекстуального анализа, сравнительно-типологический метод (поскольку очевидно, что, несмотря на личное знакомство авторов, даже сходство тематики может рассматриваться только как типологическое сходство, но никак - как заимствование, генетическая преемственность и проч.) При мифопоэтическим анализе данная работа придерживается точки зрения М. Л. Гаспарова [44; 6-12], сформулированной им в дискуссии с И. С. Приходько [147; 12-18] о месте и значении мифопоэтического анализа в исследовании произведения4, в соответствии с которой мифопоэтический анализ рассматривается как частный случай интертекстуального. Подобная трактовка мифопоэтического анализа оправдана и предложенным еще Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским пониманием мифа, «непосредственно порожденного мифологическим сознанием», как текста [111; 535] (тем самым, автор работы считает
4 Подробное рассмотрение и оценка этой дискуссии см, Горелик Л. Л. Проза Пастернака 1910-1920 годов в литературном и мифологическом аспекте [47; 5-12].
правомочными употребление терминов «христианский интертекст», «славянский языческий интертекст»). При этом в диссертации учитывается и подход, выработанный И. С. Приходько, в рамках которого мифопоэтический анализ становится инструментом для исследования воссоздаваемой в произведении мифологической ситуации, так как такое понимание мифопоэтического анализа позволяет рассмотреть не только христианские и славянские языческие аллюзии и реминисценции в «Чевенгуре» и «Тихом Доне», но и авторские их модификации, авторское мифотворчество. Возможности структурного подхода для изучения мифопоэтики иллюстрирует в монографии «Поэтика «Слова о полку Игореве» Б. М. Гаспаров [43], чей принцип рассмотрения мифопоэтической системы произведения через анализ «основных мифологических мотивов и их трансформаций» применяется и в данном исследовании.
В связи с неоднозначным толкованием термина «миф» необходимо особо отметить, что данная работа опирается на определение, сформулированное Е. М. Мелетинским: «миф есть совокупность ... сказаний о богах и героях, и, в то же время, система ... представлений о мире, ... основной способ понимания мира» [128, 653]. Таким образом, миф не есть некая «придуманная» форма, которую можно оценить с точки зрения ее достоверности/недостоверности, истинности или ложности. Подобное понимание термина «миф» согласуется и с той трактовкой, которую этот термин получает в философском труде А. Ф. Лосева «Диалектика мифа», поскольку Лосев теоретически обосновывает то, что «миф ... не есть выдумка или фикция, но необходимая категория сознания и бытия вообще» [106; 184]. К тому же Лосев особо подчеркивает, что «мифология сама по себе не есть религия» [106; 190], что десакрализирует понятие «мифа», «мифологии» и облегчает их использование в научной филологический работе (и в данной работе в частности) в качестве инструмента текстологического анализа.
Целью данного исследования является, во-первых, изучение особенностей мифопоэтики романов А. П. Платонова «Чевенгур» и М. А. Шолохова «Тихий Дон», рассмотрение христианского и славянского языческого интертекста этих произведений, тех приемов и способов, с помощью которых мифологический интертекст вводится в произведения, тех функций, которые он выполняет в художественном мире романов. Во-вторых, в работе предполагается раскрыть общие закономерности, общие принципы мифопоэтики каждого из исследуемых романов, чтобы затем иметь возможность эти закономерности сопоставить, выделить типологически родственные черты мифопоэтики данных произведений.
Настоящее исследование ставит перед собой следующие задачи: во-первых, на основе проведенного анализа христианского и славянского языческого интертекста выявить и проанализировать систему функционирования мифа в изучаемых романах, то есть описать соотношение славянского языческого и христианского мифов, установить их иерархичное или равноправное положение по отношению к друг другу, определить то значение, которое выполняет мифологический интертекст в поэтике и проблематике произведения, а также, во-вторых, оценить характер использования мифологических образов и сюжетов, изучить те изменения, которые они претерпевают в художественном мире романов, то есть сформулировать особенности авторского переосмысления мифов, собственного авторского мифотворчества. В задачи исследования входит и изучение тех типологических связей, которые возможно проследить в обращении к мифологическому интертексту философской прозой (романом А. П. Платонова «Чевенгур») и прозой эпической (романом М. А. Шолохова «Тихий Дон»), обобщение полученных результатов исследования мифопоэтики каждого из вышеуказанных романов в цельную картину, описывающую роль мифа в поэтике и проблематике русского романа 20-х-30-х годов.
Научная новизна данного исследования заключается в том, что впервые проводится сопоставление романов, относящихся к разным типам прозы (философской и эпической), не на основе сходства тематики и проблематики этих произведений, но исходя из их общих художественных свойств (использование христианского и славянского языческого мифологического интертекста). Первичным материалом для изучения избираются именно мифопоэтические, а не тематические, идеологические, проблемные аспекты заявленных в исследовании романов. Подобное рассмотрение позволяет делать обобщающие выводы на материале скрупулезного и неидеологизированного анализа текста. Заявленный подход, на наш взгляд, позволяет не только решить некоторые частные проблемы мифопоэтики «Чевенгура» и «Тихого Дона», но описать и проанализировать такое явление в художественном мире этих романов, как собственное авторское мифотворчество, синтезирование двух известных мифов (христианского и славянского языческого) в единый новый миф.
Теоретико-методологическую основу исследования составили труды М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, М. Л. Гаспарова, Б. М. Гаспарова, В. М. Жирмунского, А. Ф. Лосева, Ю. М, Лотмана, Е. М. Мелетинского, М. Г. Минц, Б. А. Успенского, посвященные проблемам мифа и мифопоэтическому анализу, классические и современные разыскания в области славянского языческого мифа А. Н. Афанасьева, Д. К, Зелинского, Ф. С. Капицы, С. В. Максимова, А. А. Потебни, В. Я. Проппа, Н. И. Толстого, В. Н. Топорова, Г. П. Федотова и др.; исследования В. В. Агеносова, Г. А. Белой, А. А. Газизовой, М, М. Голубкова, В. А. Славиной, С. И. Шешукова и др. в области поэтики и проблематики русской литературы XX века, ее типологии и эволюции.
Практическую значимость данной работы составляет, во-первых, возможность применения сформулированных в работе общих принципов использования мифологического интертекста в романах «Чевенгур» и «Тихой Дон» при изучении мифопозтических особенностей русской романной прозы
XX века; во-вторых, результаты, полученные в ходе исследования, имеют значение для дальнейшего изучения творчества А. П. Платонова и М. А. Шолохова; могут быть учтены при подготовке общего вузовского курса по истории русской литературы 20-х-ЗО-х годов, а также специализированных курсов, посвященных мифопоэтике русской литературы означенного периода, исследованию типологических характеристик жанра романа в русской литературе 20-х-ЗО-х годов, проблемам компаративного изучения русской литературы XX века.
Апробацию работа прошла на IV и V Шешуковских чтениях (2000, 2001), на конференции «Семантика и образ мира» (Таллинн, 2001). а также в четырех публикациях.
Структура работы; исследование включает в себя введение, две главы, заключение. Во введении формулируются общие принципы и приоритеты исследования, обосновывается применение использованной в работе терминологии. В первой главе, посвященной рассмотрению основных смыслообразующих мифологем в романе А. П. Платонова «Чевенгур», анализируются мифологические составляющие образов земли и солнца, проводится исследование роли христианского и славянского языческого интертекста в создании образа Александра Дванова. В результате проведенного исследования устанавливается, что А. П. Платонов сознательно обращается к мифологемам с непроясненным генезисом, одинаково свойственным как христианству, так и славянскому язычеству. В романе творчески синтезируются христианские и славянские языческие мифологические комплексы, слагаясь в единый миф о возможности грядущего возрождения жизни и преодоления смерти.
Вторая глава работы подробно анализирует ранее практически не изучавшийся христианский миф в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон», его роль в общей мифопоэтической системе романа. С помощью введения некоторых христианских аллюзий, реминисценций, мотивов Шолоховым
создается некий «совокупный образ» того нового мира, новой идеологии, которая устанавливается на Дону. Однако, помимо собственно христианских образов, в романе появляются и образы синкретические, совмещающие в себе черты и свойства двух мифологических систем, славянского язычества и христианства (мотивы возвращения, умирания/возрождения), что является свидетельством желания автора уравнять, примирить две мифологические системы. Особенно ярко эта тенденция проявляется в финале романа, когда в возвращении Григория, становящемся символом успокоения враждующих сторон, непрерывности бытия, используется символика и славянского язычества, и христианства.
В заключении формулируются основные черты мифопоэтики романов «Чевенгур» и «Тихий Дон», а также проводится сопоставление принципов использования мифологического интертекста в двух вышеупомянутых произведениях, подводятся выводы всего исследования.
Солярная мифологическая символика в романе: происхождение, семантика, функции
Образ солнца, светила и «единственного пролетария», относится к наиболее значимым понятиям романа, играет в его символической и смысловой структуре немаловажную роль. В основе его лежат несколько традиций и ассоциаций, как литературного, так естественно-научного и философского характера6. Однако, рассмотрение этих интертекстуальных связей не входит в задачи данной работы, поскольку не менее интересной представляется и связь, существующая между платоновским пониманием солнца и солярным мифологическим комплексом славянского язычества, касающимся, в первую очередь, тех характеристик солнца, которые описывают его роль в аграрно-земледельческих языческих представлениях.
Хотя многочисленные современные исследователи7 славянского язычества отрицают наличие у славян солярного культа как такового, тем не менее, невозможно игнорировать то ни с чем не сравнимое значение, которое имело солнце для сельскохозяйственной деятельности крестьян, поскольку существовала прямая зависимость между солнечной активностью и урожайностью, которая верно подмечена такими дореволюционными собирателями народным представлений, как А. Н. Афанасьев и А. А. Потебня (см. у последнего «...солнце есть божество земледельческое, посылающее урожай» [143; 96], и еще более показательно «хлеб вообще, и в особенности коровай (написание А. А. Потебни - Я. С.) ... сближается с солнцем (месяцем, звездами)» [143; 96]). Именно эти народные поверья выглядят родственными многим солнечным свойствам, проявляемым этим светилом в романе «Чевенгур». Обращение к работам исследователей XIX века, хоть и признанных «устаревшими», представляется необходимым, поскольку, по мнению современного исследователя истории мифологической школы АЛ. Топоркова, «филологи второй половины XIX века подготовили тот общий интерес к фольклору и мифу, который пробудился у русской интеллигенции начала XX века» [185; 397].
Указанная выше связь солнца с земным плодородием делает солнце, с одной стороны, важным героем аграрного культа, а с другой - подчеркивает «производственную основу» этого культа, его огромное жизненное значение для земледельческого народа. Как пишет А. Н. Афанасьев, «солнце - творец урожаев, податель пищи и потому покровитель всех бедных и сирых» [17; 309]. Отражение подобных представлений можно найти в описании дореволюционного чевенгурского быта, того традиционного мира, который с азартом реформаторов преобразуют пришедшие в город большевики. Об этом, прежнем, уже исчезнувшем, «подверженном убыточным расходам революции» (С. 203) мире вспоминает, смотря на послереволюционный Чевенгур, Алексей Алексеевич Полюбезьев: «И Алексей Алексеевич стоял сейчас в полном сознании самого себя, чувствуя теплоту неба, словно детство и кожу матери, и так же, как было давно, что ушло в погребенную вечную память, - из солнечной середины неба сочилось питание всем людям, как кровь из материнской пуповины» (С. 203). В образной метафоре сконцентрирована самая суть народных представлений: солнце, кормящее всех людей, проливающее на них и на землю благодатный свет, непосредственно влияющее на людское бытие.
Однако, эта благостная, гармоничная картина осталась в прошлом, в воспоминаниях. Начало романа ознаменовано невиданным катаклизмом, главным действующим героем которого становится именно солнце: устанавливается засуха, которая необычна уже тем, что случилась после неурожайного года («Через четыре года на пятый село наполовину уходило в шахты и города, а наполовину в леса - бывал неурожай. ... Но на этот раз засуха повторилась и в следующем году» (С. 25), символизируя собой нарушение естественного природного цикла, извечного порядка вещей. Но сопутствующий ей нестерпимый, враждебный человеку солнечный жар может восприниматься как явление мифологическое, близкое народным верованиям. По мнению Афанасьева, «солнце является и карателем всякого зла... С этой стороною мифического представления слилася мысль о вредоносном влиянии жаров, производящих засуху, истребляющих жатвы и влекущих за собой неурожай и моры. Губительное действие зноя приписывалось гневу раздраженного божества, наказывающего своими огненными стрелами (жгучими лучами)» [17; 309].
Именно такой смертоносный огонь и излучает солнце в начале повествования: «В тот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело, как в глубоком июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом - прочно успокоившееся пространство смертельной жары» (С. 47); «...у нас солнце стоит и будет стоять в упор - какой же тебе урожай!» (С. 48); «От зноя не только растения, но даже хаты и колья в плетнях быстро приходили в старость... Избы почти прели от страшной, накаленной солнцем тишины, а солома на крышах почернела и издавала тлеющий запах гари» (С. 49). Солнечные лучи несут разрушение основам традиционного мира: земле, урожаю, растениям, крестьянскому хозяйству. Этот катастрофический солнечный жар, приходящий на смену прежней гармонии, воплощает в себе конец прежнего мира; в полном соответствии с мифологемой карающего солнца, уничтожает, испепеляет этот мир, но действует при этом в рамках традиционных народных представлений. Таким образом, можно отметить, что для изображения краха старого мира, старого космоса, утверждения необходимости поисков новых условий взаимоотношения человека и универсума, «проблема подлинной гармонии, проявляющейся на всех уровнях» [142; 14], привлекаются славянские народные верования, возможно, как наиболее соответствующие тому традиционному миру, который преобразует революция, поскольку в них не только отражается исконные, патриархальные представления, но, опосредованно, они могут служить выразителем прежних, дореволюционных, экономических связей и установок, становится их своеобразным символом.
Одной из попыток организовать мир, космос по-новому станет образование Чевенгура. Чевенгурцы, отменившие у себя историю, объявившие конец «всей всемирной истории - на что она нам нужна» (С. 187), стремятся переосмыслить мир, разрешить «проблему преодоления смертоносных сил природы», как определяет ее Н. М. Малыгина [118; 47]. Одна из главенствующих ролей в этом новом мировом устройстве вновь отводится солнцу, поскольку без его участия установление гармонии, продолжение жизни невозможно. Появляется новое понимание солнца, его мифологических функций.
Образ земли и смежные образы: мифологические основы и их преломление в романе «Чевенгур»
Образ земли, созданный в романе «Чевенгур», необычайно многогранен, его смысловое наполнение складывается из множества различных мотивов и тем, связанных с двумя полюсами отношения к земле: во-первых, как к обители мертвых, как к великой могиле и утробе (см. напр., [212, 189-216]) и, во-вторых, как к героине аграрного культа12, от характеристик и свойств которой зависит урожай и насыщение людей, на которой произрастают травы и хлеб, которая живет по своим особым, мифологическим в основе своей, законам, весьма своеобразно преломляющимся в художественном мире «Чевенгура». К «смежным образам», связанным своей семантикой с образом земли и наделенными в поэтике романа сходными функциями, можно отнести образы хлеба, зерна, а также различные так называемые «продуцирующие» приемы и способы, с помощью которых осуществляются попытки повлиять на производительность земли, на ее плодородие.
При всем многообразии значений, которые заключает в себе образ земли, наиболее интересным и важным представляются те его аспекты, что связаны с аграрно-производительной символикой, поскольку сформулированный большевиками «вопрос о земле», о праве работать на ней и праве пользоваться результатами своего труда играет в романе большую роль, а новым принципам хозяйствования: земельным преобразованиям, продразверстке, новой экономической политике - уделяется в романе немалое внимание. Однако, решение подобных вопросов лежит скорее в области мировоззренческой, чем собственно экономической, и потому представляется необходимым выяснить, из каких различных составляющих формируется в романе представление о земле и определить ее роль в общей системе бытия, в укладе жизни, а также способы достижения гармонии между миром человека с его экономическими и философскими исканиями и природным космосом.
Представленный в начале романа солнечный катаклизм, олицетворяющий разрушение привычного, старого крестьянского мира и описанный с привлечением языческих славянских мифологических представлений, непосредственно отражается и на состоянии земли, на ее плодородных свойствах. Засуха, враждебность палящего солнца приводит к извращению привычных природных закономерностей: «Захара Павловича еще немало удивило такое бессмысленное происшествие, что на полях хлеб давно умер, а на соломенных крышах изб зеленела рожь, овес, просо и шумела лебеда, они принялись из зерен в соломенных покрытиях» (С. 31), в безлюдии цветет одинокий лапоть: «лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу - он дал из себя отросток шелюги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень над корешком будущего куста» (С. 31).
С одной стороны, эти цитаты могут свидетельствовать о том, что, несмотря на засуху и голод, жизнь продолжается. Она возрождается из, кажется, уже умершего, отработанного (лапоть, солома) материала, поскольку, в соответствии с народными языческими верованиями, солома является частным компонентом как в рождественских и купальских обрядах, так и в родинных и погребальных: «жизнь начинается и кончается на соломе» [184, 154]. Но, с другой стороны, эта жизнь, это произрастание злаков очевидно бессмысленно, не востребовано человеком, существует независимо от него, но - само по себе, что, только более явно подчеркивает всю необычность, несообразность происходящего - поскольку зеленеющая на крышах рожь и лебеда никого не в состоянии накормить, да и кормить, ввиду полного отсутствия человека, некого. Таким образом, все это может служить свидетельством разрушения мира, привычного порядка вещей, потери землей своего плодородия (ведь вместо земли плодоносит солома, крыша). Тем самым автор дает понять, что традиционный миф рухнул, он более не в состоянии обеспечить нормальное существование природы и человека (а потому - нуждается в пересмотре).
Если засуха, описываемая в романе, создана с использованием мифологических представлений о солнце - подателе пищи и карателе всяческого зла, то в отношении земли наиболее интересной и продуктивной оказывается четко прослеживаемая взаимосвязь между плодородием земли, ее способностью к порождению - и плодовитостью женщины, ее участию в зачатии и рождении потомства13. Взаимосвязь подобного рода находится в определенной зависимости от языческих славянских представлений о «матери сырой земле», всеобщей утробе, «женском начале, рождающем и плодоносящем» [184, 151], однако современные исследования позволяют говорить и о более явной, продуцирующей зависимости земного плодородия от человеческой деятельности по воспроизводству. Описываемая в романе взаимообусловленность этих двух процессов - процесса рождения человека и вызревания аграрных культур - вполне соотносима с народными языческими представлениями, она мифологична в основе своей, наиболее ярко подчеркивая мысль о связанности человека и природного мира, о том, что существуют они в рамках единого мифа, нарушение одной части которого неизбежно влечет за собой сбой в другой.
Неурожай, недород в романе Платонова находится, как и в народных представлениях, в зависимости от женской «чреватости». Пустоту земли олицетворяет незачавшая тетка Марья: «В эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а главное - не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех лет, которые наступали перед засухой. Это приметила вся деревня, и, если тетка Марья ходила порожняя, мужики говорили: «Ну, Марья нынче девкой ходит - летом голод будет». В этот год Марья тоже ходила пустой и свободной.
- Паруешь, Марь Матвевна? - с уважением спрашивали ее прохожие мужики» (С. 39). Показательно, что по отношению к женщине употребляется земледельческий термин, о ней говорят так же, как об отдыхающей под паром земле, сближая их между собой.
Казнь отряда Подтелкова: пасхальные мотивы
В исследованиях, посвященных поэтике и проблематике «Тихого Дона», исторически немаловажное место отводилось рассмотрению образов идейных большевиков, революционеров, как вымышленных (Бунчук, Анна, Кошевой), так и имеющих реальных исторических прототипов (Федор Подтелков, Кривошлыков и др.). Зачастую меньшую, по сравнению с образом Григория Мелехова, притягательность, меньшее обаяние этих героев пытались объяснить ошибками, допущенными Шолоховым при описании действительных участников событий49, или же объявляли этих персонажей художественной «неудачей» писателя5 . Изначально заданная установка в оценке этих характеров приводила к тому, что литературоведческий анализ зачастую вытеснялся идеологическим, тогда как именно с художественной точки зрения эти образы, вне зависимости от их политического и исторического значения, представляют немалый интерес.
Для темы данной работы представляется небезынтересным внимательное рассмотрение такого яркого эпизода, как казнь отряда Подтелкова в финале второго тома романа. Этот эпизод, важный и в композиционном, и в идейном плане, с одной стороны, показателен в качестве наглядной иллюстрации начинающейся гражданской войны, когда казаки казнят своих же казаков, и, по мнению Томилина, «завиднелась и на донской земле кровища» (2, 313)5 . Но, с другой, казнь Подтелкова, кажущаяся Григорию справедливой расплатой за совершенную Подтелковым бессудную расправу над белогвардейцами (см. слова Григория, обращенные к Подтелкову: «Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли... По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить!» (2, 346-347)), в общем контексте романа воспринимается не столь однозначно. Более того, даже те исследователи, которые негативно оценивали образ Подтелкова, признавали, что поведение Подтелкова в момент гибели резко отличается от всех его прежних действий. Так, В. А. Апухтина утверждает, что «последний эпизод представляет собой совершенно самостоятельный эскиз во всем повествовании - все предшествующее не подготавливает к такому финалу, так как в финале - перед нами сознательный боец, соединивший свои личные помыслы с борьбой народа за социализм. В финале - необычайный духовный взлет и историческое прозрение» [14, 208], а Ф. Г. Бирюков напрямую называет Подтелкова «эпическим героем» [26, 146]. В нашей работе мы попробуем представить свой вариант героического «преображения» Подтелкова.
Н, В. Корниенко, анализируя отношения, существующие между христианской культурой и романом Шолохова, отмечает, что вторая книга завершается «изображением кровавой бойни, развернувшейся в Страстную неделю и достигшей кульминацию в Св. Пасху» [94, 44]. Совпадение это не просто глубоко символично, не только призвано показать всю бесчеловечность и противоестественность развернувшейся на Дону борьбы. Связь, которую возможно проследить между этими двумя событиями (христианской Пасхой и гибелью отряда Подтелкова), носит более глубокий и неслучайный характер.
Прежде всего, такая четкая временная привязка событий романа к определенной дате церковного календаря - пример далеко не ординарный в «Тихом Доне»52. Указание времени по церковному календарю довольно характерно для первого тома. Однако, уже в первом томе можно заметить некоторую закономерность в использовании Шолоховым дат церковного календаря, где в один разряд можно выделить даты, связанные напрямую или опосредованно с годовым ходом сельскохозяйственных работ, поскольку крестьянскому народному сознанию свойственно определять время и сроки по церковному календарю53 (см. следующие примеры: «За два дня до троицы хуторские делили луг» (1, 43); «С троицы начался луговой покос» (1, 47), «Григорий с женой выехали пахать за три дня до покрова» (1, 125), «На четвертой недели поста сдала зима» (1, 168) и др.). К другому разряду можно отнести те случаи обозначения времени события по церковному календарю, когда само событие оказывает влияние на эволюцию героя или же является предупреждением герою, символическим показателем его душевного состояния: так, например, неудавшееся самоубийство Натальи приурочено к пасхальной ночи («в ночь под пасху» (1, 173)); а предшествует этому событию неосторожная переправа Григория, при которой он едва не утопил коней Листницкого и не погиб сам, пришедшаяся на вербное воскресение («Григорий вернулся из Миллерова, куда возил Евгения, в вербное воскресение» (1, 175)); извещение, вызывающее Григория на службу, затянувшуюся на две войны, предписывает ему «на второй день рождества выезжать в слободу Маньково на сборный участок» (1, 195). (Обращает на себя внимание, что часто церковными датами, посвященными жизни Иисуса Христа (Рождество, Вербное Воскресенье, Пасха), обозначаются острые, переломные моменты в судьбе героев, их тесное соприкосновение с опасностью, смертью, Может быть, здесь сказывается народное представление «о празднике как опасном дне, когда нарушается традиционная граница между потусторонним миром и миром людей» [165, 153]). Постепенно, по мере вытеснения описаний мирной крестьянской жизни картинами первой мировой и гражданских войн, церковные даты первого разряда сменяются точными датами светского календаря (см, начало третьей части первой книги; «В марте 1914 года в ростепельный весенний день пришла Наталья к свекру» (1, 208), начало второй книги: «Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер» (2, 7); «Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Май» (2, 43) и др.). Примером иного рода использования церковных дат и служит рассматриваемый эпизод.
Казаки хутора Татарского получают приказ о снаряжении в поход на Красногвардию и Подтелкова в страстную субботу (2, 312). По христианским представлениям то время, что Иисус пробыл во гробе (конец Великой пятницы и суббота), является периодом разгула нечистой силы, бесовского торжества (именно поэтому, напр., «великий бал у сатаны» в булгаковском романе «Мастер и Маргарита» происходит вечером страстной пятницы). Может быть, учитывая это, казаки выезжают в поход «на первый день пасхи, разговевшись» (2, 312). Однако, упоминание Пасхи из временного указателя, пусть и наполненного определенной семантикой (так, вступление в войну в Светлое воскресение позволяет подчеркнуть неправедность, противоестественность действий казаков), превращается в своеобразный лейтмотив всего эпизода, его «внутренний нерв», расширяющий смысловое наполнение описываемых событий.
Мотив слепоты в романе: генезис, поэтика, особенности применения
С точки зрения функционирования в романе христианского интертекста представляется интересным проанализировать один малозначительный, на первый взгляд, но достаточно характерный для первого-второго томов и чрезвычайно существенный в контексте всего «Тихого Дона» мотив: мотив слепоты. Словарь русского языка С. И. Ожегова дает только одно переносное значение у слова слепой: «безрассудный, действующий или совершающийся без разумного основания» [134, 719]. Словарь Даля предлагает более широкое толкование переносного значения этого слова: « Духовно, нравственно или научно незрящий; непросвященный, ослепленный убеждением, страстью, безрассудством» [56, 4, 228].
Актуализация в этом слове и в самом понятии слепоты переносного смысла, близкого к далевскому («духовно, нравственно или научно незрящий»), а не к ожеговскому толкованию, происходит в конце первого тома романа, во время пребывания Григория Мелехова в глазной лечебнице доктора Снегирева, где, как пишет А. М. Минакова, Григорию «не только сохраняют ... физическое зрение, но он прозревает духовно» [125, 38]. В этом эпизоде значение прямое (болезнь глаз, глазная лечебница) сталкивается автором со значением переносным, усиливая иносказательный, символический смысл последнего.
Так, в глазной лечебнице Григорий знакомится с пулеметчиком Гаранжой, который, по определению автора, «был недоволен всем: ругал власть, войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов, - все, что попадало на острый его язык» (1, 338). Однако, недовольство Гаранжи отлично от простого брюзжания раненого: именно Гаранжа заронил в Григории первые сомнения относительно правильности всего миропорядка, всего устройства государства: «С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой украинец постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге» (1, 339). Более того, в речах Гаранжи предлагается и рецепт переделки мира, рецепт коммунистический: «Га! Власть треба, як грязные портки, скынуть. Треба с панив овчину драть, треба им губы рвать, бо гарно воны народ помордувалы. ... А як була б у каждом государстви власть робоча, тоди б не воювалы. А це будэ, в дувобу домовыну их мать!.. Будэ! И у германцив, и у хранцузив, - у всих застуэ власть робоча и хлиборобська. За шо ж мы тоди будемо брухаться? ... Одна по всьому свиту будэ червона жизнь» (1, 340). Интересно и то, что откровенный разговор между Григорием и Гаранжой происходит ночью, когда «в окно сквозь приспущенную штору тек зеленоватый свет сентябрьского месяца» (1, 339), а заканчивается на рассвете («Они проговорили до рассвета. В серых сумерках забылся Григорий беспокойным сном» (1, 340). Символически разговор просветляет Григория, раскрывает ему глаза, в нем он находит ответы на волнующие его самого вопросы. Так постепенно прямой смысл словосочетания «глазная лечебница» заменяется метафорическим, в котором лечение, прозрение касается не только телесного, но и духовного мира Григория.
Показательно, что духовным лекарем Григория оказывается кривой Гаранжа (в лечебнице Гаранже удаляют «остаток глаза, выбитого осколком» (1, 338)). Так Шолохов намеренно разводит понятия духовной и физической слепоты, ибо «кривота» Гаранжи, тем не менее, не мешает ему видеть истину (той же цели, видимо, служит и украинский язык Гаранжи, когда, с одной стороны,
Григорий восклицает, что не понимает «хохлачьего ... языка» Гаранжи, что, с другой, не мешает ему осознать и принять точку зрения Гаранжи, ту правду о мире, которую проповедует хохол. Примечательно, что затем, в конце третьего тома романа Григорий откажется понимать уже церковнославянский язык деда Гришаки, о чем подробнее см. далее 2.3). Кроме того, Шолохов нигде не характеризует наружность Гаранжи как уродливую, неприглядную. Наоборот, при описании расставания Гаранжи и Григория, Шолохов рисует внешность украинца самыми теплыми красками: «Надолго сохранила память Григория образ украинца с суровым единственным глазом и ласковыми линиями рта на супесных щеках» (1, 342). Тем самым автор как будто стремится показать мудрость и правоту Гаранжи, подчеркнуть важность этого персонажа для духовной эволюции Григория. (Так, именно речи Гаранжи способствуют пробуждению самосознания Мелехова: «Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой, бесхитростный ум Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума задачи и с удовольствием находил его в ответах Гаранжи» (1, 339)). Прощаясь, Григорий сам говорит своему учителю: «Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и... злой!» (1, 342). Таким образом, и Григорий метафорически связывает полученные им уроки с прозрением, с преодолением слепоты.