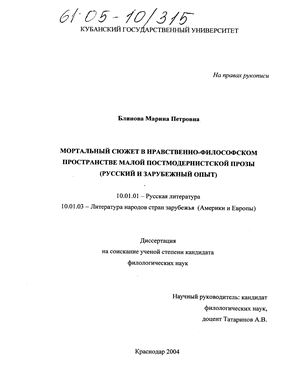Содержание к диссертации
Введение
1 Архетипические и апофатические основы сюжетостроения 12
1.1 Категория сюжета как литературоведческая проблема 12
1.2 Архетип как теоретическая проблема и историко-литературная категория 23
1.2.1 Классическая теория архетипов Юнга 23
1.2.2 Архетип в философском и историко-литературном осмыслении 26
1.3 Философско-эстетическая парадигма апофазиса 39
1.3.1 Суть апофатического метода в богословии 39
1.3.2 Восточный аналог апофазиса 42
1.3.3 Современный философский и литературоведческий аспект апофазиса 45
2 Идейно-эстетическая парадигма интерпретации концепта смерти 58
2.1 Интерпретация смерти в классической философии и литературе 60
2.2 Смерть в литературно-критическом пространстве постмодерна 70
2.3 Реализация основных составляющих концепта смерти в художественных текстах постмодерна 85
2.3.1 Смерть как игра (Б.Виан, В.Пелевин) .85
2.3.2 Смерть как конвейер (Вик.Ерофеев, Б.Виан) 89
2.3.3 Коммерциализация смерти (К.Фуэнтес, Вик. Ерофеев, В.Пелевин,
Д. Бартельми) 90
2.3.4 Смерть как пространство Тайны (Х.Л.Борхес, Ю.Мамлеев) 91
2.3.5 Смерть как обретение индивидуальности (Х.Л. Борхес, Ю.Мамлеев, Х.Кортасар) 93
2.3.6 Отношения «Я» и «Другого» в мортальной ситуации (Ю.Мамлеев) 94
3 Структура и содержание сюжетообразующих элементов в малой постмодернистской прозе 99
3.1 Типология гибели героев 99
3.2 Пространственно-временная организация текстов. 104
3.2.1 Особенности представления художественного пространства 104
3.2.2 Особенности представления художественного времени 109
3.3 Характеристика героев 117
3.4 Религиозные архетипы в становлении мортального сюжета 125
3.5 Стиль как выражение формальной стороны мортального сюжета и концепции смерти автора 144
4 Система знаковой репрезентации мортального сюжета 160
4.1 Иррациональные архетипические мотивы и мифологемы 161
4.1.1 Архаические мифологемы 161
4.1.2 Повторяющиеся архетипические мотивы 181
4.2 «Сквозные» символы и мотивы 190
4.3 Символы-инварианты 197
4.4 Индивидуальные авторские символы 208
Заключение 218
Библиографический список 223
Приложение 1 233
- Категория сюжета как литературоведческая проблема
- Интерпретация смерти в классической философии и литературе
- Особенности представления художественного пространства
- Архаические мифологемы
Введение к работе
Философия и наука XX века характеризуется созданием особой модели нелинейного и непостижимого мира, главной чертой которого становится множественность и релятивизм, причем не только физических величин — времени и пространства, но и духовных - Истины, Добра, Бога. Стремление избежать догматизма и негативное отношение к любой моносемии провоцируют современный духовный кризис: нравственные категории теряют статус авторитетов, превращаясь в объект игры, дробясь в бесчисленных интерпретациях и становясь предметом сомнения в самом факте их существования.
Недоверие к позитивистскому знанию, установка на плюрализм и релятивизм наиболее ярко отражаются в литературе постмодерна, создающей полисемичную модель текста, разрушающего линейность повествования, направленного на игру с читателем и активное сотворчество с ним, многозначность и множественность интерпретаций. Главным принципом построения текста становится смысловая неопределенность (Ж.Деррида), в соответствии с этим меняется суть отношений автора и читателя - они включаются в игру в погоне за ускользающей истиной текста, которая теряет свой статус Абсолюта, превращаясь в результат языковой игры. Следствием этих игровых отношений становится ярко выраженный и провозглашаемый антидидактизм литературы, утрата ситуации нравственного учения и духовного катарсиса читателя, демифологизация и инверсия традиционных символов культуры.
В этом контексте особый научный интерес вызывает художественная реализация экзистенциальной проблемы, неизбежно связываемой с нравственностью, - ситуации смерти, которая позволяет рассмотреть так называемые неклассические тексты под углом этической проблематики, во многом определяющей своеобразие их сюжетной организации (в частности, формирование постмодернистского мортального сюжета, построенного вокруг ключевого события смерти), и обязательное присутствие морально-философского подтекста. Однако особенности построения и дидактики мортального сюжета постмодерна, заключающиеся одновременно и в апеллировании к классическим структурам, и к созданию расширяющегося поля интерпретаций текста останутся
5 непроясненными без обращения к теории сюжета, архетипа и апофазиса, а также конкретного текстуального анализа постмодернистских произведений. Кроме того, данный анализ позволит исследовать символический план присутствия архетипических структур и сюжетную модель преодоления моносемии текста. С этой целью в работе рассматриваются более пятидесяти рассказов, которые можно назвать постмодернистскими на основании следующих признаков:
авторский отказ от традиций классического повествования (реалистическая проза XIX в.), нежелание воспроизводить художественную модель мира, подлежащую интерпретации в традициях повседневной психологии;
усложненная фабульно-сюжетная организация текста; преодоление традиций линейного повествования в пользу неканонических (виртуальных) пространственно-временных параметров события;
значительный интертекстуальный потенциал текста, обращенного к самым разным религиозным, философским и литературным концепциям минувших эпох; свободный синтез диаметрально противоположных образных систем с целью создания парадоксального сюжета, повышающего читательскую активность;
корректирующая ирония, позволяющая не только автору, но и повествователю устраняться от категорических нравственных оценок и подавать любой художественный факт, будь то моральное падение или смерть как максимально двусмысленное событие, активно существующее в своей принципиальной незавершенности;
- шизоидность (в значении термина постмодернистского литературоведения)
героя, размывающая границы нормальности и безумия, усугубляющая
антиномический и апофатический характер таких архетипических проблем, как
свобода и рабство, победа и поражение, жизнь и смерть.
Принципом объединения текстов различных русских и зарубежных авторов становится наличие общей сюжетной доминанты - ситуации смерти, позволяющей включить тексты в единое пространство мортального сюжета, становящегося специфической формой адаптации постмодернистского текста.
Актуальность исследования. Общегуманитарный ракурс. Работа посвящена одной из самых значимых проблем современных гуманитарных наук -
6 содержанию и перспективам постмодернистской риторики, активно осваивающей дискурсы предшествующих эпох с целью преодоления власти классических метарассказов, будь то христианский сюжет или доминирующий сюжет того или иного литературного направления. Акцентированный интерес к проблеме смерти помогает освоить нравственное пространство современной прозы и предложить свой вариант истолкования основных категорий постмодернизма, таких, как корректирующая ирония или смерть субъекта (автора-героя-читателя). Ракурс теоретической поэтики. Работа, начинающаяся с систематизации научных знаний о литературном сюжете, не ограничивается рассмотрением известных вариантов решения этой популярной филологической проблемы. Разделы, посвященные архетипическим и апофатическим основам сюжетостроения, призваны определить основную модель организации постмодернистского текста малой прозы, который использует стандартное, классическое знание (архетипы) и создает художественный мир расширяющихся значений, не подлежащих однозначной интерпретации (апофазис). Историко-литературный и интерпретационный ракурсы. В работе основное место отводится конкретному анализу художественных текстов с выделением наиболее значимых востребованных параметров интерпретации, таких, как пространственно-временные координаты сюжета, характеристика героя, событие смерти и его знаковая репрезентация. Из научного прочтения более 50 художественных текстов складывается единый образ постмодернистского сюжета, в котором центральные позиции занимает ситуация завершения жизни. При этом учитываются и особенности авторских и национальных моделей литературного мира.
Новизна исследования. В пределах диссертационной работы поэтика сюжета, ставшая традиционной темой многих теоретических размышлений о литературе, рассматривается в новом терминологическом поле; обращение к категориям архетипической символики и апофатического расширения привычных значений позволяет предложить неканонический вариант истолкования отношений постмодернизма с традиционными культурами. Особое внимание уделено созданию образа единого сюжетного пространства, в котором взаимодействуют герои и события, объединенные концепцией «мортальный сюжет»; в рамках этого
7 пространства акцентируется внимание как на индивидуальных чертах авторской поэтики, так и на константных признаках изучаемого сюжета в целом. В работе вводится и теоретически обосновывается принципиально новое понятие «мортального сюжета», которое позволяет систематизировать разные художественные тексты по выявленному признаку событийной доминанты, а также оценить литературный опыт постмодернизма с точки зрения экзистенциальной проблемы классического типа - смерти.
Цель исследования - изучение мортального сюжета малой постмодернистской прозы (на материале русской и зарубежной литератур) в контексте теоретических проблем повествовательной организации текста и нравственно-философских проблем событийного содержания произведений.
Поставленная цель предполагает решение следующих научных задач:
- систематизация научных знаний о сюжете как о значимой категории
теоретической и исторической поэтики;
представление классической теории архетипа (система К. Юнга) в контексте литературоведческой адаптации категорий психологических и философских наук;
представление метода апофатического богословия в контакте с философскими и литературными методами познания истины через отказ от абсолютизации ее частных атрибутов;
- рассмотрение постмодернистского философского дискурса в аспекте его
обращенности к многоуровневой проблеме смерти;
- обоснование мортального сюжета как способа организации постмодернистского
художественного текста;
- изучение пространственно-временных параметров (хронотопа) мортального
сюжета с акцентированным анализом уровня религиозной архетипической
символики;
решение проблемы героя как знакового центра мортального сюжета;
анализ речевой ткани малой постмодернистской прозы и постановка проблемы дидактических функций мортального сюжета;
изучение малой постмодернистской прозы как системы классических архетипов, подтверждающих свое архаическое содержание или претерпевающих инверсионные изменения;
интерпретация авторских моделей мира малой постмодернистской прозы через системный анализ индивидуальной, субъективной символики.
Объект исследования - художественные тексты русской (Ю.Мамлеев, В.Пелевин, Вик.Ерофеев, Евг. Попов и др.) и зарубежной (Х.-Л. Борхес, Б. Виан, М. Павич, К. Фуэнтес, Х.Кортасар, Д.Бартельми и др.) малой прозы XX века, объединенные по признаку событийной доминанты.
Предмет исследования — уровень художественного повествования, играющий основополагающую роль в формировании структуры и нравственно-философского подтекста мортального сюжета.
Теоретические и методологические основы исследования: 1) методы теоретической поэтики (С.Н. Бройтман, В.И. Тюпа, Н.Д. Тамарченко), позволяющие оценить становление новых сюжетно-жанровых отношений в литературном процессе; 2) адаптированные литературоведением методы психологии (К.Юнг) и богословия (Псевдо-Дионисий Ареопагит), используемые для анализа архетипического и апофатического уровней организации текста; 3) методы философской критики (Ж. Деррида, М.Бланшо, У.Эко), рассматривающие художественные произведения в широком культурологическом контексте, в котором литературный текст обеспечивает нравственную активность; 4) лингвопоэтические методы, призванные раскрыть внутренний мир произведения в единстве составляющих его знаков, подлежащих интерпретационной деконструкции.
Научно-практическая значимость. Данные диссертационного исследования могут быть использованы при теоретическом изучении категории сюжета, а также феномена постмодерна как философского и литературного направления. Интерпретация самих художественных текстов может быть включена в лекционно-практические курсы, посвященные литературе XX века. Кроме того, работа, остающаяся в рамках литературоведения, апеллирует к таким областям гуманитарного знания, как философия, богословие, психология, лингвистика,
9 танатология, а, значит, может представлять определенный интерес для междисциплинарных исследований.
Апробация работы. Результаты исследований, выполненных по теме диссертации, были представлены на международной научной конференции «Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира» (Архангельск, 2002); в «Вестнике студенческого научного общества. Вып. 4.» (Краснодар, 2002); на 2-й и 3-й межвузовских докторантско-аспирантских научных конференциях «Актуальные проблемы современной русистики и литературоведения» (Краснодар, 2003, 2004); на международной научной конференции «Антропоцентрическая парадигма в филологии» (Ставрополь, 2003); в межвузовском сборнике научных статей «Творческая индивидуальность писателя: традиции и новаторство» (Элиста, 2003); на межвузовской научно-практической конференции «Проблема понимания, языка в современной социокультурной ситуации» (Краснодар, 2003); на всероссийской научно-практической конференции «Философия, наука, религия: в поисках диалога» (Краснодар, 2004); на всероссийской (с международным участием) научной конференции «Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста и речи» (Соликамск, 2004), на всероссийской научной конференции «Литературный процесс в зеркале рубежного сознания: философский, лингвистический, эстетический и культурологический аспекты» (Магнитогорск, 2004), на международной научной конференции «Литература в диалоге культур» (Ростов-на-Дону, 2004), на международной научной конференции «Русская философия и православие в контексте мировой культуры» (Краснодар, 2004). Основные положения, выносимые на защиту
1. Основой формирования новой модели сюжета в постмодернистских текстах
становится переход к философской парадигме видения мира как нелинейного,
множественного и непознаваемого. В результате задачей автора становится
создание текста в виде незавершенной апофатической структуры, получающей
свое развитие в читательском сознании и в пространстве других произведений.
2. Максимальную «открытость» текста и в то же время апеллирование к
устойчивым классическим архетипическим структурам обеспечивает
художественное обращение к апофатическому феномену смерти, которое
предполагает особую форму организации постмодернистского текста -
мортальный сюжет.
Использование мортального сюжета становится причиной появления архетипического символического плана повествования, что ведет к вторичной ритуализации постмодернистского текста. Ее сутью является внешняя демифологизация архетипических символов при глубинном сохранении их сакрального значения, которое помещается в расширяющееся апофатическое поле смыслов текста. При этом главным принципом постмодернистского ритуала становится признание множественности значений объекта ритуализации, его незамкнутость и максимальная открытость для интерпретаций
В философии постмодерна, характеризующейся кризисом личностного начала, смерть начинает восприниматься как единственная ситуация, в которой проявляется и самоидентифицируется человек-субъект, поэтому особенностью постмодернистской интерпретации данного феномена становится стремление разрушить современный образ «спрятанной», «безобразной» (Арьес) смерти. В результате опытом мортального приобщения, необходимого для современного человека, становится текст.
Философская постмодернистская интерпретация феномена смерти обуславливает формирование нравственного подтекста мортального сюжета, направленного на духовное очищение человека и современного мира, расшатывание стереотипа восприятия смерти современной цивилизацией и необходимости создания новой модели отношения к ней.
Нравственный подтекст предполагает наличие особой дидактики постмодерна, которую можно назвать «игровой». Ее основными чертами становится создание «системы заповедей» по методу «от противного», рассчитанных на негативный катарсис воспринимающего текст, иронический или апофатический дискурс, игра с читателем, подталкивающая его к необходимости размышления о смерти. Данные приемы лишают нравственный подтекст изображаемой ситуации статуса догмы, превращая формирование «морали» в результат творчества читателя.
Своеобразие дидактики в рассказах русских и зарубежных авторов связано с различной нравственно-эмоциональной доминантой текстов: если западные
писатели ищут некую Истину бытия и небытия в информационном интеллектуализированном пространстве, то русские авторы переживают этот поиск, перенося его в духовную реальность бытия.
Отличительной чертой рассматриваемых русских постмодернистских текстов становится обращение к особенностям восприятия феномена смерти в советском государстве. Герои рассказов помещаются на стыке двух реальностей: сакрально-апофатическом, архетипизированном пространстве смерти и максимально идеологизированном советском социуме. Разорванность сознания, порожденная данной ситуацией, невозможность для советского человека адекватного отношения к феномену смерти как таинственной амбивалентной онтологической сущности придает особый трагизм интерпретации мортального сюжета у русских постмодернистов.
В рамках и русского, и зарубежного философско-художественного пространства постмодерна смерть ассоциируется с линейностью, рациональной фиксацией истины, закрытостью и определенностью значения, а жизнь - с лабиринтом, множественностью путей и интерпретаций, то есть с апофазисом как бесконечным развитием и движением к постоянно ускользающей истине.
Философия и художественная практика постмодерна, констатируя разрушение в современном сознании «классического» восприятия смерти как ритуализированной сакральной ситуации, в то же время пытается создать новый ритуал, актуализирующий апофатическую суть и архаическую амбивалентность данной ситуации.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из четырех глав, введения, заключения и библиографического списка. Первая глава носит теоретический характер и является описанием терминологического поля исследования. Вторая глава посвящена анализу мортального классического и постмодернистского философского дискурса. В третьей главе рассматривается сюжетный мир малой постмодернистской прозы на основании анализа более 50 рассказов русских и зарубежных авторов. Четвертая глава представляет собой исследование знакового уровня реализации мортального сюжета.
Категория сюжета как литературоведческая проблема
Данный раздел посвящен анализу литературоведческих интерпретаций содержания термина «сюжет», соотношения категорий сюжета и фабулы, а также определению особенностей постмодернистского сюжетостроения.
Сюжет - одна из основных литературоведческих категорий, затрагивающая все стороны художественного произведения, но вместе с тем содержание данного термина довольно широко варьируется. Еще в 1927 г. Я. Пропп в работе «Морфология сказки» писал: «Мы не будем уже говорить о том, что такое сложное, неопределенное понятие, как «сюжет» или вовсе не оговаривается, или оговаривается всяким автором по-своему» [100, 14]. Далее уже в 50-х годах XX века В.В. Кожинов в статье «Сюжет, фабула, композиция» отмечал, что для литературоведческих трудов его времени характерна «...терминологическая неясность и запутанность: слова «сюжет», «действие», «фабула» настолько многозначны и взаимозаменимы, что едва ли можно рассматривать их как научные термины. Каждое рассуждение о сюжетике вынуждено уделять немалое внимание собственно терминологическим вопросам» [66,408]. И в настоящее время один из наиболее спорных пунктов в литературоведческом понимании сюжета - содержание самого термина: поскольку сюжет представляет собой довольно широкую категорию, возникают его различные определения в зависимости от аспекта рассмотрения по отношению к трем основным уровням текста: лексическому, образному и идейному.
На лексическом уровне через художественную речь происходит трансформация фабулы, жизненной реальности, в сюжет - художественную реальность. С этим связана та особенность сюжета художественного произведения, которую Л.С. Левитан и Л.М. Цилевич считают его специфической чертой, - «непересказуемость, непереводимость в другую, не художественную систему» [75, 7]. На это указывает и В. Кожинов: «сюжет...не может быть пересказан, ибо... произведение и есть наиболее сжатый, не имеющий ничего лишнего, рассказ о сюжете, словесное воплощение сюжета» [66, 421]. При этом в общем лексическом строе произведения выделяются слова-доминанты, «...выражающие (прямо, или метафорически, или символически) смысл произведения» [74, 54] и несущие особую сюжетную нагрузку, представляющие собой некие сюжетные стержни.
На образном уровне сюжет представляет собой пространство развития художественных образов, превращения персонажа в характер. Об этом говорил М. Горький, для которого сюжет представляет собой «...связи, противоречия, симпатии, антипатии и вообще взаимоотношения людей - истории роста и организации того или иного характера, типа» [41,215].
На идейном уровне сюжет становится не только выражением концепции создателя произведения, но и, по мнению В.Б. Шкловского, своеобразным авторским «средством познания действительности, способом анализировать основной предмет повествования» [134, 102-103]. Об этом же пишут Л.С Левитан и Л.М. Цилевич в книге «Основы изучения сюжета»: «В сюжете писатель выражает свое понимание процессов, происходящих в действительности» [74,14]. Поэтому, несмотря на то, что в основе любого сюжета лежит внешний или внутренний конфликт, «в сюжет входят образующими моментами и анализ характеров, и описание природы, и мысли автора» (Шкловский В.Б.) [134, 102]. Примыкает к идейному уровню и композиционный, который выражается в том, как автор располагает события, в выстраивании сюжета.
Соответственно этим уровням парадигматически в структуре самого сюжета можно выделить несколько слоев информации: фактуальный (цепь событий и ситуаций в произведении, представляющая собой развитие конфликта, лежащего в основе сюжета); концептуальный (идейное значение изображаемых событий и характеров); уровень словесной реализации сюжета; содержательно-подтекстный уровень - широкий пласт информации, включающий в себя и сознательный слой (намеренные авторские интенции), и бессознательный (психоидеология эпохи, мифопоэтический подтекст и т.д.) (Гальперин [36]).
На синтагматическом уровне сюжет представляет собой процесс развития основного конфликта, движение от завязки к кульминации и развязке. По типу конфликта классифицирует сюжеты В.Е. Хализев. Он выделяет сюжеты традиционные, канонические (архетипические), где «действие движется от завязки к развязке и выявляются конфликты преходящие, локальные...». [130, 219], и нетрадиционные, неканонические, основу которых составляют «устойчивые конфликтные положения, которые мыслятся и воссоздаются неразрешенными в рамках единичных жизненных ситуаций, а то и неразрешимыми в принципе» [130, 222]. Я. Пропп в «Морфологии сказки» предложил универсальную схему построения архетипических (сказочных) сюжетов, которые состоят из последовательности «функций действующих лиц». Используя его модели, уже современный исследователь В. Руднев перевел эти функции в шесть групп сюжетообразующих трехчленных модальностей: элегических, деонтических, аксиологических, эпистемических, пространственных, временных. Сюжет возникает, когда один из трех членов модальности меняется на противоположный или соседний. Например, если рассматривать пространственные модальности, то сюжет «...возникает тогда, когда герой... уезжает путешествовать, изменяя модальность «здесь» на модальность «там»» [177]. Таким образом, был предложен новый взгляд на построение сюжетов и классификацию с точки зрения их отношения к реальности. При этом рассматривались не только традиционные сюжеты, как в исследовании Проппа, но и неканонические, которые стали преобладать в литературе XX века.
Таким образом, единое определение сюжета, охватывающее все аспекты этого понятия, было бы слишком громоздким и неоднородным по своей смысловой структуре. Однако такую попытку предприняли Л.С. Левитан и Л.М. Цилевич в книге «Основы изучения сюжета»: «сюжет - это художественное действие во всей его полноте: последовательность событий и ситуаций; развертывание темы -движущаяся коллизия - раскрытие характеров в их взаимодействии; одна из форм осмысления действительности, выражения идеи произведения» [74, 21]. Мы же в своей работе будем пользоваться более частным определением сюжета как «цепи событий, воссозданной в литературном произведении, т.е. жизни персонажей в ее пространственно-временных изменениях, в сменяющих друг друга положениях и обстоятельствах» [ 130,214].
Второй очень спорный аспект данной литературоведческой категории -соотношение сюжета и фабулы. Этимологически слово fabula означает «басня, история, рассказ» (лат.), sujet - «предмет» (фр.), но их значения в истории науки о литературе трактовались по-разному. Существует даже мнение, которого придерживается Л.И. Тимофеев, что эти термины синонимичны, и различать их -значит еще больше запутывать сложившуюся и без того неясную ситуацию [117].
Интерпретация смерти в классической философии и литературе
В первобытном обществе представление о смерти, как пишет Ж. Бодрийяр, «...соответствовало логике их амбивалентных взаимообменов со всем окружающим миром, так что в рамках их социальных структур даже природные катастрофы и смерть оставались постижимыми уму» [21, 288]. В результате во многих архаических культурах смерть человека воспринималась как итог вмешательства некой враждебной силы, но вместе с тем рассматривалась и как необходимое дополнение к жизни, новый онтологический статус человека - души, отделенной от тела.
Античная культура создает разветвленную мифологию смерти-бессмертия, включающую в себя загробное существование, идею посмертного суда и воздаяния, а также понятия рая и ада. Постепенно на основе мифологии развивается и философская идея смерти, хотя, по утверждению танатолога А. Лаврина, «в античной философии отношение к смерти определялось несколькими факторами, в том числе природой, характером смерти» [71]. Так, естественная смерть для Платона «...безболезненна и сопровождается скорее удовольствием, чем страданием» (диалог «Тимей»), а бессмертие души подтверждалось четырьмя доказательствами, связанными с особенностями учения об идеях. «Последователи Аристотеля, - как пишет далее А. Лаврин, - держались веры в божественное начало мира, дозволившее формам бытия развиваться и умирать по собственным законам... Киники породили стоиков с их нарочитым презрением к смерти... Если жизненные отношения складывались так, что невозможно было их упорядочить, стоики предпочитали покончить самоубийством, нежели добавлять в мир лишний хаос» [71]. В целом же, независимо от философских и религиозных убеждений, «Рим и Греция возвели смерть на мраморный пьедестал. Хорошей смертью была смерть героя или свергнутого императора, который бросается на меч или бьет себя в грудь кинжалом» [71]. Подобные деяния становились поступками, обеспечивающими вечную славу, а, значит, бессмертие. Смерть же в рамках текста прочно связывается с категорией трагического и катарсисом героя и читателя («Поэтика» Аристотеля). В Средние века новые духовные ориентиры, теоцентризм сознания, изменили суть восприятия смерти: в данную эпоху, как пишет исследователь-медиевист А.Я. Гуревич, «.. .человек ощущает, осознает себя сразу в двух временных планах: в плане локальной преходящей жизни и в плане общеисторических, решающих для судеб мира событий - сотворения мира, рождества и страстей Христовых. Быстротечная и ничтожная жизнь каждого человека проходит на фоне всемирно-исторической драмы, вплетается в нее, получая от нее новый, высший и непреходящий смысл» [42, 127]. Эта принадлежность двум временам определяет и отношение к смерти - конечность земной жизни и смерть побеждаются вхождением в вечное Царство Божие и обретением тем самым личного бессмертия: «никто не получает так много от Бога, как тот, кто умер», ибо «смерть дарует мученикам бытие; они теряют жизнь и обретают бытие» (Экхарт).
Яркие образцы подобного восприятия жизни и смерти давали жития, к примеру, «Житие и деяния человека Божия Алексия». Герой ведет жизнь, абсурдную с точки зрения современного человека, в которой, однако, угадываются основные события жизни Христа: мотивы «благословенного» и «мудрого» ребенка, страдания и самоуничижения, бегства от родных и подчинения Отцу Небесному, голоса как знака богоизбранности, смерти в пятницу образуют тот самый подтекстный план «сакральной истории», о которой писал Гуревич. Жизнь Алексия, построенная по модели Христа, становится своеобразным искусством правильного умирания, ведущего к жизни вечной. Недаром в сцене смерти Алексия центральное место занимают мотивы воскресения и преображения, как его личного («И, открыв лик Алексия, увидел, что он сверкает, как лик ангела...» [158, 160]), так и всенародного («Ограждавшие неисцелимыми недугами, взглянув на святого, разрешились от всех скорбей своих - немые заговорили, слепцы прозрели, одержимые демоном стали здоровы, прокаженные очистились и всякая иная болезнь отошла от них» [158, 161]). Всеобщая радость и признание, победа над смертью и ее бессилие, выражающееся и в отсутствии физического тления, становятся закономерным итогом жизни праведника, выбравшего в качестве ценностного ориентира не «Град Земной», а «Град Божий». Таким образом, в средневековом сознании смерть побеждается ориентацией на загробную вечную жизнь в Царстве Небесном, при этом земное существование является лишь подготовкой, полем борьбы за это бессмертие.
Но вместе с тем наряду с подобной «священной» культурой существовала и народная, в которой необходимость «помнить о смерти» и Страшном Суде вызывает почти патологическое влечение к ней. Смерть становится элементом народной карнавальной стихии: сцены разложившихся трупов в иконографии и искусстве macabre; толпы зрителей на публичных казнях, похоронах, турнирах и т.д. В этом влечении средневекового человека к зрелищу смерти, причем к наиболее отвратительным ее сторонам, с особой силой проявляется подсознательная жажда жизни («именно на фоне чужой смерти человек ощущает и осознает, что он живет» [89]), а также «протест против воздержания, аскетизма, всего того, что именовалось грехом, но без чего была немыслима повседневная жизнь» [89]. Так христианские представления соединялись с языческими, приводя к особой культуре смерти и умирания, где смерть соединяла в себе противоположные начала гибели и жизни - не случайно М. Бахтин, рассуждая о своеобразии этой культуры, дает образ смерти в виде беременной старухи. Эта карнавальная амбивалентность «народной» смерти наряду с вхождением в сакральный хронотоп жизни, смерти и воскресения Христа становится особым способом экзистенции человека средневековой культуры.
Особенности представления художественного пространства
Представление пространства в рассказах колеблется от условно-реального (Пелевин, Фуэнтес, Павич, Попов, Сорокин) до подчеркнуто-символического (Борхес, Бланшо, Бартельми), но тем не менее в нем есть общие черты, которые позволяют говорить о присутствии особого топоса разворачивания данного сюжета. Местом действия практически всех рассказов является город («De profundis», рассказы Виана) или его отдельные части - улицы («Хрустальный мир»), дома («Корсет», «Заклинание орхидеи», «Смерть Эдварда Лира»). Это связано, вероятно, не только с отражением современной урбанизации человеческой жизни, но с обращением к архетипическому символизму города как модели мира, что дает возможность писателям превращать его в знак расширения текстового пространства. С другой стороны, избрание города в качестве места действия мортального сюжета показывает, что смерть переходит в область повседневной жизни. В результате появляются такие фигуры, как ученик-могильщик Фидель с гробовой плитой под мышкой в обычном парижском метро, или убийца Ольн с вырванным сердцем в кармане и залитой кровью одежде (Виан), или витрина с трупами-манекенами (Ерофеев). Может быть поэтому, под угрозой наступающей смерти, пространство обитания героя сжимается до одной комнаты («Заклинание орхидеи», «Печальная история», «Устами богов», «Зеркало и маска»), корабля («Долгое ночное плавание», «Лотерея в Вавилоне»), улицы («Хрустальный мир»), и в результате происходит разделение единого художественного пространства действия на внешнюю и внутреннюю зоны, отличающиеся как по своим характеристикам, так по значению для героя.
Внешнее пространство в большинстве текстов предстает как бесконечное: «.. .вяло запульсировала Центральная улица - раздвоенная линия жизни... линия, продолжающаяся по обоим берегам Зоны Канала и ветвящаяся до бесконечности...» (Фуэнтес) [162, 343], «...он (город) превратился в безбрежный конгломерат...» (Ерофеев) [160, 38], «...а Библиотека сохранится: освещенная, необитаемая, бесконечная...» (Борхес) [156, 150] и т.д.. Бесконечность создается за счет расплывчатости очертаний, отсутствия четких границ: «У нас совершенно отсутствуют подробные карты города с обозначением всевозможных улиц, проездов, фонтанов и т.д.» (Ерофеев) [159, 37], или помещается в подтекст повествования («Долгое ночное плавание», «Лотерея в Вавилоне» и др.).
Внешнее пространство формируют древнейшие мифологические оппозиции «верх - низ», «тьма-свет» и символы воды, ветра, земли, которые более подробно будут рассмотрены в 4 главе работы при анализе знаковой структуры мортального сюжета. В целом же присутствие данных мифологем и их оппозиций в пространстве действия мортального сюжета актуализирует их архетипическое значение, формируя архаичный мифопоэтический подтекст рассказов. В результате пространство действия из конкретной реальности превращается в зону неопределенности, перехода от одного состояния к другому, от жизни к смерти 106 осуществляется выход из «профанного» пространства в «сакральное» (М.Элиаде), которое и становится местом разворачивания современного мортального сюжета.
Герои рассказов ищут спасения от этой «сакральности» в собственном внутреннем пространстве, отгороженном от внешнего стенами комнаты или тюремной камеры, пустыней, морем. Эта отгороженность может быть передана символически, через знаки: «Свою квартиру на втором этаже, за большой стеклянной перегородкой, отделявшей входную дверь от лестницы, оклеенной разноцветной бумагой, они заполнили мебелью...» (стеклянная перегородка еще трижды упоминается в рассказе Павича «Сводный брат» [162]), «Стою перед высокой ржавой калиткой. Сквозь прутья вижу аллею» («Сад, где ветвятся дорожки» [156, 161]), город Бессмертных («Бессмертный») огражден от окружающего мира пустыней, башня, где скрываются герои «Последних слов» (Бланшо) - высотой. В других рассказах отгороженность является не предметной, а, скорей, психологической - «находясь между двумя крестами и двумя мечами» (Павич [163]). Зачастую герои сами стремятся оградить свое пространство от внешнего мира: герой рассказа «Другая смерть» «...жил на хуторе в полном одиночестве неподалеку - в 2 лигах - от Ньянкая» [156, 78], Уэн из «Печальной истории» Виана сетует на то, что «вот уже которое тысячелетие жилые дома стоят с продырявленными стенами» [157, 361]. Отгороженность от внешнего мира ведет к тому, что внутреннее пространство становится замкнутым: «слева, в узеньком дворике, усаженном обмазанными известью деревцами, разминались ... их коллеги» («Примерные ученики», Виан [157, «...от него вела в глубь территории дорожка, огороженная с обеих сторон колючей проволокой» («Примерные ученики», Виан [157 ), «Они отрезали нас от тылов. Мы, наверное, уже полностью окружены...» («Мурашки», Виан [158,/Й/), дворец в рассказе Борхеса «Парабола дворца» расположен в центре амфитеатра и т.д. Интересно, что у Борхеса замкнутость передает не только постоянно присутствующий в рассказах образ пространства-лабиринта, но и патио — внутреннего дворика. Героя рассказа «Deutsches Requiem» постоянно преследует замкнутое пространство: больничная койка, концлагерь, тюремная камера.
При этом зачастую герои сами стремятся «загерметизировать» внутреннее пространство: «Я поднялся к себе в комнату, непонятно зачем запер дверь...» (Борхес [156 ); в рассказе Фуэнтеса «Устами богов» главный герой Оливерио не любит смотреть в окно, выходить на улицу. «Размыкание» же пространства так или иначе ведет к смерти: разбивая стекло, Оливерио выбрасывает из окна старика; дверь лифта открывается в пространство смерти; открытая дверь номера Оливерио впускает языческое божество Тласоль, убивающее героя. Смерть как выход за границы внутреннего пространства, его «разгерметизация» встречается еще в нескольких рассказах: герой рассказа Виана «Печальная история» умирает вне пространства своей комнаты, причем он, как и Оливерио, старается отгородиться от внешнего враждебного мира: «Он терпеть не мог, когда незашторено окно...» [157, 361]. Смерть вместе с открытой дверью приходит в комнату за «стеклянной перегородкой» из рассказа Павича «Сводный брат»: «Настежь открытая двустворчатая дверь за оклеенной бумагой стеклянной перегородкой - мертвая тетка Анка». Ника, героиня рассказа Пелевина, находит смерть на улице под колесами автомобиля, уйдя из безопасного пространства комнаты; в другом рассказе этого же автора («Вести из Непала») иное, враждебное, пространство входит в комнату для совещаний через радио. В рассказе Кортасара «Зверинец» открытые двери комнаты впускают ягуара, несущего смерть.
Но опасность таится не только в проникновении внешнего враждебного пространства, она заключена и в самом «убежище» героев, прежде всего в его замкнутости. Внутреннее пространство комнат словно «надвигается» на героев, сужаясь или опускаясь: «Низкий потолок, стены, стонущие при совокуплениях в цементе углов. Да, стены сближались и сужались...» (Фуэнтес [162, 329]), «их высота, равная высоте этажа, едва превышает средний рост библиотекаря» (Борхес [156,?(]), «папа ходит, задевая головой о потолок» (Ерофеев [160 ), «они отрезали нас от тылов. Мы, наверное, уже полностью окружены... По-прежнему в окружении. Кольцо вокруг нас все стягивается...» [157,/ j. Этот рассказ Виана («Мурашки») особенно интересен: пространство в нем постепенно стягивается до точки - герой стоит на мине и не может сделать ни шага в сторону.
Архаические мифологемы
Основной конфликт рассматриваемых рассказов дублируется на уровне противостояния архетипических мифологем света и тьмы, традиционно представляющих жизнь и смерть, однако реализация их в современных текстах имеет свои особенности. В частности, мифологема света помещается в такой контекст, что приобретает отрицательную семантику: «вспышки залпов» («Мурашки»), «резкий свет от большой лампы» («Пустынная тропа»), «звезды сияли колючим светом» («Два студента из Ирака»), «солнце свирепо палило» («Бессмертный»), «светлые лезвия» дождя («Заклинание орхидеи») и др. В рассказе Борхеса «Вавилонская библиотека» ее описание как «освещенной, необитаемой» вводит семы света и отсутствия жизни в один смысловой ряд, делая их синонимами. В другом тексте того же автора («Бессмертный») свет также приобретает негативное значение: Город Бессмертных, по-настоящему уничтожающий человека, характеризуется «ослепительным сиянием»; солнце представлено как враждебная сила, несущая смерть. Особое взаимоотношение смерти и света прослеживается в рассказах Мамлеева: смерть предстает и как тьма, и как свет в зависимости от уровня восприятия. Темнота соединяется у Мамлеева с представлением о смерти как «обрыве в ничто» [161, 218], которым обладает большинство людей: «...в исковерканных очертаниях предметов в темноте видел я это немыслимое, все отрицающее ничто» [161, 218]; «...тот ужас перед ничто возникал всегда впотьмах, в одиночестве» [161, 219]. Но истинная суть смерти не в этом - «и тот глубокий ужас перед ничто уходил куда-то в сторону, и, наоборот, сознание гибели лишь возбуждало ощущение тайны» [161,
162 219]. Это восприятие смерти как Тайны, противостоящей обыденности мира, как очищение от всего грязного, плотского, тупого, бесчеловечного, что присутствует в бытии человеческой жизни, приводит к отождествлению смерти и света: «Но для земного этот мрак, этот страх, возможно, был светом. И, вьщеляясь от бездонного ужаса в ее глазах, этот свет очищал окружающее» («Ковер-самолет» [161, 36]). В рассказе «Ковер-самолет» в этом плане знаменательна реакция Марьи, которая «говорила соседу Бесшумову, что ребенок все равно умрет, но-де от этого Раиса Михайловна должна только веселиться. Когда Бесшумов, пожевав бумагу, спрашивал: «Почему веселиться»? - Марья загадочно улыбалась и отвечала только, что будет больше свету» [161, 36]. Отождествление смерти и света указывает на универсальное значение смерти как очищения человеческого пространства от грязи, которая сконцентрирована в персонажах Мамлеева.
Связь света и мрака подтекстно прослеживается также в мотиве ослепления: «свет слепит» («Сад»); «стеклянный глаз сиял, как прожектор, ослепляя...» («Пустынная тропа»); «день слепой, белый» («Тетрадь индивидуалиста») - свет порождает свое отсутствие, тьму, подчеркивая их взаимопереход. В рассказе Мамлеева «Ковер-самолет» отличительной чертой героини, «ослепленной» своей новой покупкой и не видящей ничего, кроме нее, являются «светлые, сурово-замороженные» глаза. Отрицательную коннотацию приобретает также отраженный свет, становясь знаком отсутствия жизни: «лепестки отражались в мертвых глазах светом» («Заклинание орхидеи»); «стеклянный глаз сиял, как прожектор, ослепляя...» («Пустынная тропа»). При этом в источнике света часто читается постмодернистская ирония: «блестели разводы бензина» («Печальная история»), или же значением света наделяются неожиданные образы и предметы.
Отличительной чертой реализации мифологемы света становится также его размытость: ореолы, «тусклый свет луны» («Печальная история»), «неяркие фонари» («De profiindis»); «серый свет», «тусклое красноватое мерцание» («Ухряб»), «мерцало размытое солнце» («Ника»); «неяркий свет» («Вавилонская библиотека»); «тени и свет догорающего дня» («Парабола дворца»); «мягкое сумеречное солнце» («Сад, где ветвятся дорожки»); «полумрак» («Сад, где ветвятся дорожки»); «свет через ледяной куб» («Устами богов»), «матовое стекло»
163 («Последнее слово»), «солнце слабо просвечивало сквозь ели» («Открытие сезона»). Это создает особую атмосферу «перехода», архетипической пограничной зоны между жизнью и смертью, ослабляя присутствие «жизни» в виде света. В то же время в текстах сохраняется и архетипическое положительное значение света как противодействия тьме и гибели, более того, взаимодействие данных мифологем становится подтекстной основой некоторых сцен. Так, в «Хрустальном мире» Пелевина атмосфера Апокалипсиса дополняется нарастанием темноты - гаснут почти все фонари и окна в доме, появляются «клубы черного тумана», «сырой и холодный мрак». В соответствии с этим меняется и состояние героев - они чувствуют «смятение духа», «наваждение». И, напротив, когда кокаиновые видения героев переносят их в иное пространство, меняется и архетипический уровень восприятия: Николаю кажется, что улица поднимается вверх (архетип высоты, полета), одушевляется - начинает «ползти», появляется луна (архетип света) - акцент здесь делается на архетипах, противостоящих тьме, разрушению и гибели.
Мифологему тьмы в текстах представляет черный цвет и «темнота» окружающего пространства: «сгустки тьмы» («Печальная история»), «темная шестиугольная плитка» («Золотое сердце»), «темнеть», «мрак» («Одиннадцатый палец»), «подвалы под землей» («Долгое ночное плавание»), «тень низко опущенной лампы» («Сводный брат»), «закутанный в темноту, как в пальто» («Два студента из Ирака»), «чернота», «мгла», «сырой и холодный мрак» («Хрустальный мир»), «что-то темное» («Вести из Непала»), «темный коридор», «темнел асфальт» («Ника»), «подземелье», «полутьма опочивальни» («Лотерея в Вавилоне»), «темный разлив ночи» («Сад, где ветвятся дорожки»), «темный и сырой подвал» («Устами богов») и др., - лексемы со значением темноты являются одними из самых частотных в данных текстах, связывая рассказы между собой в качестве стержневого компонента пространства. Значение тьмы содержит и указание на время действия - ночь, сумерки, «мглистый вечер» («Ухряб») и т.д.
Вместе с тем реализация мифологемы тьмы в текстах встречается и на несколько ином уровне - с точки зрения восприятия героя - и в результате сквозным мотивом рассказов становится мотив слепоты как модели небытия.
Наиболее яркое выражение он получает в текстах Павича. Слепота может присутствовать на физическом уровне: так, герой рассказа «Одиннадцатый палец» теряет зрение: «...но серебром я пишу не из-за большого богатства, а из-за того, что зрение мое слабеет... Пока перо блестит, я вожу им потихоньку, а как перо потемнеет, так и в глазах у меня темнеет...» [163, 6]. В данном случае свет, точнее, блеск, связывается с письмом, делает возможным сам процесс сотворения текста среди надвигающегося мрака небытия - эта ассоциация текста, побеждающего небытие, подтверждается и на сюжетном уровне рассказа. Кувеля, обращаясь к своим господам, в письме просит взять на службу своего брата, тем самым дав возможность бессмертия своей семье через продолжение служения: «И я был счастлив, что нить нашей семьи не прерывается, как гнилая веревка, и что на службе вашей пресветлой республики будет еще один Кувеля...» [163, 15].
Мотив слепоты присутствует и в рассказе «Два студента из Ирака», где солдат выкалывает глаза героине осколком бокала. При этом прослеживается движение мифологемы тьмы: солдат становится на черный квадрат пола, в результате в его душе побеждает сила тьмы, и эта тьма переходит к героине через ее ослепление. Таким образом, внутренняя темнота солдата переходит, проявляется во внешней слепоте Тии Мбо. Слепота Тии Мбо служит толчком к строительству города, овеществляющего сон о смерти «Зевгар»: «Мы могли бы привести туда Тию Мбо, чтобы она могла потрогать «Зевгар» руками и поселиться в нем, ведь на бумаге она его уже не увидит» [163, 178]. Стремление «потрогать» смерть, найти ей вещественное воплощение и губит в конечном счете героев рассказа, которые тонут в таинственном здании с двумя выходами. Таким образом, здесь слепота становится шагом на пути к смерти.