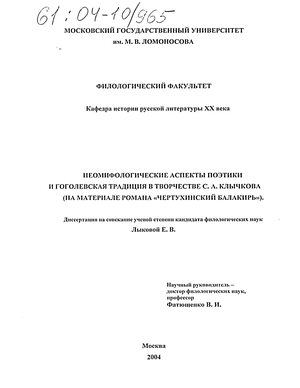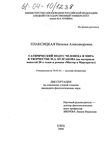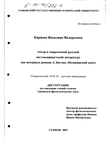Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Мифопоэтическая антропологии романа 23
1.1. Петр Кирилыч 26
1.2. Спиридон Емельяныч 35
1.3. Леший 49
1.4. Маша 56
Глава 2. Мифопоэтика пространства 64
2.1. Сюжетное пространство 64
2.1.1. Первый круг сюжетного пространства (дом и деревня) 67
2.1.2. Второй круг сюжетного пространства (лес) 80
2.2. Иконическое пространство храма 103
2.2.1. Эстетический аспект икоиического пространства 102
2.2.1.1. Цветовая символика 109
2.2.1.2. Световая символика 123
2.2.1.3. Иконичность растительного орнамента 129
2.2.2. Онтологический аспект икоиического пространства 132
Глава 3. Таинство литургии и художественное время 147
3.1. Мистериальность и художественное время 147
3.2. Проповедь и художественное время 155
Глава 4. Мифопоэтика мотивов произведений Н. В. Гоголя в романе С. А. Клычкова Чертухинский балакирь 170
4.1. Картина человека (основные мотивы) 170
4.2. Дифференциальные признаки в картине человека. Черты лица. Деформация образа лица 184
4.3. Мотивный комплекс слова в связи с повествовательной структурой волшебной сказки 194
Заключение 203
Библиография 209
- Спиридон Емельяныч
- Первый круг сюжетного пространства (дом и деревня)
- Онтологический аспект икоиического пространства
- Мистериальность и художественное время
Введение к работе
Актуальность темы исследования связана с осмыслением в современной культуре такого яркого феномена, как мифотворчество. Филология последних двух десятилетий сосредоточила свое внимание на разработке различных аспектов мифотворчества в классическом литературном наследии и литературе XX века в особенности. «Современное мифотворчество», заполняющее сознание людей в различной форме - от навязчивой рекламы до наивной веры в очередного шарлатана-мессию — только подтверждает тот факт, что человек, лишенный истинной духовной жизни, испытывает желание заполнить образовавшуюся лакуну. По словам Е. Б. Скороспеловой, «стремление обнаружить универсальные начала в конкретно-исторической ситуации, открыть «символические соответствия» в искусстве и реальности, обнажить соположенность разных культурных эпох породило такой способ универсализации как неомифологизм» [242, с. 52].
Для С. А. Клычкова бережное отношение к слову равнозначно прославлению Духа, пребывающего в человеческой душе. Деформация слова и писательского творчества в целом свидетельствует о разрушении, вплоть до полного исчезновения, личности («Самого главного тут нет - нет именно никакой души, есть пар словесный, «приросшая» к затылку заковырка» [1:2, с. 480]).
Творческое использование фольклора, старообрядческих преданий, святоотеческой и художественной литературы на уровне мотивов, образов и сюжетов формируют новый крестьянский миф. Стереотипное восприятие Клычкова как проповедника крестьянской (у символистов) или «кулацкой» идеологии (О. Бескин) предопределило во многом негативное отношение к творчеству писателя, оставив его непонятым. Рассуждая о судьбе великого предшественника С. Л. Клычкова - Н. В. Гоголя, И. Ильин в статье «Гоголь -
5 великий русский сатирик...» заметил: «Даже современники редко понимали его, а то и вовсе не понимали» [129, с. 142]. Кроме общности критического отклика на творчество писателей, их роднит трогательное отношение к мифологизации крестьянского быта, выраженного в мифопоэтической символике.
Обращение к гоголевским мотивам не случайно: «острая нужда в гармонии» (И. Солнцева) актуализирует религиозные мотивы. Дьявольщина, открыто заявляющая о себе в «Петербургских повестях», уже вытворяет «проказы» в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Миргороде». У Гоголя активное вторжение черта в повседневность, по мнению Д. Мережковского, имеет мистическое основание. Клычков, наследуя гоголевскую традицию, противопоставляет бесовской дисгармонии божественную цельность природы. Важно отметить, что влияние малороссийских сказок на Гоголя происходит в период раннего творчества писателя. Для Клычкова сказочность актуальна всегда. Лейтмотивом его творчества служит завет другого классика - Н. С. Лескова: жить в ладу со своей старой сказкой.
Анализ сюжетно-повествовательной формы в рамках
неомифологической поэтики, с учетом достижений, сделанных в этой области, призван, в первую очередь, показать принципы создания нового крестьянского мифа.
Состояние научной разработанности темы. Интерес к творчеству С. Л. Клычкова возник после снятия долгого запрета на публикацию его произведений. Примерно в одно время были защищены четыре кандидатские диссертации (Солнцевой Н. М. (1989), Селицкой 3. Я. (1989), Киселевой Л. А. (1990), Изумрудова Ю. А. (1993)).
В диссертации Н. М. Солнцевой проводится анализ содержания,
отмечается художественное своеобразие романов Клычкова.
Немногочисленные статьи (Неженца II. и Блинова С), касающиеся отдельных аспектов поэтики лирических текстов, имеют, скорее, публицистический характер. Н. С. Солнцевой впервые осуществлено полноценное научное
исследование прозаических текстов писателя. Автор высказывает мнение, что Клычков в интересующем нас в первую очередь «Чертухинском балакире» выразил свою натурфилософию, основанную на идее пантеизма, противопоставил ее философии христианства. В диссертации подчеркивается исключительность Петра Кирилыча - персонажа, вокруг которого сосредотачиваются усилия трех носителей отличных друг от друга мировоззренческих систем: Ульяны, материализовавшей идею плоти; Спиридона - еретика-христианина и дуалиста; Антютика - натурфилософа и пантеиста. Творчество Клычкова рассматривается в контексте тех идейных и научных споров 20-30-х гг. XX в., которые стали актуальны и в конце столетия (Б. Можаев, В. Белов, В. Распутин и др.).
В 1992 г. вышла монография Н. М. Солнцевой «Китежекий павлин», посвященная творчеству крестьянских поэтов, а в 1993 - «Последний Лель. О жизни и творчестве Сергея Клычкова», в которой удачно сочетается биографический метод и литературоведческий анализ текстов писателя и поэта С. А. Клычкова. Творчество Клычкова представлено в широком контексте эпохи: это и родная Тверская земля со своими чудесными деревенскими легендами, и интересные знакомства в кружке Эллиса, первые печатные произведения «Песни» и «Потаенный сад» в «Альционе», близость к поэзии символистов. На фоне изменений в социальной и литературной обстановке показано становление творчества Клычкова, его самобытность, круг интересующих тем и образов: природа, жизнь, лирические напевы, мифологические персонажи. «Пройдут годы, и Клычков вернется к темам уже распавшихся «Скифов». Он создаст образ мужичьего пророка, будет искать оптимальный вариант мужичьего рая, но в отличие от своих предшественников расскажет о том, что этот рай не только красив, но и жесток» [252, с. 44]. Автором сделано интересное наблюдение, выделяющее философскую прозу Клычкова среди творчества других писателей: предметом философских размышлений становится крестьянин.
Важным для широкого читателя событием стал выход двухтомника С. А. Клычкова, составление, подготовку текста и комментарии к которому были сделаны М. Никё, Н. М. Солнцевой, С. И. Субботиным и Г. Маквеем. Одним из последних обращений к неомифологической прозе Клычкова стала статья Е. Б. Скороспеловой «Неомифологизм как средство универсализации» в ее работе «Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»)» (2003). Е. Б. Скороспелова называет роман Клычкова «магическим»: в нем смешиваются сон и явь, равноправно сосуществуют реальные и фантастические персонажи. Повествование переводится из бытового в философский план, что позволяет «заявить о существовании крестьянского космоса с присущими ему законами, рассказать о происхождении этого космоса и о гибели, которую несет ему «железный черт» цивилизации» [242, с. 69]. Е. Б. Скороспелова пишет, что Клычков создал оригинальный вариант луиарного мифа, рассказов о происхождении месяца во вставной новелле об Иване Ленивом. Отмечается влияние фольклора на формирование типа мировоззрения автора и способы его претворения в романе, с этим связывается и тип повествования — особая сказовая манера, воссоздающая «архаично-разговорную фольклорную стихию».
Тем не менее, следует отметить отсутствие пристального интереса современных исследователей к творчеству этого талантливого поэта и писателя. Скорее всего, это можно объяснить трудностью восприятия текстов, насыщенных мифологическими персонажами и мотивами, что может вызывать поверхностное восприятие и, соответственно, непонимание произведений. Наиболее сложным, с точки зрения организации, структуры и взаимодействия мифопоэтических моделей, в полной мере представляющих творчество Клычкова, является роман «Чертухинский балакирь».
Накопившиеся за последние пятнадцать лет исследования в области неомифологической поэтики, а также работы более раннего периода по теории мифа, представленные в библиографии, вызвали потребность в
8 пересмотре отдельных мнений, целостном анализе поэтики С. А. Клычкова на примере романа «Чертухинский балакирь» (1926), наиболее ярко репрезентирующего тип неомифологической прозы. Влияние творчества Гоголя на поэтику произведений Клычкова исследуется впервые.
Цель - выявить мифопоэтическую составляющую в организации художественного мира исследуемого романа и определить специфику авторской установки.
В задачи диссертации входит:
проанализировать систему образов и сюжет романа в мифопоэтическом аспекте (антропологический аспект);
соотнести пространственно-временную модель мира в романе с языческой и христианской парадигмами, широко представленными в старообрядческих духовных стихах, апокрифах, святоотеческой литературе и самой архитектонике храма;
определить роль и значимость славянской мифологии и фольклорных источников в поэтике романе;
проследить влияние гоголевской традиции и специфику ее претворения в романе;
выявить специфику мифологической поэтики С. А. Клычкова в романе «Чертухинский балакирь».
Предмет исследования. Малое количество исследований творчества С. А. Клычкова (1889-1937) и, в первую очередь, его прозы обратили внимание диссертанта на роман «Чертухинский балакирь» (1926), наиболее последовательно отражающий зрелое мировоззрение писателя. По сравнению с первым романом («Сахарным немцем»), в котором Клычков был еще сильно зависим от формировавших его творчество источников - произведений II. В. Гоголя, Н. С. Лескова, в этом произведении уже в полной мере раскрывается «крестьянский космос» (Н. М. Солнцева). Концептуальной установкой здесь является достижение гармоничности мира, которая обнаруживает себя для
9 персонажей на разных уровнях. Она формирует и определенный, сказовый, образ повествователя, разворачивающего свой рассказ в назидательных целях, призывая читателя к установлению гармоничного диалога с миром и собой. Философское осмысление судьбы русского крестьянства должно было выразиться в задуманном автором девятикнижье, из которого вышли только «Сахарный немец» (1925, в изд. 1932 г. - «Последний Лель»), «Чертухинский балакирь» (1926), «Князь мира» (1927 - «Темный корень») и неоконченный «Серый барин» (1929). Последние романы отразят, на наш взгляд, утрату гармонии.
Методологическая основа работы включает новейшие концепты и методики в области теории и поэтики мифа, а также отдельные принципы, выработанные в ходе развития филологической науки отечественной «мифологической школой», А. Потебней и А. Веселовским, русскими формалистами. Изыскания структуралистов, оттолкнувшихся во многом от исследований В. Я. Проппа, помогли выявить универсальную сюжетную и пространственно-временную схему романа С. А. Клычкова.
Научная новизна исследования состоит в реконструкции уникальной поэтики автора в рамках мифологического и сказочного универсализма. Впервые исследуется влияние поэтики Гоголя на творчество Клычкова.
На защиту выносятся следующие положения:
использованные С. А. Клычковым в романе «Чертухинский балакирь» древние славянские и христианские мифы, фольклор, традиции народного театра и искусство примитива, составляющих в романе национальный колорит русского крестьянского быта, служат материалом для создания оригинального неомифологического романа;
в организации художественного мира романа наряду с языческими моделями мира С. А. Клычков использует христианскую иконическую модель;
мифопоэтика мотивов в произведениях Н. В. Гоголя, воплощающая синтез основных художественных тенденций романтизма, актуализирует общую для двух писателей онтологическую проблематику, но получает новое звучание в романе в связи с современными С. А. Клычкову задачами;
мир персонажей, модель поведения которых во многом подчинена сказочной, актуализирует языковую модель отношений субъекта и предиката, своеобразно претворяющуюся в тексте романа.
Апробация. Основные результаты работы отражены в публикациях и докладах конференций.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографии.
Немаловажным представляется культурный контекст, повлиявший на формирование неомифологической поэтики Клычкова, объектом которой стали народные верования и представления.
Во второй половине XIX века в отечественном литературоведении возникает мифологическая школа, представителями которой были Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, О. Ф. Миллер, А. А. Котляревский. Кроме того, на развитие теории мифа оказали влияние труды А. Н. Веселовского и А. А. Потебни.
Основным методом научных исследований школы был сравнительно-исторический метод, позволявший изучать памятники словесности и в то же время сравнивать с образцами словесности индоевропейских народов. Влияние мифологической школы братьев Гримм, возникшей в недрах немецкого романтизма и имевшей в основе идеи Шеллинга о национальном духе как основе материальных проявлений реальной жизни, на развитие русской мифологической школы признается многими мифологами, но при этом отмечается оригинальность подходов и открытий, сделанных русскими учеными.
Исследования в области лингвистики приводят Ф. И. Буслаева к выводу, что язык, являясь важным историческим источником, выступает в качестве инструмента познания ушедших эпох. Не менее важным для ученого-лингвиста было признание связи современной ему действительности с «доисторической» жизнью русского народа с его религиозными представлениями, преданиями и социальным устройством общества. Сравнивая готский и славянский переводы Евангелия, Ф. И. Буслаев в магистерской диссертации «О влиянии христианства на славянский язык. Опыт истории языка по Остромирову Евангелию», выделяет словарный пласт, внесенный в древний язык христианством, и доказывает, что славянский язык задолго до Кирилла и Мифодия подвергся влиянию христианских идей. Буслаев отмечает существование неразрывной связи между звуковой оболочкой и мифологическим понятием слова в первый, то есть древнейший период. Предметом исследования для него становятся древнерусские тексты.
Концепция Ф. И. Буслаева мифологической картины мира древних славян включает следующие положения:
Существование общего индоевропейского источника для мифологии славянских и германских племен.
Влияние быта и социальных институтов на своеобразное развитие этих мифологий (оседлость славянских племен и склонность к военному делу у германских народов).
Смена культов как отражение динамичности мифологических представлений славян в рамках бессистемности этих представлений.
Как следствие предыдущего положения - дробление мифологических представлений в различных литературных жанрах вплоть до утраты прямого смысла при сохранении переносного, как в пословицах и поговорках.
Исследуя народную веру и верования, Ф. И. Буслаев разграничивает их функционально: так, вера связана с высокой духовной сферой, а суеверия занимают житейскую, бытийственную нишу. Буслаев указывает на
12 практическое отношение средневекового человека к природе, облекаемое эпическими певцами в поэтическую форму.
Среди множества древнерусских текстов различного характера Буслаев акцентирует внимание на важности изучения житий русских святых. Апокрифы рассматриваются Буслаевым как произведения, смешивающие христианские предания с народными мифами и суевериями. Так, в основе народного стиха о «Голубиной книге» лежит апокрифическое сочинение «Беседа трех святителей», пришедшее, по мнению мифолога, из Болгарии. Но наиболее ярко, как отмечает Буслаев, народно-поэтическая традиция и книжная литература слились в «Слове о полку Игореве».
Идеи Ф. И. Буслаева стали отправной точкой для развития концепций А. Н. Веселовского (русская школа заимствования) и младших мифологов, среди которых ведущее положение занимают труды А. Н. Афанасьева. Научные изыскания этого ученого в области народной поэзии привели к постановке вопроса о сущности и происхождении мифа, которая связывалась с историческим развитием языка. Сильное влияние на проблему древних мифологических представлений оказали идеи А. Куна и В. Шварца об обожествлении древним человеком стихийных начал природы.
Интерес к русской литературе и к ее корням в русской филологической науке А. Н. Веселовский связывает с современными ему историческими событиями - постановкой вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Именно в крестьянстве он видит ту силу, которая способна создать мощную духовную культуру, черпая материал из разных источников: своих, национальных мифов, византийских (например, жития святых, различные сборники знаний о мире типа «физиологов») и западноевропейских работ, в том числе и художественных произведений, пришедших с письменной культурой и в связи с торговыми и дипломатическими отношениями. Веселовский подчеркивает, что заимствовалось только то, что было созвучно древнерусской культуре, при этом, например, переводные повести, попадая на русскую почву, получали оригинальную трактовку и
13 изменялись подчас до неузнаваемости и в соответствии с требованиями русской читательской публики того времени.
Что же касается национальных славянских мифов, то Веселовский отмечает, что народная фантазия «не выработала стройнаго культа боговъ» [62, с. 25]. Вхождение отдельных элементов древних культов и атрибутов богов, которые наследуют некоторые святые (например, Власий или Илья Пророк), в систему мировоззрения древнего крестьянина, Веселовский называет двоеверием. Формирование мировоззрения происходит при помощи многих факторов, в числе которых колонизация русскими новых территорий и возникновение различных ересей, имеющих, по Веселовскому, иностранное происхождение.
Особый отпечаток носит демонология в новгородских сказаниях. Это — борьба и результат освоения суровой природы: «...ничто такъ не поддается реальному превращенію въ демоническіе образы какъ силы природы. Стоить подумать о положеній новгородскихъ отшельниковъ, основывающихъ тутъ и тамъ обители, среди пустынныхъ л1)совъ и представить себі), какъ имъ должно быть жутко въ долгіе зимніе вечера, когда мятель воетъ и в!)теръ врывается въ окно. Имъ, совершенно отр!)заннымъ отъ міра, должны были представляться полчища б1)совъ, которыя нашептываютъ имъ что то, искушаютъ ихъ» [62, с. 95]. Несколько наивная, но вполне заслуживающая доверие гипотеза, красочно представляющая картину бытия отшельника, имеет под собой основание, сформированное самой древнерусской литературой и, в первую очередь, житиями святых. По этому поводу Веселовский замечает: «Демонологія, особенно у насъ на Руси, является однимъ из самыхъ благодарныхъ элементовъ при изображении подвигов Святыхъ» [62, с. 95]. Веселовский отмечает прямо пропорциональную зависимость соотношения искушений и святости подвижника.
Для нас важно и то, что Веселовский уделяет внимание идеальному образу иконописца, впервые в письменном виде зафиксированному
14 документами Стоглавого собора. Основными чертами иконописца считаются благочестие, набожность, смиренномудрие, непразднословие и чистота души, но, как замечает исследователь, образ остается только образом, неосуществимым «даже и въ древней Руси» [62, с. 139]. Каждый раз, описывая древнерусского человека, будь то великий князь, священнослужитель, мещанин или крестьянин, Веселовский стремится нарисовать реалистичный портрет человека и показать его идеальное воплощение в литературе. Два образа служат логическим продолжением друг друга - идеальное всегда лучше, чудеснее, оттого и в жизни чудесное воспринимается как реальное. Излюбленный герой Александр Македонский, а также Бова-королевич и Миликтриса Кирбитьевна чудесны и в то же время реальны по той простой причине, что живут в иноземных государствах, представления о которых «сформировались подъ несомненнымъ вліяніем византійскихь легендъ» [62, с. 20].
Сравнительный метод изучения (единственный, который признается Веселовским в качестве научного) позволяет сравнивать сюжеты и типы персонажей древнерусской и западно-европейской литератур. Веселовский приходит к выводу, что «сравнительный методъ изученія привелъ къ тому уб!)жденію, что и въ сказкі), и въ повести сюжеты можно свести къ ограниченному числу типовъ» [62, с. 178].
Кроме общности сюжетов, метод позволил Веселовскому выделить характерные черты национальных героев и национального колорита в произведениях, а также заимствованные элементы (атрибуты персонажей, мотивы, образы). Так, например, анализ рассказа о Савве Грудцине поражает исследователя воплощением образа зла: «...но даже на ряду съ чисто русскими религіозньїми представленіями насъ поражаетъ совсем новое (представленіе) воплощеніе злого начала: это уже не уродливый чортъ съ рогами, а изворотливый, умный и лукавый человек» [62, с. 182].
15 Несомненно, что такой горячий отклик у Веселовского возник в связи со сменой точек зрения древнерусского человека: зло, как исключительно внешняя субстанция, инобытийной природы, имело иное и в то же время тварное, уродливое воплощение в виде черта с рогами. Теперь же оно способно надевать маску, являться в образе человека, хотя это еще и не сам человек. У Гоголя же опасность еще ближе к человеческой душе, еще страшнее: персонажам нужно лишь заглянуть в зеркало, чтобы убедиться, что «рожа крива», но первые гоголевские опыты написаны все еще в фольклорном и житийном ключе. У Клычкова, продолжившего гоголевскую традицию, образ зла многогоранен. Многоликость состоит в фантасмагорическом сочетании мужского и женского в Антютике.
Всему несообразному, уродливому и Гоголь, и Клычков противопоставляют идеал красоты, имеющий корни в древнерусском понимании божественного начала, поэтому особое звучание приобретает история ростовщика Щила, и, в первую очередь, проблема восстановления образа, отмеченная Веселовским.
За свои тяжкие грехи Щил, легши в гроб и перед тем раздав имущество, нажитое ростовщичеством, тут же проваливается в ад. Епископ приказывает нарисовать на стене «среди пламени ада» Щила в гробу. Затем в монастыре начинаются моления о душе «иесчастнаго» Щила. «Вр1)мя от времени подходятъ посмотреть на изображеніе Щила, - въ первый разъ не находять никакого изм!)ненія. Снова начинается моленіе, къ окончанію котораго на картінкі) половина туловища Щила уже поднялась изъ пламени и наконецъ, после третьяго моленія изображеніе Щила все вышло изъ огня» [62, с. 94]. Это было знаком, что Щил прощен, находится среди праведников. Важность этого эпизода в том, что здесь подчеркнута не только связь изображения и посмертной участи человека и возможность изменить ее, что уже характерно было для магии в древнейшее время, но, в первую очередь, участие всего социального круга верующих, горячо возносящих свои молитвы к Богу, то есть соборность.
В качестве еще одной формы соборной жизни выступают духовные стихи, среди которых выделяется «Голубиная книга». Веселовский приводит этимологию названия этого сборника знаний о мире: «Первоначальное названіе этой книги было не «голубиная», а «глубинная», вероятно въ смысл!) глубины мысли, мудрости» [62, с. 41]. Исследователь хотя и связывает существование этой и подобных ей книг с раскольничьими течениями, упускает из виду образ голубя как символа Святого Духа. В заслугу исследователю можно поставить замеченную им вертикаль - выпадение книги с небес на землю, что признается Веселовским в качестве сюжетообразующей единицы. Тем не менее, мифологема книги, выпадающей с небес, навсегда будет связана с тайными знаниями, обладание которыми дает ключ к пониманию мира.
А. Н. Веселовский критикует «метеорологическую» теорию Афанасьева за односторонность. Он считает, что кроме «облачных мифов», повествующих о различных небесных явлениях, существует целый пласт мифов, касающихся и других сторон такого психического факта, как мифотворчество, а именно: мифы о лесе и воде. По мнению Веселовского, лес представляет собой особый, удивительный и таинственный мир, обладающий всеми необходимыми элементами для возбуждения в человеке религиозного трепета и божественного страха.
Концепция А. Н. Афанасьева об олицетворении природных стихий стала основополагающей для развития идей О. Ф. Миллера. «Мифическое начало», по Миллеру, присутствует, как в былинных сюжетах, так и в деталях других фольклорных произведений. Исследователь полагает, что в основе сказания лежит сюжет, персонажами которого всегда выступают три существа: светлое, темное и персонаж, существование которого определяет развитие действия, то есть борьбу с темным и светлым началом. Это положение критиковалось самим Буслаевым за предельную общность, в рамки которой можно вставить что угодно. Народную словесность Миллер
17 сравнивает с палимпсестом, тем самым, признавая важность изучения народных верований в их динамике развития.
Л. А. Котляревский обращает внимание на то, что миф призван объяснить человеку окружающий его мир. Вследствие этого связь языка и мифа становится непосредственной, язык иногда представляет единственный источник, позволяющий объяснить миф.
Следующим этапом в развитии мифологических представлений является усложнение мифа и его практическая реализация в обряде и религиозном культе. При этом отмечается нисхождение мифологических персонажей на землю, в сферу человеческого бытия (антропоморфизация) и восхождение человека, героя, до уровня богов посредством соединения кровными узами. Система древних мифов утрачивает былое значение, и на ее место приходит сказочное и легендарное, способное облекать в мифологическую форму исторические события.
Таким образом, признавая существование вторичной мифологической системы, утратившей мифологическое содержание, присущее первобытному мифологическому сознанию, Л. А. Котляревский приходит к выводу об устойчивости существования мифологической формы, которая включает различные элементы (например, чудесное, фантастическое). При этом миф получает новую религиозно-моральную окраску, заставляющую прежнюю мифологию перейти в ранг демонологии.
Рационалистическая концепция А. А. Потебни рассматривает мифологию как один из начальных этапов в развитии мышления. Мифологический тип мышления Потебня называет «научным», так как является способом познания мира, и универсален, потому что свойственен «не одному какому-либо времени, а людям всех времен, стоящим на известной степени развития мысли» [220, с. 303]. Разыскания А. А. Потебни в области символики фольклора связаны с теорией мифа. Для ученого было важно показать, что миф есть такой акт сознания, который происходит в то же время без его ведома. Иными словами, миф рождается в языке.
Л. Л. Потебня выделяет три типа мифов: мифы исторические (например, объясняющие названия городов); мифы, создающиеся при обобщении представления о каком-либо объекте; мифы, складывающиеся под влиянием внешней и внутренней формы слов и звуков. Слово, формировавшее в древности определенный тип мышления, широко раскрывает свои возможности в славянском фольклоре. Именно этим оно и привлекает исследователя.
В завершение этого краткого обзора основополагающих идей ученых второй половины XIX века, впервые поднимающих проблему мифологического сознания древности и его влияния па развитие фольклора и литературных (книжных) жанров, следует отметить, что изучение этих вопросов продолжалось и в XX веке.
Языческая мифология формировалась на протяжении многих столетий. Накануне крещения Руси сложившаяся форма государственности, особенности культурного национального колорита и международные отношения привели к тому, что перед государством и в первую очередь княжеско-дружинной верхушкой встал вопрос выбора веры, о чем свидетельствует «Повесть временных лет». После принятия христианства происходит трансформация культурного языческого кода: вера в языческих богов снижается до верований (суеверий), а персонажи древних мифов мыслятся низшими духами, занимающими нижнюю ступень божественной иерархии, и, тем не менее, не исчезают окончательно из сознания православного человека, а превращаются в элементы мировоззрения, следы которых можно найти как в XIX в., так и в XX в., и претворяются в конкретно-чувственной форме, соответствующей художественному восприятию - мифопоэтике. Е. М. Мелетинский в «Поэтике мифа» пишет: «История культуры на всем ее протяжении так или иначе соотносилась с мифологическим наследием первобытности и древности, отношение это сильно колебалось, но в целом эволюция шла в направлении «демифологизации» (ее вершинами можно считать Просвещение XVIII в. и
19 позитивизм XIX в.), а в XX в. мы сталкиваемся с крутой «ремифологизацией» <...>, но, - как отмечает далее исследователь, - понять сущность современного мифологизма можно, только уяснив «специфику подлинной мифологии, первобытной и древней...» [185, с. 10].
Одним из этапов «демифологизации» стала, как отметил В. Я. Пропп, волшебная сказка.
Знание культурного контекста эпохи в связи с развитием мифопоэтических теорий позволяет осмыслить творческий подход С. А. Клычкова и Н. В. Гоголя к означенной проблематике, которые свободно использовали мифологемы, пришедшие из глубин языка.
Для анализа мифопоэтической модели романа привлекается семиотический метод: соотносится структура разных эстетических объектов на основе их знакового тождества. В частности, обнаруживается сходство в структуре художественного пространства романа и православного храма, а также иконы.
Сюжетное пространство в романе, определяющееся во многом структурой волшебной сказки, помещает в центр крестьянский дом и деревню. Ландшафтное пространство простирается вплоть до Афонского монастыря. Три круга (первый - система поселений, погребальных памятников, земледельческих угодий; второй - река Дубна, чертухинский лес; третий - другие земли: село Гусенки, город, святая гора Афон, леса — весь мир) как бы прорезаны медиаторами, открывающими дверь в другой мир, божественный или демонический.
Исследование иконического пространства романа, рассматриваемого в рамках храмового и иконного пространства, с точки зрения эстетического восприятия позволяет привлечь широкий круг работ, посвященных «умозрению в красках», и раскрыть авторское своеобразие цвето-светового символического кода романа.
Сложная система символов, обнаруживающая онтологический аспект иконического пространства, имеет целью воплощение в божественной
20 литургии, представляющей со-бытие. Участие каждого элемента -божественная всеобщность - протекает и в реальном времени, и в вечности. Две системы образов, сопряженных с эсхатологическим комплексом представлений о судьбе человека, формируют концепты целостного храмового пространства как «корабля» и как «идеального пространства», то есть небесного Иерусалима. Еще одна система образов соотносит само устройство храма с моделью мира, демонстрируя, таким образом, божественную мудрость мироустройства.
Мистериальность литургии имеет двунаправленный характер: человеку, участвующему в литургии (пассивно или активно) позволено приобщиться к горнему, вечному миру; с другой стороны, «разыгрывание» божественной истории развертывает драматическое действие в историческом времени. Символизм божественной драмы составляет действительную часть первичного бытия и имеет целью успешное осуществление доктрины. Особенностью восточнохристиаиского богослужения, лежащего в основе литургии, представленной в романе, является формирование практически всей духовной культуры человека, содержанием которой выступает борьба сил добра и зла. Первостепенное значение приобретает Слово. В романе по отношению к молитве все остальные слова, произнесенные во время литургии, становятся оккультными. Манипуляция человеческим сознанием происходит и на уровне действий (например, каждение).
Словесное пространство заполняет все существование персонажей, скрывающих в ситуации проповеди иод различными масками свою истинную сущность. Подчас литургия превращается в дьявольскую мессу, а сложная и, на первый взгляд, логичная система аргументации, представляющая нагромождение мифологических конструкций, не встречает явного отпора со стороны убеждаемых персонажей. Лишь очистительный огонь сбежавших букв с иконы «Неопалимая Купина» восстанавливает божественную справедливость и открыто противостоит дьявольщине.
Основы представлений о мотиве были заложены еще Л. Н. Веселовским, В. Я. Проппом, О. М. Фрейденберг. Большую роль в исследовании этого понятия сыграла структурно-семиотическая модель, разработанная Е. М. Мелетинским. Мотив рассматривается как знаковый элемент повествования (учитывается семантическая, синтаксическая и прагматическая структура), функционирующий в контексте конкретных художественных произведений и творческих систем.
Знаковая природа мотива подразумевает наличие семантической структуры как иерархической системы «элементарных, но в то же время глубинных семантических сущностей, связанных логико-грамматическими отношениями нарратива и инвариантных по отношению к фабульным вариациям мотива» [241, с. 63]. Предикативность и коммуникативность обеспечивают связь мотива и сюжета. Два мотивных комплекса исследуемые нами: картины человека и слова раскрывают образ человека, его действия, моральный облик и место в модели мира.
Образ лица, прежде всего формирующий образ человека, важен для понимания художественной системы Н. В. Гоголя в связи с его религиозным мировоззрением. Не случайно С. Г. Бочаров отмечает, что в искусственном соединении И. Ф. Анненским частей лица из двух петербургских повестей «Носа» и «Портрета» «произошла греховная порча образа в человеке» [47, С. 100]. Активизация того или иного мотива, создающего образ лица, происходит в системе лик - лицо - личина и приближает человека к одному из полюсов существования - с Богом или чертом в душе. Фольклорные источники, повлиявшие на авторские концепции Гоголя и Клычкова, создают тот неповторимый национальный колорит, который обогащает литературную традицию знанием о человеке. Например, С. Максимов в «Нечистой, неведомой и крестной силе» указал, что малороссийские ведьмы обычно чернобровые красотки, в то время как великорусские - безобразные старухи. Это справедливо и для творчества исследуемых авторов.
22 Мотивный комплекс слова также включает мотив исторической памяти. Но религиозно-мифологический горизонт Слова простирается дальше. Его истоки в Священном Писании, в связи с чем семантическая наполненность мотива несет особую коммуникативную энергетику. Слову, выступающему признаком жизни и целостности персонажа, противостоят всевозможные деформации, свидетельствующие, по Гоголю, о раздроблении и исчезновении личности. Подобное понимание функции слова можно найти и в романе Клычкова. Пластичность слова (жесты) воплощает традицию народной драмы и балаганного веселья, что обуславливает присутствие персонажей, типологически восходящих к площадному театру. Отношения между персонажами, наделенными божественными и / или дьявольскими чертами актуализирует онтологическую проблематику произведений Гоголя и Клычкова.
Спиридон Емельяныч
Казалось бы, нахождение законного места в христианском миропорядке - статус жениха, а затем мужа на свадебном пиру должно было стать последним ходом действия, что вполне соответствовало бы структуре волшебной сказки. Но происходит, на первый взгляд, чудовищное недоразумение - в день свадьбы умирает невеста, что заставляет вспомнить данную автором характеристику Петру Кирилычу в самом начале повествования: «Тогда-то и придет на разум наш блаженной памяти чертухинский враль, Петр Кирилыч по фамилии Пенкин, у которого все в жизни было так же, как и у всех, только ему все казалось иначе, как может, никогда и ни у кого не бывает...» [1:2, с. 8].
Собственно, эпическое повествование о жизни села Чертухино предполагает сверхличную заданность персонажей, помещенных в этот художественный мир. Для Петра Кирилыча такой сверхличной задачей является нахождение собственного «места» в божественном миропорядке. Структура волшебной сказки связывает это с получением новой роли героем -женитьбой и воцарением, то есть совпадением внутриличностной и ролевой границы. Петр Кирилыч, пройдя все ступени, ведущие к социальному благополучию и духовному преображению, сталкивается с факторами распадения личности, фактически смерти другого «Я», что символически выражается в смерти Маши и гибели Спиридона. Бледность, мертвенность еще живой Маши обнаруживает ее русалочью природу, что отчасти объясняет ее физическое преображение в состоянии летаргического сна-смерти. Желанное единение внутреннего «Я» Петра Кирилыча нарушается фактом смерти невесты, но оно почти предугадано инфернальной природой персонажа на архетипическом уровне.
Познание субстанциональности «Я» у Спиридона Емельяныча связано с историей обретения богоподобия, или лучше - желанием такого обретения. «Тепленькой, родной лесенкой» называет В. В. Розанов легкий путь с земли на небо, который мог обеспечить себе любой ветхозаветный человек, принося в храм «голубочков, овечек, козленочков: всякой твори Божией, всего универсализма Божия» [231, с. 477]. Новый Завет дает человеку приобщиться к божественному через понятие Благодати, которое не отрицает Закона, но не сводит понимание божественной истины только к слепому исполнению. Личностный подход делает человека ответственным и за свою судьбу, и за судьбу всего человечества, тем самым противопоставляя праведника догматику. Святость в земной жизни получает признание «на небесах» в форме благодати, а «на земле» - в форме канонизации, то есть социально обусловленном признании.
Апология жизни святого соответствовала житийному канону книжного происхождения, в формировании которого участвовали различные культы древности. «Стирание» индивидуальности в письменном источнике вовсе не отрицало человечности христианской аскезы, тем более что «современные» святые, такие как Иоанн Кронштадский, Серафим Саровский, обладают всей полнотой жизни, а их жития наделены глубоким психологизмом. Важно другое, что, например, канонизация первых русских святых - Бориса и Глеба соответствовала определенному культурному контексту, позволяющему русским святым войти в «пантеон» христианских святых, а значит, возвеличить статус нового государства - Святой Руси. С другой стороны, «умаление» индивидуального «Я» в этико-антропологическом ключе, действительно, делало человека песчинкой мироздания, такой же, как и все остальные, тем самым приобщая индивидуума к божественной всеобщности и не снимая с него ответственности за все происходящее на земле.
Житийный канон, представляющий сюжетную структуру, связан с группами элементов, характеризующих следующие жизненные отрезки и коррелирующие с ними психологические состояния: ощущение призванности, особенность поведения в социуме в детстве и / или отрочестве; уход из дома; служение Богу - жизнь в монастыре, в лесу (пустыне), то есть монашество или отшельничество, свершение подвигов, явление чуда и свидетельство о нем; смерть - уход в мир иной, освященный божественным светом. И последний немаловажный момент, осуществляющийся уже после смерти монаха или отшельника, это - канонизация - социальный момент в жизни церкви (верующих), то есть решение мира о соответствии жизни и деяний человека каноническим законам, утверждение его святости в земной жизни, подтверждением чему могут быть чудеса, совершающиеся на его могиле, у его мощей или при обращении к нему через молитву.
Для Сииридона желание лучшей доли состоит, в первую очередь, в обретении небесного рая, который связывается с моделью иконостаса. Дьявольщина, поработившая персонажа и его брата и отрицающая духовное спасение, соотносит пространственную модель мира исключительно с внешними и одновременно преходящими формами. Именно поэтому желание Спиридона связано исключительно с обретением иконы мужика Ивана Недотяпы - фантасмагорического персонажа святого-черта. Повторяя в общих чертах житие подвижников, Спиридон, претендующий на место Бога, на самом деле поражен неверием: «Плотен мир, Петр Кирилыч, и непреоборим!» [1:2, с. 207]. Вторжение Спиридона в личное пространство других персонажей несет разрушение собственной личности и поражает другие «Я» вплоть до полного уничтожения. В этом ключе образ мельника коррелирует с образом лешего
Первый круг сюжетного пространства (дом и деревня)
То, что в романе именно изба, а не церковь является сакральным центром первого круга сюжетного пространства, объясняется некоторыми культурно-историческими факторами. Н. М. Солнцева отмечает сложное отношение к ортодоксально-православному чину самого автора романа. Здесь важной оказывается «замкнутость, патриархальность быта староверов» [74, с. 110], в семье которых вырос писатель. Поскольку, «как правило, именно через семью трансформируется ребенку первое и главное (формализующее основы личности) субкультурная картина мира» [115, с. 169]. С другой стороны, семейная тематика актуальна и для религиозно-философского движения конца XIX - начала XX века, поднимающего вопросы пола, физической смерти и вечной духовной жизни. Крестьянская изба для С. А. Клычкова является тем местом, где сходятся социальные, духовные, мифопоэтические, культурные и исторические оси существования русского этноса. Эта традиция идет еще от поэзии А. Кольцова [252, с. 52]. Учитывая важность данной тематики для крестьянской поэзии и прозы начала XX века, можно отметить отношение самих поэтов к быту как к естественному продолжению природы.
Этот сложный комплекс бытовых воззрений, уходящий корнями в язычество, определяет горизонтальный тип пространства в романе, центром которого является крестьянская изба. Все остальные деревенские дворы, выгон, сельская изгородь, пашня группируются вокруг нее. Лес, оказавшись в промежуточном отрезке между деревней и дальними, неведомыми землями, наследует черты соседних пространств, трансформируя их особенным образом.
В первом круге происходит кодификация функций мифа для деревенского коллектива, связанная с возможностью преодолеть кризисные личные и семейные ситуации. Этому помогает традиционность построек, участвующих в мифологизации пространства [300, с. 251-256]. Важно, что и С. Есенин в «Ключах Марии» уделяет особое внимание связи избы простолюдина с культом предков и традицией в целом.
Семья, быт, система - именно это определяет художественное построение пространства. Повседневность сформирована древними языческими культами (культы плодородия, почитания предков), взаимодействовавшими с православием.
Бытовая культура в романе представлена следующими элементами, соответствующими традиционному устройству жилища: печь, полати, матица, окно, дверь; интерьер - стол, лавки, утварь, одежда и пища; снаружи - изба в целом, венцы, крыша, печная труба. Хозяйственный уклад крестьянской семьи формируется вокруг символического очага - печи, являющейся одновременно и местом, где готовят пищу, и местом, к которому примыкают полати - один из традиционных топосов сказочных персонажей (Иванушка-дурачок, Емеля, Баба-Яга). В романе его занимает Петр Кирилыч.
Включение в денежно-экономические отношения членов семьи, собирающихся за одним столом, то есть причастных одному очагу, делает их конкурентами и поэтому оборачивается борьбой, что соответствует, по В. Я. Проппу, начальной ситуации волшебной сказки. Конфликт между идеологиями старших родственников (брата и невестки) и Петра Кирилыча в связи с мотивом доли локализуется в топосе русской печи («упустил жар из печки...» [1:2, с. 18]), символизирующей здесь жизнь, богатство человеческих возможностей. Данная семантика распространяется и на такой важный предмет кухонной утвари (еда - источник и символ жизни), как самовар. Самовар в романе символизирует и праздник («Ставь-ка, Мавра, самовар на такой радости поскорее!..» [1:2, с. 156]), и праздный образ жизни Ивана Ленивого. Он вызывает у читателя более негативное отношение, нежели длительное пребывание на печи Петра Кирилыча, так как являет не только посягательство на личное пространство других членов семьи, но и вторжение инфернального, греховного начала в крестьянский быт: «Ну, бабе, конечно, надо бы в церковь идти, на клирос свечку поставить...» [1:2, с. 116]. Совершенно логично, что в этом эпизоде самовар сменяется сковородой -атрибутом адовой жаровни.
Присутствие мифологических персонажей (чертей и домовых) в крестьянском быту связано с переходом некоторых языческих божеств в ранг крестьянской демонологии. Пространство дома заполнено чертями: «...и нет такой хаты и дома, где бы не было с добрый десяток чертей, только так, на простой глаз, они не больше... мокрицы!..» [1:2, с. 85], но основное их местопребывание - печная труба. Они кусают баб по ночам, могут принять форму утвари, например, очажный бес-домосед превращается в ухват: «Схватит этого беса за хвост и не заметит, а он в человечьих руках от испуга разинет рот до ушей, как у ухвата развилки...» [1:2, с. 99]. Самым действенным оберегом является мужичий храп - знак нелегкого крестьянского труда: «Вся нечистая сила мужичьего храпу боится больше, чем какого креста, крест сумеет всякий на лоб положить, кто и знать не знает, и знать-то не хочет, на чем мужицкий хлеб растет» [1:2, с. 99].
Труд и мастерство, по С. А. Клычкову, - признаки homo sapiens a. Ироническое обыгрывание научных теорий о происхождении человека и развитии мышления, соответствующих установлению каждого соснового венца в избе, представляет мужика «хозяином, рачителем, скопидомом» (в положительном смысле) и в то же время показывает, что он порабощен трудом, лишен воли и свободы, как дерево, зверь и птица, так как «звездный венец» выстроен все же не им, а Богом - Творцом вселенной.
Возможность моральной характеристики персонажа связана с ответственностью, которую он несет перед семьей, деревенским социумом, предками, незримо присутствующими среди них («...в образ дома включался и погост» [252, с. 158]), и перед Богом. Патриархальная семья, нацеленная на продолжение рода, поддержание огня в домашнем очаге, вынуждает Петра Кирилыча в качестве основной жизненной цели принять женитьбу, ближайшим воплощением которой выступает новый дом, а по словам самого героя, «подклет» - небыличное жизненное пространство.
Локализация женского мира в домашнем пространстве связана с семейной экономикой, приготовлением пищи, изготовлением одежды (например, свадебной) и рождением детей. Кроме того, за женщиной закрепляется тяжелая работа в огороде, а за Машей - еще и на мельнице. Включение женщины в трудовой код представляет ее скорее богатыршей, способной выполнить всю необходимую работу. Домашний труд подразумевает прежде всего наполнение семиотического пространства дома женским началом. В романе справедливо отражено гармоничное сосуществование мужского и женского начал: русский мужик - домосед. Другое дело - лежание на печи Петра Кирилыча, асексуальность которого исключает его из традиционной модели дома. Он принадлежит типу героя «открытого» пространства (Лотман), что позволяет читателю перемещаться в пространстве вместе с персонажем.
Онтологический аспект икоиического пространства
Виртуальное пространство храма в онтологическом аспекте представляет собой сложную систему символов, телеологичность которых заключается в литургии и является со-бытием. Действительно, будучи объектами эстетического созерцания, растянутого в реальном времени, они в тоже время символизируют божественную всеобщность, существующую вне времени и в особом символическом пространстве. Неразрывная связь божественного и человеческого, макро- и микрокосма, идеального и реального наглядно осуществляется в присутствии человека в храме. Таким образом, человек становится одним из элементов системы (причем обязательных), существование которого как бы переносится в мир идеального. Отмечая вклад Н. Ф. Красносельцева в изучение толкований на литургию («Толк апостольстей соборной церкви» и «Служба толковая Иоанна Златоуста, толк Сихиев»), И. Л. Бусева-Давыдова приводит слова из «Толка апостольстего соборной церкви», объясняя этот сложный культурно-исторический феномен: «Церковь есть земное небо и храм Божий, славят бо в ней Бога, яко на небеси» [52, с. 198].
Образ Небесного Иерусалима охватывает ряд концептов, позволяющих аналитически выделить секторы восприятия участников храмовой литургии. Будучи символически манифестированы образной системой, они воплощаются посредством особого расположения, способа изготовления и функционального назначения, что дополнительно усложняет восприятие этих концептов. Кроме того, деконструкция храмового пространства, представленная в культурологических изысканиях, перейдет в разряд конструирования романного храмового пространства. По крайней мере, можно выделить две системы образов, одна из которых будет образовывать макроуровень, сопряженный с эсхатологическим комплексом представлений о судьбе человека. Сюда будут относиться концепты целостного храмового пространства как «корабля» и как «идеального пространства», то есть Небесного Иерусалима. Вторая система образов, раскрывая божественную мудрость в устройстве мира, показывает храм как идеальную модель, элементы которой имеют особую символическую нагрузку. Так, например: «Верх церковный есть глава Господня, олтарь есть престол Божий, или пакы олтарь есть гроб Господен...» [52, с. 198].
Уподобление храма кораблю, выражающееся в архитектурном облике христианских церквей, восходит к образу Ноева ковчега - своеобразного микромира, содержащего различные экземпляры образцов жизни. Идея спасения будет сопровождать и Ковчег Завета - святыню иудейского храма. В Новом Завете образ корабля, скитающегося среди бурь и невзгод, объясняет феномен человеческой жизни. Надежда на спасение свяжет «корабль» с целью путешествия / скитания - идеальным пространством: островами блаженных, Новым Иерусалимом или любым другим освященным местом, что, в свою очередь, сформирует целое направление в литературе5: «Плывет-плывет ладанный туман, как утренний туман на весенней заре, и в глазах Петра Кирилыча рябит, словно тесовый иол поплыл под ногами, и стены молельни отходят все дальше в глубь и лежат теперь как далекие берега Тигр-реки, за которыми уже не чертухинский лес и не село Чертухино в этом лесу, а душистые гущи райского сада, под которыми луговина никогда не вянет и с цветов не опадают листы...» [1:2, с. 148].
Трансформация из «вещи» через «образ» в «идею» заканчивается призрачностью бытия самого объекта (например, «Летучий Голландец»), эфемерность которого подчеркивается его существованием в водно-воздушной стихии. Идея «спасения» также трансформируется в мысль о прощении. Траектория движения корабля - это вечное возвращение на прежнее место и это своеобразное путешествие по царству смерти. Амбивалентность корабля, или ладьи, как «корабля мертвецов» или корабля, заключающего в себе спасенные Богом жизни, формировалась также и под воздействием древних языческих культов, связанных с погребальными ритуалами: отправления мертвого по реке, сжигание в ладье, возвращения из царства мертвых и т.п. [198:2, с. 33]. Семантика смерти и возрождения присутствует в образе парчовой ладьи, становящейся последним прибежищем Маши: «...может, и в самом-то деле хотела в последний час Маша с ними со всеми по-доброму проститься, перед тем как навсегда уплыть в парчовой лодке в холодную яму, похожую на западню, через которую Спиридон ходит в свою тайную церковь» [ 1:2, с. 198].
Тема «двух берегов», соединяющих и одновременно разъединяющих человеческие судьбы, как мотив «предела», «границы» входит в сознание Маши и Петра Кирилыча, локализуясь в образе другого, «черного» берега: «-Маш ... а Маш?.. - слышит она словно с другого берега, но о том, как ей сейчас с ним хорошо, ответить не может, хотела бы она ему улыбнуться, но на губах тяжелый замок» [1:2, с. 194].
Торжественность, с которой проходит погребение: «... над самой ее головой взвилось со свистом кадило... за кадильным дымом по людским головам на руках, поднятых кверху, приплыла к ней золотая долбенка... Машу взяли на руки и тихонько положили на дно, отец Миколай с дьячком еще громче запели...», [1:2, с. 197] - связана не только с «дивом» - резким переходом от свадьбы к похоронам, но и с последним, а, значит, сакральным движением по морю «мужичьих плеч» в «далекое заплотинное царство, где нет печали и воздыхания» [1:2, с. 197].
Созерцание такого волнообразного движения тел, как и дубенской воды, сопровождаемое мерным звучанием в обоих случаях (там - пение дьячка, здесь - водяных русых девок), приводит в обморочно-медитативное состояние, когда «... и земля поплывет у тебя из-под ног, и мельница стронется с места, и за мельницей березовый бор, да и ты сам и все вместе с тобою поплывет неизвестно куда...» [1:2, с. 152].
Массу подобных этюдов, связывающих воедино движение воды, человеческого тела в ней (купание Феклуши и попытка окунуться в воду Маши) и жизнь (в первую очередь, духовную) не трудно проследить на примере существования мельницы - «корабля», вместо весел которому дано жерновое колесо, взбивающее «водянистую пыль столбом» [1:2, с. 152], навсегда прикованного к Боровому плесу. Траектория странствия «корабля» разворачивается во «внутреннем» времени и пространстве, сопряженных с переворачиванием наподобие изображения в «камере-обскуре»: «Люди все встали кверху ногами, и сама изба, как старая ветла, вросла крышей в землю и подполицей в небо глядит, по которому идут, не торопясь, серые густые облака, словно пастух перегоняет сельское стадо с места на место» [1:2, с. 196].
Мистериальность и художественное время
В литургии происходит объединение эстетического и онтологического религиозных планов. Это -сфера материального воплощения догматов, каждый элемент которых оживает в таинстве, но не сам собой, а соотносясь с основной идеей -служением Богу и воскресением в Боге. Многократное модифицирование одной и той же коммуникативной ситуации, в которой адресатом является «все дышащее», а адресантом - Бог, выступает основным принципом литургийных таинств в романе.
Мистериальность - один из важнейших признаков божественной драмы, имеющей двунаправленных характер: с одной стороны, божественная история, «разыгрываемая» в литургии, позволяет каждому человеку приобщиться к горнему миру, а, с другой, само разыгрывание является механизмом «запуска» драматического действия в историческом времени. Драматизм веры подразумевает наличие прочных религиозных уз, соединяющих человека с Богом через повторение пути Христа, претерпевание огромных мук во имя веры.
Мистериальность - характерная черта любой религии, можно даже сказать, что нет религии без таинств. Символизм божественной драмы составляет действительную часть первичного бытия. Ритуальные поучения имеют целью успешное осуществление доктрины. Луи Менар в статье «Опыт о происхождении герметических книг» отмечает, что в древности, когда возникла мода на таинства, «секретность посвящений была средством пропаганды и приманкой для любопытства, когда каждый желал быть посвященным во что-нибудь» [86, с. 402].
Первые христиане не создали эту ситуацию, а существовали в ней. Культурологическое оформление феномена нашло свое продолжение в средневековых мистериях, основным источником которых была Библия. В. Ф. Колязин, исследуя театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья, выделяет следующие признаки мистерии: сюжет на библейскую, евангельскую или апостольскую тематику присутствие и участие зрителей создает зрелищность насыщенность музыкой чудеса, в основе которых лежит чудесное исцеление Иисусом выход мистерии из храма на площадь жестокость, уподобляющая изображаемые страдания страстям Господним «церковная режиссура», особые жесты длительность (мистерия проходит в течение нескольких дней) театральное начало - участие чертей (уже в позднее время), аллегорических фигур - Церкви и Синагоги . техническая организация [144, С. 46-87]. Все это представляет и организует подразумеваемое событие, также выступающее событием и для самих организаторов / участников. Можно сказать, что действие одновременно протекает в двух планах: сакральном и профанном. «Событием, - как пишет В. Ф. Шмид, - является некое изменение исходной ситуации: или внешней ситуации в повествуемом мире {естественные, акционалъные и интеракциональные события), или внутренней ситуации того или другого персонажа {ментальные события)» [308, с. 12-13]. Таким образом, священная история на уровне изображаемого мира, оставаясь сакральным центром, представлена различными модификациями профанного мира, осуществляющего коммуникативную связь между внутренним и внешним миром персонажа, то есть онтологическая основа реализуется через многомерный характер коммуникативного события. Для Ю. М. Лотмана будет определяющим «пересечение» персонажем «запрещающей» какой бы то ни было границы [178, с. 288], что вполне соответствует цели божественной литургии - преобразованию человеческого мира.
Участие в религиозных обрядах приучало зрителя «считывать одновременно целое многообразие смыслов: речевого, музыкального, театрально зрелищного, символически-ритуального, религиозно-символического и давать им свою эмоциональную интерпретацию, конечно, в каждом случае более или менее индивидуально развитую» [144, с. 14]. Ориентация на создание особого реального мира при помощи целого комплекса искусств давала возможность человеку приобщиться к миру невидимому, высшей духовности. Особое понимание месту протекания церковного культа-топосу, в котором соприкасаются и взаимодействуют мир видимого и невидимого, связано с функционированием этого реального «окна» только во время культового действия.
Особенность восточно-христианского богослужения состоит в том, что оно, будучи центром, формулирует практически всю духовную культуру человека.
Подводя итог изучению культурного наследия, связанного с мистериальностью богослужений, можно привести мнение В. В. Бычкова, указывающее на основные типологические черты: «Сам процесс богослужения представлял собой некое мистериально-символическое действо, осуществлявшееся по законам зрелищных искусств, строго подчинявшееся определенному каноническому сценарию, включавшему в себя хореографию священнослужителей, чередование музыки и речитации, последовательность участия в действе тех или иных чинов священнослужителей, хора. Масс верующих» [57, с. 309].
Почти все это справедливо и для литургий романа. Во всех выше перечисленных исследованиях отмечается массовый характер богослужения, в то время как и романе ситуация подразумевает двух, реже - трех участников. «Массовость» принимают на себя мифические персонажи: святые угодники на иконах, черные тени монахов и зайцы.