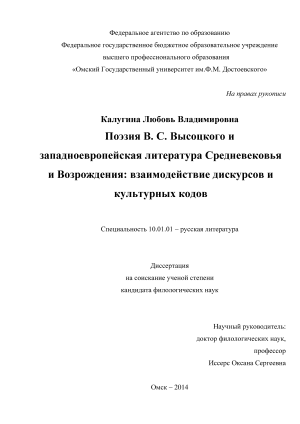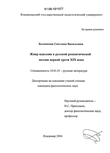Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Межтекстовые связи и синкретизм лингвокультуры: подходы к научному осмыслению 14
1.1. Дискурс и дискурс-анализ: краткая история и теория вопроса 14
1.2. Изучение «текст-текст»-взаимодействия от формальной школы до наших дней 19
1.3. Жанр как форма и как содержание 34
1. 4. Выводы по главе 1 37
Глава 2. Интертекст как структурообразующая основа лирики В. С. Высоцкого: образы, символы, мотивы, сюжеты 39
2. 1. Интертекст мифа о Фаусте в поэзии В.С.Высоцкого 39
2. 2. «Гамлет» У. Шекспира и проблематика нравственного выбора в лирике 1970-х годов 58
2. 3. Выводы по главе 2 87
Глава 3. Интердискурсивность и взаимодействие культурных кодов как жанрообразующая основа поэтических произведений B.C. Высоцкого 89
3. 1. О жанровой природе песен цикла «Стрелы Робин Гуда» 89
3. 2. Адаптация жанра пикарески в поэзии B.C. Высоцкого 99
3. 3. Выводы по главе 3 133
Заключение 135
Список литературы
- Изучение «текст-текст»-взаимодействия от формальной школы до наших дней
- Жанр как форма и как содержание
- «Гамлет» У. Шекспира и проблематика нравственного выбора в лирике 1970-х годов
- Адаптация жанра пикарески в поэзии B.C. Высоцкого
Изучение «текст-текст»-взаимодействия от формальной школы до наших дней
Изучение межтекстовых связей, влияния текста на текст, взаимодействие в тексте «своего» и «чужого» слова имеет достаточно длительную историю в сфере гуманитарного знания. Еще Аристотель с своей «Поэтике» упоминает диегесис как речь автора и мимесис как речь «другого», которым «притворяется» автор (Аристотель 1998).
Русскими символистами была поставлена проблема разного рода заимствований и повторов, в дальнейшем разработанная формалистами и структуралистами и развитая до теории литературной преемственности и литературных традиций (Гершензон 1926, Эйхенбаум 1924, Тынянов 1977, Жирмунский 1978 и др.).
Явлению ориентированности одного текста на другой и использования в одном тексте элементов другого текста посвящены работы Ю. Н. Тынянова «О пародии» и «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)», причем в понятие пародии исследователь предлагает расширить до любой межтекстовой связи и даже до связи текста с действительностью (Тынянов 1977). Вводится даже специальное понятие «пароличность», под которым понимается «применение пародии в непародийной функции» (Тынянов 1977: с. 310). Под пародийной функцией подразумевается не художественная установка на комизм, а любая сознательная направленность одного произведения «на» другое и «против» него. Иными словами, под «пародийностью» у Ю. Н. Тынянова подразумевается осознанное заимствование автором элементов чужого текста с какой-либо целью, а под «пародичностью» - заимствование неосознанное. Таким образом, под понятиями пародии, пародийности, и «пародичности» оказывается объединено то, что мы сейчас называем интертекстом и интертекстуальностью, причем различие пародийности и «пародичности» проходит по осознанности-неосознанности заимствования. Но исследователь идет еще дальше и анализирует ставшие притчей во языцех литературной России первой половины XIX века фигуры Тредиаковского, Шаликова и графа Хвостова и объединяет многочисленные литературные пародии, реминисценции, посвящения, упоминания о них в произведениях современников в единое «пародийное» целое. Таким образом, под определение пародии у данного исследователя подпадает еще и дискурс - текст, рассматриваемый во взаимосвязи с внетекстовой действительностью.
Л. Я. Гинзбург в разделе «Наследие и открытия» монографии «О лирике» оперирует понятием «литературная традиция» (Гинзбург 1997). Анализируя влияние русской поэзии XIX века на творчество А. А. Блока, исследовательница отмечает обширный пласт этих традиций в сборнике «Ante lucem», приводит отрывки конкретных стихотворений, в которых обнаруживаются «признаки» «поэтических патронов» Блока: А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, А. Н. Апухтина и др. а также его современников: Ф. Сологуба, В. Я. Брюсова и др. Не остается без внимания и опосредованное влияние А. А. Фета через творчество Вл. Соловьева в сборнике «Стихи о Прекрасной Даме». Автором сделана попытка привлечения фактографических данных для установления источника межтекстового влияния: приводятся биографико-библиографические сведения о знакомстве А. А. Блока с источниками литературной традиции. Кроме влияния отдельных авторов на блоковский текст, исследовательница указывает и на влияние целого корпуса текстов, или, в современной терминологии, дискурса русской романтической литературы: «...из давно привычных поэтических образов, таких как лазурь, звезда, заря, сумрак, туман, ветер, метель. Эти слова принадлежали необъятно большому и потому безличному единству романтического стиля. Блок очень рано превратил их в постоянно действующие элементы контекста, в высшей степени индивидуального, выражающего одну (разумеется, обобщенную) лирическую личность, одну судьбу» (Гинзбург 1997: с. 247).
А. П. Квятковский включает в свой «Поэтический словарь» следующие термины, обозначающие разновидности ориентирования текста на другой текст или внетекстовую действительность либо использования «чужого слова»: «аллюзия», «реминисценция», «пародия», «стилизация», «эпиграф» (Квятковский 1966).
В связи с осмыслением проблемы межтекстовых связей в советском литературоведении нельзя обойти вниманием труды Ю. М. Лотмана по семиотической культурологии, объемлющие понятия интертекстуальности, интердискурсивности и интермедиальности (Лотман 1992, Лотман 1996). Ю. М. Лотману принадлежит термин «код», употребляемый как универсальное обозначение любой цепочки знаков. Несмотря на то, что в центре фокуса научного зрения для исследователя находится культура как единый механизм и закономерности, по которым она образуется и работает, а межтекстовые связи и отношение текста к действительности и к другим «языкам культуры» выступают всего лишь как отдельный пример функционирования одной знаковой системы, ряд важных теоретических выводов касается непосредственно текстового взаимодействия. Так, по Ю. М. Лотману, неотъемлемым свойством текста является «память о своих предшествующих контекстах», под которой подразумевается «сумма контекстов, в которых данный текст приобретает осмысленность и которые определенным образом как бы инкорпорированы в нем», «смысловое пространство» текста, способное взаимодействовать с культурной памятью аудитории (Лотман 1996, с. 21).
Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что советское формалистское и структуралистское литературоведение уже интересовалось проблемой межтекстовых связей, подошло вплотную к проблеме интертекста и даже разработало терминологический аппарат для обозначения разных типов заимствованного текста, которым мы пользуемся до сих пор.
В западной традиции истоки теории интертекстуальности стоит искать в философии постмодерна. М. Фуко видит язык организующей силой человеческой истории: размышления об истории познания приводят философа к мысли о том, что познание само по себе есть меняющаяся во времени система вещей через их соотнесение со словами, Ж. Деррида ставит проблему создания некой сферы знания, названной им грамматологией, - сферы, специализирующейся на изучении письма, которое также считает основой всей западной мысли и культуры (Фуко 1994, Деррида 2000). Причем в идеале грамматология должна избавиться от этимологического родства с logos, т. е. с наукой, и стать грамматографией - письмом о письме. В свете нашего исследования особенно важен вывод Ж. Деррида, касающийся природы знака: не существует знака, состоящего из голого плана означаемого и голого плана означающего, не существует и никогда не существовало чисто фонетического письма, т. е. такого, в котором абстрактные понятия выражались бы нечленимым и не имеющим дополнительных смыслов набором звуков и графических символов - напротив, на практике и означаемое, и означающее являются самостоятельными знаками. То есть, продолжая эту мысль, можно утверждать, что знак интертекстуален по своей сути. Ролан Барт долгое время изучал взаимодействие между языком и политической жизнью общества - результатом стали его «Мифологии», где последовательно развивается идея детерминированности сознания языком (Барт 1994). Классическим манифестом радикального интертекстуального подхода к тексту и к культуре как макроформе текста является его эссе «Смерть автора», в котором полностью отрицается роль личности автора в создании текста, функции автора сводятся до записывания чужих слов, наделенных изначально множеством собственных смыслов, и все способности к конструированию текста передаются воспринимающему сознанию читателя, считывающему и логически структурирующему эти смыслы (Барт 1994).
Однако настоящим прорывом в теории интертекстуальности явились работы М. М. Бахтина и Ю. Кристевой (Бахтин 1990, Бахтин 1994, Бахтин 1996, Бахтин 2000, Кристева 2004).
Толчком для последователей М. М. Бахтина послужила, главным образом, идея диалога, пронизывающая все его работы, - понимание всего языкового общения и, шире, всей человеческой культуры как сплошного непрекращающегося коммуникативного акта, в котором все тексты, независимо от их объема, назначения и культурной значимости являются репликами, направленными на адресата и содержащими рецепты других реплик этого глобального коммуникативного акта, предшествующих и предвосхищаемых ответных. Из этой идеи диалогичности, т. е. коммуникативной ориентированности текста на другой текст, логически вытекает постановка проблемы соотношения «своего» и «чужого» слова в персонифицированном авторском тексте.
Жанр как форма и как содержание
Дискурсивное понимание жанра в качестве своего фундамента имеет два подхода: поспеловское учение о «содержательной форме» (Г. Н. Поспелов, Л. В. Чернец, А. Я. Эсалнек) и бахтинский взгляд на жанр как на коммуникативную единицу (Поспелов 1972, Чернец 1982, Эсалнек 1985). Оба эти подхода противостоят господствовавшему как в литературоведении доформалистского периода, так и в трудах формалистов пониманию жанра как формы (условно назовем такой подход «старой» генристикой). Для Г. Н. Поспелова и его последователей «и родовые, и жанровые свойства произведений - это не свойства их формы, выражающей содержание, это типологические свойства самого их художественного содержания» (Поспелов 1972: с. 206). На практике исследователь категорично размежевывает род как форму и жанр как содержательную категорию, что несколько противоречит вышеприведенному высказыванию: то, что «старая» генристика традиционно считает жанровыми формами, для него разновидности родов литературы, а жанр -категория художественного содержания. При этом, однако, оговаривается существование и собственно-жанровых форм - таких, применительно к которым традиционное обозначение «жанра» совпадает с жанровым содержанием. Для последователей Г. Н. Поспелова жанровое содержание - это единица идейно-тематического уровня художественного произведения, «доминирующая, генерализующая, централизующая проблема или группа проблем, которые играют как бы руководящую роль, «предписывая» выбор, расположение и соотношение художественных пластов, составляющих содержание произведения» (Эсалнек 1985: с. 16).
Первый, ссылаясь на гегелевскую «Эстетику», говорит об эпосе как изображении жизни в ее вневременном и пространственно-универсальном ракурсе, а о романе - как об изображении живых людей в их становлении. Второй выводит ряд различительных признаков для этих типов жанрового содержания: время (настоящее либо неабсолютное прошлое в романе, абсолютное прошлое - в эпосе), завершенность и статичность / незавершенность и развитие героя, целостность / противоречивость героя, наличие композиционной завершенности (Бахтин 2000). Есть точки соприкосновения и в некотором «возврате к социологизму»: оба ученых связывают эволюцию жанра с эволюцией общественного сознания. Принципиальное отличие учения о «содержательной форме» и бахтинского подхода состоит в постулируемой М. М. Бахтиным коммуникативной функции жанра: жанр понимается им как устоявшаяся форма высказывания (Бахтин 1996). Содержательность жанра вытекает из его диалогичности=интертекстуальности. Любое высказывание является ответом на другое высказывание и предвосхищает ответ на самое себя, и следы предыдущего и последующего высказываний находят в нем свое выражение. И так как жанр - этой некий словесный шаблон высказывания, то он несет в себе все признаки высказывания, в том числе и диалогизм. Иными словами, в самой жанровой форме неизменно присутствует «чужое слово».
Из бахтинской концепции диалогизма вытекает особенно важный для настоящего исследования вывод о дискурсивно-интертекстуальной природе жанра как такового, от приветствий-прощаний до жанров художественной литературы. Сам М. М. Бахтин неоднократно подчеркивал, что любое крупное произведение вторичного речевого жанра есть не что иное, как высказывание. Соответственно, для жанров художественной литературы справедливо все то, что справедливо в отношении высказывания как такового и речевого жанра как такового. Художественное произведение насыщено чужим словом, жанры художественной литературы, как и первичные речевые жанры, обладают своим специфическим предметно-смысловым компонентом, т. е. своей тематикой и своим предметом изображения, и своим экспрессивным компонентом - пафосом, или модальностью (героическое, трагическое, комическое), и входящие в их состав элементы тоже будут окружены жанровым экспрессивным «ореолом». Разница только в природе этих элементов: если в случае с первичными речевыми жанрами мы имеем дело с лексемами и грамматическими формами, то в случае с жанрами художественных произведений - разновидностью вторичных жанров -мы будем иметь дело с элементами всей структуры текста: от минимальных -лексем и граммем - до мотивов, образов, сюжета. Это значит, что если в случае с первичными жанрами «чужими» являются лишь отдельные слова и словоформы, то в случае художественного текста «чужими», заимствованными могут быть ключевые элементы художественной структуры, и жанр как совокупность неких обязательных интертекстуальных элементов структуры произведения или их признаков является для автора освоенным «чужим» словом. То, что в «старой» генристике именуется жанровыми признаками, на деле является рецептами множества прототекстов, или, если использовать терминологию М. М. Бахтина, предшествующих высказываний. Рецепты эти объединены в некую структуру, которую неправомерно даже называть формой, потому что она обладает самостоятельным набором смыслов и несет немалый объем информации о предшествующих текстах, об их авторах, о той культурной ситуации, в которой они создавались, о предшествующих жанрах, которым наследует либо, напротив, от которых полемически отталкивается данный жанр.
В уже упоминавшейся нами статье М. М. Бахтина «Эпос и роман» значительное место занимает дискурсивный жанровый генезис и дискурсивное влияние жанра (Бахтин 2000). Автор, с одной стороны, последовательно выводит генеалогию западноевропейского романа из низких жанров, восходящих к народно-смеховой культуре, особенно выделяя жанр мениппеи, с другой, отмечает влияние романа на всю художественную литературу тех эпох, когда этот жанр является господствующим: пародирование жанров и стилей в романе, конкуренцию и полемику романа с другими жанрами, «романизацию» других жанров и возникновение романических жанровых форм исконно-нероманных жанров, например баллады. Таким образом, жанр и интертекст оказываются взаимообусловлены: ориентация на чужой текст влечет за собой ориентацию на жанры, к которым он дискурсивно привязан, а ориентация на определенный жанр диктует выбор определенных единиц художественной структуры, на которых лежат отпечатки предыдущих употреблений.
«Гамлет» У. Шекспира и проблематика нравственного выбора в лирике 1970-х годов
Как и в случае с «Моим Гамлетом», текст В. С. Высоцкого здесь носит герменевтический характер по отношению к непосредственному источнику интертекстуальности, есть и общие приемы использования прототекста, например отсылка к ряду компонентов структуры прототекста, представляющая собой их поэтическое резюме. Там, на земле, и стол, и дом, Там - я и пел, и надрывался; Я плавал все же - хоть с трудом, Но на поверхности держался, резюмирование ситуаций, связанных с нуждой лишениями, пережитыми Мартином в юности, и к обретенному сытому буржуазному существованию. Все гениальное и недопонятое - всплеск и шалость -Спаслось и скрылось в глубине! Все, что гналось и запрещалось. реминисценция к ситуации с вышеупомянутой поэмой «Эфемерида» Бриссендена - друга героя, - разгромленной поверхностными журнальными критиками; эта строфа может быть понята и как резюме трудностей на писательском поприще, пережитых самим Мартином, и как глубоко автобиографическая аллюзия. Автобиографизм стихотворения подчеркивается автоцитацией: «Ору: «Спасите наши души!».
«Сотни тысяч людей читают его и восхищаются им с таким же скотским непониманием, с каким они накинулись на "Эфемериду" Бриссендена и растерзали ее в клочки, - подлая стая волков, которые перед одним виляют хвостом, а другому вонзают клыки в горло. [...] Какую же ценность могло иметь в его глазах преклонение толпы, той самой толпы, которая еще так недавно втоптала в грязь "Эфемериду"?»
«Эти люди говорили ему, что прочтя в "Трансконтинентальном ежемесячнике" "Колокольный звон", а в "Шершне" "Пери и жемчуг", они сразу поняли, что появился великий писатель. "Боже мой, - думал Мартин, - а я тогда голодал и ходил оборванцем! Почему они меня тогда не пригласили обедать? [...]Вы меня угощаете потому, что вы грубые животные, стадные животные! Потому, что вы повинуетесь слепому и тупому стадному чувству, а это чувство сейчас подсказывает одно, надо угостить обедом Мартина Идена. Но никому из вас нет дела до самого Мартина Идена и до его работы»
«Мартин разобрал кучу газетных вырезок, доставленных ему особым бюро, и прочел то, что говорилось о нем и о его славе, возраставшей с непомерной быстротой. Мартин Идеи великолепным жестом выбросил толпе сразу все свои сочинения. Очевидно, этим и объяснялась такая внезапная слава. Он взял толпу натиском, как было с Киплингом, когда тот лежал при смерти и толпа, повинуясь стадному чувству, вдруг начала запоем читать его книги. Тут Мартин вспомнил, что эта же толпа полгода спустя, не поняв ничего из прочитанного, втоптала, в грязь того же самого Киплинга. Эта мысль заставила его усмехнуться. Как знать! Может быть, и его ждет через полгода такая же участь»
Кроме того, эта строфа содержит автобиографические аллюзии и декодировку советским бардом идеи лондоновского романа.
С другой стороны, есть две единицы мотивно-образного уровня структуры произведения, существенно отличающие текст В. С. Высоцкого от прототекста. Первая - это мифологема водной стихии как некого истока, начала начал:
Чтобы добраться до глубин, До тех пластов - до самой сути. Зачем мы сделались людьми? Зачем потом заговорили? Зачем, живя на четырех, Мы встали, распрямили спины? Затем - и это видит Бог, -Чтоб взять каменья и дубины. Назад - к прибежищу, к воде, Назад - в извечную утробу] Вторая - мотив обращенности к людям, мессианства: «Но я приду по ваши души!». Они в корне отличают аквалангиста у В. С. Высоцкого (неслучайно автор не заимствовал самого героя) от отчужденного от людей и презирающего их Мартина Идена. О. Ю. Шилина объясняет генезис этих элементов структуры произведения еще одним пластом интертекстуальности - связью с пушкинским «Пророком»: «Взяв у Лондона идею ухода — погружения в воду, В. С. Высоцкий наполнил ее совершенно иным содержанием. [...] Для духовного совершенствования ему необходимо вернуться к истокам, в лоно материнской духовной стихии, тогда только возможно возвращение для служения людям. И наверное, именно поэтому в стихотворении В. С. Высоцкого действия героя сопровождаются погружением в воду (в чем имплицитно присутствует мотив крещения). В контексте всего произведения оно приобретает некий символический оттенок и воспринимается как своеобразное очищение от апостасии и ее последствий» (Шилина 1998: с. 106-107). Обнаружение христианского кода в этом конкретном стихотворении В. С. Высоцкого представляется спорным из-за несовместимых с ним прямых отсылок к дарвиновской теории эволюции - картина мира лирического героя скорее напоминает языческие космогонические мифы, а образ водной стихии вызывает ассоциации не со святой водой крещения, а с «предвечной утробой» - древним матриархальным божеством, первоматерью. Но сама фигура пророка, модифицированного реалиями XX века, и мифопоэтический мотив приобщения к неким духовным основам бытия через воду бесспорны.
Система персонажей трагедии Шекспира состоит из трех компонентов, и разделяющим принципом служит дилемма «быть или не быть» (Рисунок 1). Гамлет занимает в этой схеме промежуточное положение, так как, хоть и выбрал, в конечном итоге, «не быть», но причины его в корне отличаются от причин, толкающих на преступления персонажей из второй колонки: он далек и от лаэртовскои жажды мщения, и от страха, который, скорее всего, движет Гертрудой, и от приспособленчества Полония и своих школьных товарищей, и, конечно, от гордыни и честолюбия Клавдия. Причина поступка Гамлета, как уже говорилось выше, в конкуренции в его душе двух нравственных обязательств: перед отцом и перед Богом, человечеством и самим собой.
До нынешнего момента, говоря об интертексте трагедии У. Шекспира в лирике B.C. Высоцкого, мы затрагивали преимущественно первую колонку и самого Гамлета. В то же время полюс «не быть» представлен у B.C. Высоцкого не менее широко: целый корпус текстов зрелой и поздней лирики строится на мотивах страха, слабости, молчания, приспособленчества и равнодушия: «Дурацкий сон, как кистенем» (до 1978), «Случай» (1971), «Мы все живем как будто, но...» (1974), «Штормит весь вечер, и пока...» (1973), «Песня про первые ряды» (1971), «Я никогда не верил в миражи...» (1979 или 1980), «А мы живем в мертвящей пустоте...» (1979 или 1980). В этих песнях шекспировский интертекст пересекается с тематикой групповой исторической ответственности в дискурсе советской поэзии 60-70 гг. XX века («оттепельный» и «пост-оттепельный» периоды). В этом контексте стоит вспомнить такие источники интердискурсивности, как поэма А.Т. Твардовского «По праву памяти» и ряд песен А. А. Галича: «Поезд» (1966), «Памяти Б. Л. Пастернака» (1971) «Засыпая и просыпаясь» (?). Эти произведения, написанные в исповедально-самообличительном тоне и пронизанные мотивами стыда и вины, тематически перекликаются с монологами и репликами Клавдия, Гертруды и Полония в трагедии У. Шекспира, и такой резонанс не мог не вызвать глубокого эмоционального отклика у B.C. Высоцкого как представителя поколения «застоя» и не найти своего отражения в его поэзии.
Адаптация жанра пикарески в поэзии B.C. Высоцкого
И сам Ласарильо платит ему той же монетой, водя по самым плохим дорогам и заставляя перепрыгнуть через ручей так, что слепой с разбегу ударяется головой о столб. Трикстером является бес у Л. Велеса де Гевары: среди его проделок пущенный в Венеции слух о приготовлениях Испании к войне, провокация драки в трактире между доном Клеофасом и иностранцами и превращение в Кордове поединка дона Клеофаса с кастильским студентом в массовое побоище, разгонять которое пришлось с помощью быка, причем «у некоторых зрителей пострадали штаны и обнажилась некая часть их тела, сходная с лицом циклопа». Густо населен трикстерами роман Ф. де Кеведо. Приятели Паблоса пакостят ему на каждом шагу: дон Диего подбивает друга назвать человека по имени Понсио Понтием Пилатом, за что Паблос платит своей спиной, студенты в Алькала и их слуги устраивают ему целую инициацию в виде плевков, оскорблений, подзатыльников, избивания хлыстом, справления нужды в его кровать с последующим осрамлением. А он сам, пройдя эту инициацию и окончательно сформировавшись как антиличность, наряду с тем, что приносит ему выгоду (рыночные кражи, убийство соседских свиней, забредших в дом, мошенничество сообща с ключницей и обман этой самой ключницы), совершает и совершенно бесполезные поступки из чистого озорства: выпрашивает у монахинь кувшины якобы для того, чтобы выпить воды, и не возвращает и, чтобы покуражиться перед товарищами, ворует шпаги у ночного дозора.
Черты пикаресочного трикстера угадываются в завистниках из ролевых песен В. С. Высоцкого: «Песни завистника» (1972) и «Песни автозавистника» (1972): завистник предъявляет соседу за разбитый графин «счет в тройном размере» и грозится создать такой «уют», что «живо он квартиру обменяет», автозавистник и вовсе портит чужое имущество. С прототекстовыми персонажами их роднит мотив вредительства, не имеющего под собой корыстной мотивации. Однако по другим характеристикам трикстеры у В. С. Высоцкого несколько иные: в отличие от пикаресочных героев, в чьих проделках отсутствует психологическая мотивировка и которые вместо нее следуют логике фольклорного трикстера - пакостить ради веселья, - герои В. С. Высоцкого достаточно проработаны и реалистичны и, несмотря на сатирическую одноплановость, мотивы их поступков ясны. Это низкий уровень сознания и личной культуры, побуждающий отвергать все, что не укладывается в обывательскую картину мира: тягу к путешествиям («Мой сосед объездил весь Союз./ Что-то ищет, а чего - не видно»), личный транспорт, который человек приобрел просто ради собственного комфорта, не собираясь ни дразнить соседей своим достатком, ни расшатывать устои социалистического государства. Это стадность, отсутствие автономии личности от социума:
Очкастый частный собственник В зеленых, серых, белых «Жигулях»! -Но, конечно, главным фактором их вредительства является обозначенная в названиях песен зависть к чужому достатку, причем на редкость мелочная зависть, зависть к тому, чье материальное и социальное положение не отличается от твоего. «Богатый» сосед в «Песне завистника» живет с героем в одной коммунальной квартире, а «плюш и шелк» у соседа на окнах объясняются, скорее всего, отсутствием алкоголизма. Автозавистник в финале обзаводится собственными «Жигулями», и собственный инстинкт «частного собственника» не дает ему гордо отказаться от собственности и разбить машину, как он хвастливо обещал, «под окнами отеля «Метрополь», однако завидовать он не прекращает -теперь ненавистными капиталистами становятся владельцы «Москвичей». Интересно, что в дилогии «Песня автозавистника» является первой, а «Песня автомобилиста» - второй, что дает возможность двоякой трактовки образа автомобилиста: это может быть как тот самый «очкастый частный собственник», так и, если предположить, что тексты расположены по сюжету в хронологической последовательности, бывший автозавистник, превратившийся в автовладельца и ставший для соседей таким же воплощением «звериного лика» капитализм. Эта взаимообратимость агрессора и жертвы тоже, несомненно, воспринята из плутовской литературы: мы наблюдаем это и в повести «Ласарильо с Тормеса», и в романе Ф. де Кеведо. С другой стороны, серьезность в раскрытии темы зависти и тотального недоброжелательства выводит тексты В. С. Высоцкого на совершенно иной уровень и заставляет вспомнить о «подпольных людях» у
Ф. М. Достоевского, упивающихся собственными мелочностью, болезненным самолюбием, мнительностью и злобностью, и дающих идеологическое обоснование этим качествам, и строящих на этом обосновании целую систему идей и ценностей, идущую вразрез с общепринятой. Снова мы имеем дело с пересечением дискурсов, причем в пределах одного текста взаимодействуют не только и не столько прототексты, сколько их жанры: плутовской роман и психологический полифонический роман Ф. М. Достоевского. При этом монологичность плутовского романа вступает в неизбежную конкуренцию с полифонией и побеждает: героям этих песен дан голос, но не дано право на свою правду, о чем сигнализирует выраженная комическая дистанция между ними и автором.
Женщины-плутовки. Пикареска с гендерологической и феминологической точки зрения является жанром достаточно мизогинным. Как мужчина-пикаро в свое время явил собой антипод рыцаря и опровержение гуманистического идеала человека, так и пикаресочная женщина являет собой антипод Богородице подобной прекрасной дамы Средневековья и Возрождения. Но если герой-мужчина своими злоключениями заслуживает хотя бы немного авторского и читательского сочувствия, то женщине, как правило, в нем отказано - это всегда лгунья, изменница, «распутница», мошенница, иногда еще и воровка, и колдунья - в общем, собрание всех самых страшных, с точки зрения людей той эпохи, пороков. Если же их нет, то женщина глупа и легко становится жертвой обмана: такова «невеста» Паблоса, за счет семьи которой он какое-то время жил. Благородные дамы появляются на страницах плутовского романа еще реже, чем благородные кавалеры, и внимания им уделяется еще меньше. Сюжетные функции женских персонажей в пикареске разделены по возрастному признаку: молодые женщины используют свою молодость и красоту для плотских утех, наживы и для того, чтобы выгодно вступить в брак, старые - это всякого рода свахи, сводни, знахарки, ведьмы (хотя есть исключения: молодая мать Паблоса тоже была ведьмой), сообщницы воров и мошенников.
Плутовка может занимать центральное место в системе персонажей - место главного пикаро («Плутовка Хустина» Л. де Убеды, 1605), - но чаще является второстепенным персонажем и изображается, как и все прочие второстепенные персонажи, в проекции восприятия ее главным либо другими героями. У В. С. Высоцкого только в двух комических ролевых песнях герой женского пола: это «Здравствуй, Коля милый мой...» (1966) и «Диалог у телевизора» (1973), -причем в обоих случаях женский персонаж выступает в паре с мужским. В остальных случаях женщина изображается сквозь призму восприятия героя-мужчины и в тесной сюжетной связи с ним.
Женские персонажи практически во всех песнях «уличного» периода и в комической ролевой лирике более позднего времени по характеристикам и сюжетным функциям являются типично-пикаресочными. Черты геваровской доньи Томасы, «по дельной девицы», весьма изобретательной в том, чтобы заполучить мужа, обнаруживаются в целом ряде песен: