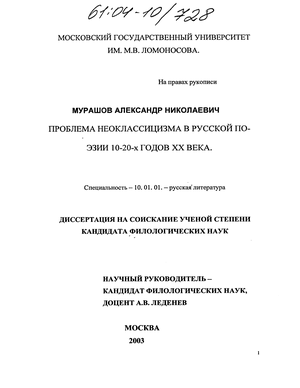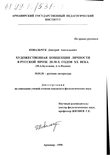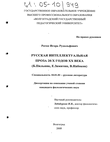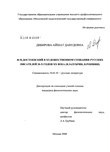Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Проблема неоклассицизма в русской критике 10-20-х годов 14
Глава II. Акмеизм и неоклассицизм . 37
Глава III. Tristia. Кризис в поэтике Осипа Мандельштама 20-х годов 76
Глава IV. Метонимический аллегоризм Михаила Кузмина 113
Глава V. Владислав Ходасевич: декаданс и пушкинизм . 152
Заключение 178
Библиография 184
- Проблема неоклассицизма в русской критике 10-20-х годов
- Акмеизм и неоклассицизм
- Tristia. Кризис в поэтике Осипа Мандельштама 20-х годов
- Метонимический аллегоризм Михаила Кузмина
Введение к работе
Историко-литературная проблема, которая рассматривается в настоящей работе, связана с отношениями двух русских модернистских поэтических течений - символизма и акмеизма. Не анализируя всех сопряженных с этими отношениями обстоятельств, мы сосредоточились на проявлениях стилевого дистанцирования, разрыва между символизмом и его наследниками. Эта тенденция проявилась на рубеже первого и второго десятилетий века, получила развитие в 1910-е годы, но сложность проблемы в том, что линия разрыва с символизмом была петляющей и прерывистой кривой.
Формирование акмеизма положило начало новой фазе русского модернистского движения, которую В.М.Жирмунский назвал «классицистской». В своей статье «О поэзии классической и романтической» он предпринял панорамный обзор поэзии разных эпох и сформулировал такую общую закономерность: «На протяжении многих веков истории поэтического искусства, за индивидуальным многообразием поэтических форм, нам кажется существенным противопоставить друг другу два типа поэтического творчества. Мы обозначим их условно как искусство классическое и романтическое»1. Что такое, по Жирмунскому, поэт-классик? «Классический поэт имеет перед собой задание объективное: создать прекрасное произведение искусства, законченное и совершенное, самодовлеющий мир, подчиненный своим особым законам»2. А «поэт-романтик в своем произведении стремится прежде всего рассказать нам о себе, «раскрыть свою душу»» .
На таком макроуровне противопоставление кажется нам просто противоположением двух полюсов тяготения, между которыми располагается диапазон всех поэтических текстов Нового времени. Чтобы придать разговору филологическую определенность, скажем об этом так: любое слово и любая фраза в стихах обладает, во-первых, референциальными («объективными»), денотативными элементами значения и, во-вторых, индивидуальными коннотациями. При увеличении роли референциальных (словарных, конвенциональных) элементов значения повышается удельный вес референциального символизма; при увеличении роли коннотаций индивидуальных — повышается удельный вес символизма конденсаторного. Эту оппозицию сформулировал лингвист Эдуард Сэпир в статье «Символизм»4.
Принципиальное качество «классического»5 текста — его законченность и самодостаточность - достигается именно за счет жесткости референциальной конструкции. Именно совокупность референций становится фундаментом текста, над которым надстраиваются индивидуальные смыслы (потому индивидуальные, «субъективные» смыслы не становятся доминирующими и не поглощают словарные значения). Напротив, «романтический» текст принципиально не закончен, он — только застывающий фрагмент некоего живого по-тока сознания, и читатель должен найти к нему эмоциональные ключи, обратиться за расшифровкой индивидуальных коннотаций к другим текстам того же автора, к его автокомментарию, эстетическому, философскому и психобиографическому.
Именно такая ситуация, такой тип творчества сложился в символистской поэзии. Поэтому С.А.Венгеров в своей «Русской литературе XX века» и назвал символизм частью общего неоромантического движения6. Конечно, непосредственного поворота от символизма к поэзии «классической» - в том виде, в каком ее дал пушкинский «золотой век», - в 1910-е годы быть не мог .
ло: это была бы стилизация и не более того. Однако в одной из своих статей периода «Преодолевших символизм», а именно в статье «Валерий Брюсов и наследие Пушкина», В.М.Жирмунский отчетливо противопоставил мелодическую поэзию символизма, жертвующую точным значением слова, поэзии Пушкина. В статье «Задачи поэтики» Жирмунский характеризует поэзию Пушкина, «завершителя русского классицизма» линии Сумарокова-Батюшкова, так: «В такой поэзии вещественный, логический смысл слова иг рает решающую роль» . В этой общей формулировке приемлема мысль о пушкинском звучании неоклассицизма 10-х-20-х годов. Символистский текст принципиально разомкнут, как и романтический. Один из основных новаторов символистского движения, Рихард Вагнер эпатажно настаивал на теургической роли произведения: искусство начинается там, где произведение кончается, а именно в сознании реципиента; в этом смысле теургия и суггестивность синонимы. В репортаже из вагнеровского Байрейта о премьере оперной тетралогии «Кольцо Нибелунгов» П.И. Чайковский писал: «После заключительного аккорда последней сцены последней оперы, Вагнер был вызван публикой. Он вышел и сказал маленькую речь, которую заключил следующими словами: «Вы видели, что мы можем; теперь вам стоит захотеть, и будет искусство» (разрядка П.И. Чайковского — A.M.)»9. Далее в этой заметке, вышедшей в «Русских ведомостях» № 208 18.08.1876, Чайковский говорит об эффекте геологического сдвига, произведенного словами Вагнера. Теургия, понятая как суггестивность, противоречила сознанию дискретной завершенности текста, прививавшемуся Н. Гумилевым и поэтами нового, неоклассицистического движения в 1910-ые годы.
Мысль Жирмунского о сущности «разрыва» между символистами и их непосредственными наследниками нашла преемников в эмиграции. Это Константин Мочульский и Владимир Вейдле. Для К.Мочульского кларизм М.Кузмина и акмеизм в сущности параллельны. Статья «Классицизм в современной русской поэзии» посвящается сборнику Н.Гумилева «Огненный столп» и сборнику М.Кузмина «Эхо». Об отказе Гумилева от традиционного субъективного лиризма говорится так: «Самое понятие лиризма — как душевных излияний, пассивного самолюбования и игры ощущениями - ему враждебно» . Учителем нового направления оказывается Пушкин: это он освободил поэзию от избитых тропов, привив ей «прозаизм», «новые — только следуют его примеру и символизму противопоставляют свой неоклассицизм»11. О прозаических чертах новой школы говорится следующее: «Переживание представлено в объективно-конкретных формах, простых и четких. Преобладает эпика, повествование, описательность, даже дидактический жанр. (...) Поэты сознательно стремятся к сжатости и точности прозы. (...) Аристократизм словаря им непонятен. Все слова хороши, если они впечатляют»12.
Привлечение поэтами бытовых реалий, их стремление к повествователь-ности и графической образности стиха естественно приводят к тому, что «абсолютная вещественность — знамение нашей эпохи. Даже чувства и душевные состояния пластически оформлены. Упоение любви выражается не возвышенными парящими метафорами, оно находит резкий, до грубости сильный образ»13. В этой связи Мочульский цитирует строки М.Кузмина и А.Ахматовой, вроде «Не будем пить из одного стакана ни воду мы, ни сладкое вино». Статья Владимира Вейдле «Петербургская поэтика» представля ется эссеистичным суммированием уже сказанного до него о «неоклассицизме», хотя этого слова он не употребляет.
Лидия Гинзбург так писала об оценках школы акмеизма как неоклассицистической: «Начиная с рецензий 1910-1920-х годов на «Камень» и «Tristia», о классицизме Мандельштама говорили неоднократно и в разных планах. (...) В поэтике «Камня» отмечали четкость, монументальность, некий рационализм, противостоящий музыкальной зыбкости, к которой призывали символисты. Под классицизмом Мандельштама понимали и выбор определенных тем или все то же ассоциативное воссоздание классических стилей прошлого. Притом это разные классические стили: античность, петербургский ампир, французский XVII век («Я не увижу знаменитой «Федры»...»), русский XVIII век (стихи обо Озерове). Постепенно, однако, все больше определялось преобладание античной темы или античной лексической окраски»14. Авторский стиль «Tristia» Гинзбург характеризует как «эллинский», опирающийся на высокопарно-бытовой эллинизм Гнедича, переводящего Гомера. Это превосходное изложение разноплановости характеристик новой поэтики как неоклассицистической.
Однако в современном литературоведении термин «неоклассицизм» не популярен, авторы возвращаются к вечным оппозициям. Согласно мнению М.Л.Гаспарова, процитированному О.А.Лекмановым в «Книге об акмеизме», акмеизм соотносим с некоторым «вечным» типом художественного сознания, который признается классицистическим: «Весьма обоснованным кажется нам мнение М.Л.Гаспарова, полагающего, что акмеизм разрабатывал не собственно «классицистскую», а наследующую классицизму, «парнасскую» линию в литературе: «Акмеизм подхватывает — хотя бы на короткое время — парнас скую традицию поэтики, футуризм — символистическую» (а символизм — романтическую)15».
Позицию М.Л.Гаспарова (изложенную не вполне точно у О.А.Лекманова) мы разделяем не в полной мере. В статье «Антиномичность поэтики русского модернизма» М.Л.Гаспаров замечает присутствие в текстах Брюсова и традиции романтически-парнасской (Виктора Гюго!), и символической. В этой связи он пишет о том, что и у акмеизма присутствовали эти две струи — «строгости» и «зыбкости»: «Мандельштам после «Камня» переходит к той усложненной поэтике, примеры которой мы видели; стихи Ахматовой все больше превращаются в намеки, отсылающие к какому-то автобиографическому подтексту, о котором читатель мог лишь смутно догадываться; Зенкевич и Нарбут учатся новым приемам у футуристов; даже Гумилев в самых поздних своих произведениях («У цыган» или «Заблудившийся трамвай») явно переходит от «парнасской» техники к символистической. Рубеж между ранним, «парнасским», и поздним, символистическим, периодами этой школы ясно осознавался: Брюсов различал их как «акмеизм» и «неоакмеизм», Мандельштам — как «младший символизм» и собственно «акмеизм»»16.
В приведенной цитате, на наш взгляд, немало спорного. Стихи Ахматовой всегда были «намеками, отсылающими к какому-то автобиографическому подтексту», как и любые стихи вообще. Доля их принципиальной отрывочности, недосказанности не увеличивалась и не возрастала: они с самого начала были «окнами в новеллу», которой читатель не знает, и всегда несли в себе вспомогательные сигналы культурных аллюзий. Другое дело, что, как и у Ходасевича, система отсылок у Ахматовой постепенно усложняется, а «окно в новеллу» становится окном в драму и в эпос.
«Усложненность» Мандельштама после «Камня» компенсируется классической и, как правило, легко расшифровываемой образностью, а его авангардистские приемы только развивают изначально присущие акмеизму импульсы. Действительно «герметичными» и «усложненными» тексты Мандельштама становятся после "Tristia", а не в них (см. об этом в 3-ей главе). Поздний Гумилев пишет скорее сюрреалистические, а не «символистические» стихи, потому что после символизма «символистичны» были всякие стихи, а писать «символистические стихи» в узком смысле термина означало писать, как Вячеслав Иванов в «Римских сонетах»; Гумилев же сделал противоположное. В.Нарбут и М.Зенкевич самостоятельно трансформировали опыт символизма «проклятых» и так называемой «крестьянской поэзии» - и на эту стилевую основу ложился не дававший ничего принципиально нового опыт футуристов.
На наш взгляд, сводить поэтику русского модернизма к бинарной оппозиции (или видеть в ней так и не разрешающееся «качание» между антиномич-ными полюсами) - значит упрощать реальную картину поэтической эволюции. Русский модернизм представлял собой последовательное и многофазовое развитие романтического импульса по направлению к неоклассицизму: от Парнаса к символизму, от символизма к «петербургской поэтике», от «петербургской поэтики» к герметизму авангарда, от герметизма авангарда к многоплановости и бесконечности интерпретаций в постмодерне.
Ссылаясь на М.Л.Гаспарова и замечая в скобках, что символизм наследовал романтизму, О.А.Лекманов на самом деле опровергает мнение Гаспарова или доводит его до абсурда. Если символизм прямо наследует романтизму, то в чем же его «антиномичность»? Использованная Гаспаровым оппозиция «парнасизм-символизм» вполне оправдана для Брюсова, хотя традиции Вик тора Гюго в его «Ассаргадоне» мы не видим . Так или иначе, М.Гаспаров обнаружил у Брюсова стилевые приметы и Парнаса, и символизма. В интерпретации О.Лекманова гаспаровская перспектива искажается, если символизм наследует не романтизму и парнассизму, а только романтизму. В итоге получается «романтизм без берегов», некий вневременной тип творчества, противостоящий столь же вневременному типу — «классицизму». Вряд ли подобная типология будет эффективной для историка литературы, анализирующего конкретные подробности (а не «общие места») поэтической эволюции.
Автор «Книги об акмеизме», стремясь, вероятно, не умножать сущности без необходимости, вычеркивает неоклассицизм из истории литературы (как именно «нео-классицизм», то есть «не-классицизм»). Но делает это способом, далеким от академической корректности: сверяя принципы поэтики акмеизма с принципами поэтики Буало. Подобный «скачок через историю» возможен, вероятно, если не признавать ни «творческой эволюции» Бергсона, ни банальной линейной истории. В таком случае для исследователя все тексты одинаково близки - и значит, одинаково далеки.
Поэтому О.А.Лекманова (сравнивающего приемы акмеистического искусства с положениями «Поэтического искусства» Буало) не смущает, что Буало писал программное художественное произведение (в творческом «жанре» Горация), а не исторический очерк существующих художественных явлений и приемов.
Поскольку речь идет о разрыве между двумя поколениями поэтов, настоящая работа могла бы быть психоаналитической или интертекстуально-психоаналитической, как работы И.П.Смирнова («Порождение интертекста», «Психодиахронологика»), Александра Эткинда («Содом и Психея») или Хэ ролда Блума («Страх влияния»). Однако нам кажется, что у филологии есть и свои, не заимствованные у Фрейда и фрейдистов, способы описания текстов и их взаимоотношений. Прежде всего, это представление о том, что не авторское пояснение в переписке, критике, публицистике, а сам текст комментирует себя. Авторские же внелитературные тексты (или, в нашем случае, непоэтические) должны рассматриваться как симптомы того же явления, что и сами стихи, однако не как «нулевая степень» стихотворных высказываний, не как выжимка их смысла. Иначе не совсем понятно, зачем нужно было писать стихи, не ограничиваясь «прямым высказыванием». В таком понимании методологии литературоведения мы ориентируемся на книгу Поля де Мана «Аллегории чтения».
Из стремления к позитивному филологическому знанию мы большею частью отказались в данной работе и от соотнесения фактов литературной эволюции с историей мировоззренческих веяний. Дело в том, что прямолинейные «мировоззренческие» трактовки чреваты серьезными историко-литературными натяжками. Пример тому — книга Майкла Баскера «Ранний Гумилев. Путь к акмеизму»18, в которой приписываемое Гумилеву мировоззрение жизнеприятш оказывается отмычкой ко всякому акмеистическому тексту. С этих позиций М.Баскер толкует, например, «Путешествие в Китай» Гумилева как изложение полумистических-полуэпикурейских взглядов Рабле. При этом автор монографии забывает самим же им отмеченное противопоставление скучного гедонизма начала стихотворения экзотической, райской радости его середины19. Противопоставление может быть объяснено последней строкой текста - «Пусть по пути мы и встретим смерть». Для «идеологии жизнеприятия» подобное заявление звучит странно, и, согласно Баске-ру, герои-путешественники вовсе не умирают: последняя фраза толкуется в том смысле, что раблезианскому путешественнику не страшна и смерть. При этом Баскер забывает раблезианскую же легенду о "le grand peut-etre " («великом может-быть» после смерти), которую Владимир Набоков позднее связывал в своих художественных текстах с поэзией Гумилева (наиболее явно — в романах «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и «Бледный огонь»). А чтобы подтвердить свой тезис о гумилевском «жизнеприятии», Баскер привлекает созданные после стихотворения Гумилева концепции М.М.Бахтина и К.Юнга о праздничном хронотопе (где смерть приравнивается к возрождению) и о «путешествии в себя».
За поисками «идеологии», «мировоззрения» по существу стоит архаичный принцип «нулевой степени» высказывания (т.е. элементарного подражания). Между тем уже для романтизма вся теория подражания трансформируется в тот момент, когда перестает подражать природе произведение и начинает сам автор. Иными словами, сам акт творчества оказывается изоморфен глубинным структурам природы и бытия в целом. Так возникает романтический символ, который не расшифровывается «напрямую», через денотат, а отсылает к акту называния. В модернистской поэзии и сама структурность подражания подвергается разрушению, становится проблемной, акцент делается на «орнаментальности», «стилизованности» - в противовес структурному соответствию текста «природе».
Принципиальной для нас является методологическая аксиома о том, что в литературе ничто не повторяется. Логика проста: изменчивая конкретная «форма» - это и есть литература, глубинные же матрицы принадлежат либо чему-то предшествующему форме (сознанию, бессознательному ли), либо последующему ей (самокомментарию, исследовательской парадигме филолога ли). Однако, при неповторении «формы», всякое новое явление обнаруживает свое сходство с одним из существовавших ранее. В этой связи мы опять возвращаемся к вопросу: насколько это искажение, нетождество сходного, существующее в природе самой литературы в виде метафоры и сюжета, свидетельствует об изменении? Или это только несовпадение случайного при повторении сущности, в прошлый раз исказившейся подобной же случайностью по-другому? Если надо отвечать, то для собственного исследования мы принимаем за аксиому первый ответ как своего рода антиплатоновскую парадигму.
Отвлекаясь от вневременных сущностей, мы можем допустить имманентное развитие литературы как последовательность, в которой нет случайного, и, следовательно, нетождество сходного свидетельствует об изменении. Само это допущение диктуется не предметом, а границами дисциплины, цель которой описать и истолковать текст, не решая вопросов метафизических.
Что есть текст? После М.Фуко нам придется набраться смелости, чтобы ответить: текст для литературоведения есть решенное в лингвистически доступном для понимания языке эстетическое задание, то есть совокупность слов, организованная по канонам, в рамках которых ставилось это задание. Мы увидим (об этом пойдет речь в соответствующих главах), что у О.Мандельштама одному эстетическому заданию может соответствовать два текста (своеобразные двойчатки), мы обнаружим у М.Кузмина примеры того, как эстетическое задание в тексте решается не средствами лингвистически доступного языка, а хлыстовскими выкликами; у тех же Мандельштама и Кузмина, а также у В.Ходасевича лакуны между текстами — пробелы между стихотворениями — программно заполнимы, и тем самым границы одного текста размыкаются. Но подобный «не-текст» — это «текст плюс не», это некая дифференциация импульса, разветвления которого у Мандельштама сосуществуют, у Кузмина — за счет формалистской гипертрофии приема — включают в себя внетекстуальные элементы, у Ходасевича — образуют некий «архитекст».
Если в этих трех трудных случаях наша гипотеза последовательного, не повторяющего себя и могущего предстать как имманентное развития литературы не разрушит себя, то есть не расшатает принятых, как допущение, разумных самоограничений, это будет всего лишь частным свидетельством в ее пользу.
Проблема неоклассицизма в русской критике 10-20-х годов
В 1910 году случился симптоматичный эпизод литературной жизни, который может быть истолкован так: внутри модернистского движение созрела абстрактная идея реформы, появилось представление о том, что позже было названо «преодолением символизма», «неоклассицизмом» и «петербургской поэтикой». Валерий Брюсов, в рецензии на «Жемчуга» Николая Гумилева (1910), опубликованной в «Русской мысли» году (1910), с увлечением описывает вымышленную страну Гумилёва, смакую тонкие аллитерации «слоны-пустынники», «легкие волки», «седые медведи». По признаку принадлежности автора к миру «действительности» или миру «мечты» Брюсов уверенно относит Гумилева к искусству романтическому, «идеалистическому», но не может не отметить, что по сравнению со стихами прежнего сборника «Романтические цветы» стихи «Жемчугов» четче и законченней: Гумилев «научился замыкать свою мечту в более определенные очертания. Его видения с годами приобрели больше пластичности, выпуклости»20.
В этой связи Брюсов противополагает «реализм» и «идеализм» и говорит о необходимости синтеза поэзии мечты и действительности, — синтеза, к которому Гумилев, по его мнению, не стремится. Однако сам Гумилев в письме по поводу сборника указывает Брюсову, принимая его антитезу «действительности» и «мечты»: «...я тоже стремлюсь к указанному вами синтезу... (...) ...я стараюсь расширять мир моих образов и в то же время конкретизировать его, делая его таким образом все более и более похожим на действительность. Но я совершаю этот путь медленно, боясь расплескать тот запас гармоний и эстетической уверенности, который так доступен, когда имеешь дело с мирами воображаемыми и которому так мало (по-видимому) места в мире действительности»21.
Подчеркнем в этом высказывании акцент на «эстетической уверенности» - именно эстетика, а не жизнестроительный, этический и концептуальный поиск, актуальна для Гумилева. Разговор двух поэтов о «мечте» и «действительности» - только дань ушедшему веку, схоластика, которой они пользуются, говоря о новой стилевой практике. Такие стихотворения «Жемчугов», как «Волшебная скрипка», «Царица», «В пути», «Заводи», «Это было не раз» не описывают никакой вымышленной страны; это развернутые метафоры, предельно связное мышление образами, заостренными до визуальной и стиховой четкости.
В конце 1900-х годов в кругах модернистов возникает идея нового журнала — аполлонического, чувственного искусства — в противовес искусству сверхчувственному, дионисическому у символистов. Однако когда С.Маковский, И.Анненский, М.Волошин и Н.Гумилев создавали программу такого журнала, поэты как идеологи имели в виду под аполлоническим искусством нечто совершенно различное. Уже на ранней стадии выработки позиции произошел разрыв редакции с Акимом Волынским, упрекнувшим сотрудников журнала в «малоидейной атмосфере». Упрек Волынского был логичным: аполлоновское искусство в первую очередь стремится к четкости основного значения, которое и призвано сообщать произведению цельность аполлоновского совершенства, а значит, это искусство избавляется от излишней эзотерической насыщенности, размывающий внешнюю цельность, а этого-то в позиции основателей «Аполлона» критик не обнаружил.
Для Маковского, Анненского и Волошина новое, «малоидейное», по словам Волынского, искусство было явлено в трех ликах Аполлона. Для тонкого ценителя поэзии, но посредственного поэта и теоретика Сергея Маковского аполлонизм журнала был по сути программой культурной санации. «...Редакция «Аполлона» хотела бы тем не менее называть своим только действительно жизнеспособное, только строгое и подлинное искание красоты, чуждое того бессильного брожения и распада, которые наблюдаются слишком часто в искусстве и литературе нашего времени. Лозунг журнала — «аполлонизм», т. е. принцип культуры, унаследованный всем европейским человечеством и претворенный в идеях гуманизма» , - такой проект манифеста он посылает Анненскому.
Как мы видим, это борьба за этическую позицию, а не за тот или иной формальный канон, это то, что музыковед Дмитрий Ухов в своих лекциях о Петре Чайковском назвал «сентиментальным европоцентризмом» в эпоху «кризиса европоцентризма». Маковский выступает против «фокусничества» — «будь то выдуманное ощущение, фальшивый эффект, притязательная поза, тайнопись или иное злоупотребление личиною искусства» . Подобная проповедь этической ответственности художника, его искренности вряд ли могла быть первостепенно важной для Анненского, Гумилева и Волошина — ведь исходила эта проповедь от человека, судившего о поэзии теоретически, «со стороны».
Смотря на дело «изнутри» поэзии, они понимали, что этические суждения превращаются лишь в общие слова, когда речь идет о поэтике конкретных текстов. Показательно, что в статье о стихах Гумилева, которую мы разберем ниже, Анненскии защитил и «выдуманное ощущение», и «фальшивый эффект», и «притязательную позу» «Романтический цветов».
Примкнув к основателям «Аполлона», Анненскии по сути отстаивал позицию модернистского возвращения искусства к самому себе, живописи — к безобъемному тону, поэзии — к слову, прозы — к истории, сюжету (последнее, собственно, и было сутью «кларизма»), трагедии — к надгробному причету. Об этом можно судить по его письму Волошину: «...у Вас не только светила, но всякое бурое пятно не проснувшихся ещё трав, Ночью скосмаченных... знает, что они — слово и что ничем, кроме слова, им, светилам, не быть, что отсюда и их красота, и алмазность, и тревога, и уныние». Анненскии говорит в этом письме о понимающих, «что такое слово».
Акмеизм и неоклассицизм
Парнас Готье исторически связан с романтизмом. Во «Флорентийских ночах» приятеля Теофиля Готье романтика Генриха Гейне герой, Максимилиан, рассказывает, как, влюбленный в картину с мадонной, «погрузился в мистику католичества»55 (я затрудняюсь определить долю иронии во «Флорентийских ночах»). В «Ножке мумии» самого парнасца Готье фараон отказывается отдать в жены герою трехтысячелетнюю красавицу Гермонтис, поскольку герою всего 27 лет. Здесь ирония совершенно отчуждает повествователя от героя, посредника-энтузиаста (в терминологии Зенкина романтический герой, пытающийся раствориться в чужой, ориентальной культуре, чего не удалось пушкинскому Кавказскому пленнику ), а самого героя от культуры, вызывающей его энтузиазм «вжиться». Так действует парнасский эстетизм, основанный на отстранении между энтузиастом чужой культуры и ею.
Романтизм был школою проницаемости чужой культуры. Как эстет сэр Макс Бирбом о Данте Габриэле Россетти (в одном ряду с Байроном), так парнасец Готье о художнике Нантейле (воспринятом как романтик) говорят, что это были люди кватроченто, которые родились в девятнадцатом веке. Так эстетизм превращает романтика-энтузиаста посредством гиперболы в герметично замкнутого человека чужого времени, несмотря на то, что он - современник. То же происходит и с пространством. В «Истории романтизма» Теофиля Готье говорится гиперболически и иронически о Жюле Вабре, архитекторе-обожателе Шекспира: «Считая, что он недостаточно хорошо знает английский, Жюль Вабр, не убоявшись голода и нужды, отправился из Парижа в
Лондон с единственной целью усовершенствоваться в языке своего обожаемого автора, чтобы не упустить не малейших оттенков в его тексте. (...) Он выработал в себе английскую душу, английский мозг, английскую внешность; он думал только по-английски, перестал читать французские газеты, не брал в руки ни одной книги на родном языке»57. Заканчивается история плачевно: Вабр, ставший благодаря портеру и английским манерам истым британцем, не может перевести Шекспира на французский, так как забывает свой родной язык. Ему противостоит автор «Истории романтизма», который, цитируя слова Гёте о том, что тот «сделался почти что настоящим мастером -в искусстве писать по-немецки», восклицает: «Хотел бы и я после стольких лет труда и упорных поисков в различных направлениях тоже сделаться почти что настоящим мастером в одном-единственном роде искусства — в искусстве писать по-французски!»58. Парнасец знает, что чрезмерное увлечение «чужим» превращает «свой» материал — родной язык — в недоступный, и эта страшная неспособность к творчеству для парнасца — хуже романтической смерти Конрада Валленрода, например, от рук рыцарей-«чужих», магистром которых он стал. Напомним, что у Лесажа, писателя доромантической эпохи, обращение в магометанина и возвращение в истинный облик для нравственного человека проблемы не представляет. В целом, такое положение соответствует поиску нового сакрального мифа, в чем Старобинский видит начало романтизма59.
В целом, идея четырех периодов отношения к средневековью у Жюля Мишле, предложенная Ле Гоффом, кажется нам отвечающей сменам эстетических настроений романтизма и постромантизма. Что не меняется на протяжении 4 периодов, так это то, что Мишле пишет историю какжении 4 периодов, так это то, что Мишле пишет историю как биографию и автобиографию, превращаясь в энтузиаста Средневековья, в его «некроманта»60. Это утверждает нас в намерении раскрыть историю постромантизма как историю отношения к чужой культуре. В первый период это «прекрасное средневековье 1833-1844 годов»61, связанное с романтизмом 30-ых годов, добавим мы, и Средневековьем Рескина («Камни Венеции» 1851 года). Из статьи «Как Жюль Мишле открыл Возрождение» Люсьена Февра мы знаем, что в 1840-ых годах Мишле создает концепцию Возрождения, которое противостоит мрачному кватроченто Людовика XI и Карла Смелого. Соответственно Средневековье становится «антиестеством», «мрачным Средневековьем 1855 года», которое описывается без сочувствия, как «сухость, пустая напыщен-ность, неопределенность» . Я думаю, что такое видение Средневековье было присуще Пейтору (и там, и здесь Абеляр — человек будущего), его эмоциональная чуждость соответствует взгляду парнасца. В 1840 году выходит книга Опостена Тьерри «Рассказы из времен Меровингов», где средневековье — чреда триумфов варварства. Но третье средневековье «Ведьмы» Мишле (1862) открывается при сравнении первой и второй части самой «Ведьмы»: вторая часть - упадок ведьминства в XVI-XVII веках документирована, описана подробно, в конкретных эпизодах, но первая часть — визионерская, не подкрепленная документами, это поэма о женщине-ведьме, которой достается честь «порождения современных наук», «изучения материи», то есть современного знания. Более того, ведьма создает дьявола, антагониста Средневековья. Возьму на себя смелость предположить, что этот разрыв с документированной культурой во имя визионерского понимания сущности недокументированного ведьминства, этот затрудненный конкретный, но полный аб страктный контакт свидетельствует о близости уже не к парнассизму, а символизму. Нечто внешнее злое и опасное (сатанинское) оказывается хранителем ментального сходства, противоположности внешнему впечатлению, в конце концов - поэтизированной жизни, наследующей античному миру (Дьявол у Мишле - бывший языческий бог, ставший домовым), как Ренессанс у Пейтора. 4-ое средневековье — это профетическая перспектива возврата к средневековью романтического периода, созданного, по признанию Мишле, им самим, Шатобрианом и Гюго.
Tristia. Кризис в поэтике Осипа Мандельштама 20-х годов
Происходит хиазматическое, зеркальное переворачивание: атрибут эпизодического персонажа Блока, «черное пламя», переходит к центральному, Федре, а ритмика строк центральных персонажей Блока оказывается в распоряжении манделыытамовского хора. У Мандельштама именно хор, рассказывающий историю, а не центральный лирический персонаж этой истории оказывается авторским посредником при соприкосновении с чужой культурой (на этот раз античной). Этот посредник уже - не зритель-энтузиаст, а полноправный участник чужой культуры. Еще одним косвенным подтверждением блоковского подтекста у Мандельштама оказывается появление персонажа «Незнакомки» Блока в стихотворении «Старик» из сборника «Камень». У Блока «пьяный старик - вылитый Верлэн» произносит, бормоча, некстати глубокомысленные реплики, у Мандельштама пьяный старик, «похожий на Верлена», «богохульствует, бормочет несвязные слова» (I, 25).
Мандельштам объединяет, стилистически сплавляет разные классические трагедии в единый претекст. Образ черного пламени Федры и тяжелых по крывал восходит и к строкам Корнеля, притом строкам знаменитым. Это фраза из рассказа Сида о битве с магометанами: Cette obscure clarte qui tombe des etoiles Enfln avec le flux nous fait voir trente voiles134. (Этот темный свет, что падал от звезд, / Наконец, вместе с приливом, позволил нам увидеть тридцать парусов). Слово voile обозначает и «покрывало, вуаль», и «парус». Теофиль Готье писал о том, что в театре французского классицизма можно найти только «два живописных стиха», и один из них — корнелевский: «Стих Корнеля — это великолепный скрипичный колок, вырезанный рукою могучего мастера из олимпийского кедра, для того, чтобы закрепить на нем струну, протянутую к нужной ему рифме «voiles» . Напомним, что Готье считался акмеистами, вместе с Шекспиром, Вийоном и Рабле, автором, на вкусы которого они ориентировались, так что следовало бы предположить знакомство Мандельштама не только с прославленным стихом Корнеля, но и с «Историей романтизма» Готье, где акцентировано внимание на указанной рифме («etoiles-voiles»).
Манделыптамовская каламбурная игра со значениями слова voile («покрывала» вместо «парусов») не должна выглядеть странной - соответствующая тенденция свойственна неоклассицизму в целом (например, Кузмин в рондо о Манон Леско в строке «Зарыта шпагой, не лопатой» играет английским «spade» — лопата и итальянским «spada» — «шпага»). Но, как бы то ни было, этот претекст не отменяет прежде известных источников образа темного пламени: с одной стороны - ближайших, с другой стороны отдаленных, указанных Вяч.Вс. Ивановым, таких как «Ипполит» Еврипида, «Федра» Се-неки, расиновская «Федра» .
Овидий и Корнель, Еврипид и Расин — все эти источники мандельштамов-ской образности объединяются признаком классичности, классицистичности. В целом у Мандельштама выстраивается такая парадигма цитирования: Еврипид (и, возможно, Сенека), Корнель и Расин, Блок и Анненский. Каждый случай использования «чужой» образности свидетельствует о том, что автор знает о нескольких претекстах. В чем смысл сложной структуры, кроме того, что она мотивирует драматичность стихотворения?
В случае с появлением в тексте «старика, похожего на Верлена» («Старик») перед нами как бы переписывание цитируемого автора (литературного «отца») набело, с одной поправкой — именно в Верлене Мандельштам узнаёт Сократа. В стихотворении о Федре произошло более резкое отталкивание, хиазматическое переиначивание источника, которое диалектически свидетельствует о более высоком напряжении внимания к нему: «Старик» еще близок к пародии, «Как этих покрывал и этого убора...» в своей полемичности - преемственный текст. Федра — двойник («чужая» культура), но герой приближается к ней как хор с высоты многоярусного театра. Жанровое сближение тоже налицо: «Старик», использующий образный ряд драмы «Незнакомки» и стихотворения «Незнакомка» («Очи... цветут» — «Глаз... цветет»), — лирическое стихотворение, а «Как этих покрывал...» - уже драматическое.
Сама эклектичность жанра свидетельствует о кризисе неоклассицистских установок. Можно предположить, что речь идет об открытом соперничестве Мандельштама с первым поэтом символизма. По отношению к этому соперничеству можно утверждать, что в «Камне» оно было насмешливым и отчу жденным (так подобало соперничать с «отцами» представителю новой, игровой культуры). В «Тристиях» это уже соперничество-соучастие: две культуры - «отцовская» и своя - начали сближаться и даже отождествляться, что привело к подспудному пока разрушению первичного стилевого импульса неоклассициста.
Стихотворение «Зверинец» написано в русле традиции русской политической оды — традиции ораторски-перифрастической от Пушкина до Полонского. Перифраз противостоит «наивному» называнию и нуждается в закрепленных культурных ассоциациях, чтобы быть понятным, с одной стороны, и в знании реалий — с другой. Вот, например, строки из стихотворения Якова Полонского «Вложи свой меч»: С почетом принял ты под свой покров того, Кто мог - и смел тебе недавно поперечить, Кто думал произвол собой увековечить И пал от произвола твоего137. Речь идет о сдавшемся в плен при Седане императоре Наполеоне III. Для воинственной политики Наполеона находится слово «произвол», которое сближает образ племянника с образом дяди - Наполеона I, тем более что именно Наполеон III воевал с Россией, взял Севастополь. Это слово отсылает к русской традиции перифрастического наименования Наполеона I. То, что персонаж по имени не назван, - дань традиции и при знакомстве с культурным кодом эпохи не должно вызывать недоумения. С другой стороны, несомненно, что для понимания стихотворения читатель должен иметь информацию о подробностях франко-прусской войны.
Метонимический аллегоризм Михаила Кузмина
Поэзия Кузмина в своем культурном припоминании развивается между двумя полюсами: метонимией, то есть языковой, общей семантикой и частными контекстными смыслами: ведь в языке не закодировано, что слово «левкои» отсылает именно к александрийскому домику. Для понимания культурных отсылок Кузмина приходится просматривать их на фоне функционального тезауруса его индивидуального творчества167. Мы укажем на пример неверного понимания приема обозначения у Кузмина, которое влечет за собой неверное истолкование метонимической аллегории. Н.В. Злыднева в статье «Мотив Волны в русской графике начала XX века и поэтический мир М.А. Кузмина» напрямую связывает Кузмина с графическим стилизмом мирискусников, для которых волна была «прообразом обнаженного приема»168, при всей архетипической нагрузке. Однако в приведенных примерах из Кузмина, где волна понята в свете «тем непостоянства и непредсказуемости стихии чувства», словообраза «волна» попросту нет, а действительно описанная изменчивость моря - пушкинской «свободной стихии» - выступает метафорически. Само обозначение этой метафорой отсылает к большому пласту культурных реминисценций, в центре которой — все-таки художники Уистлер и Ренуар, ориентировавшиеся на Хокусая и «японщину» конца XIX века, которая отождествлялась с европейским XVIII веком. Там волна предстаёт, действительно, как метафора эфемерной красоты, существующей одно мгно вение, «прекрасное мгновение» Уолтера Патера, идеолога эстетизма. Предположить прямую отсылку к Патеру или Уистлеру (наставникам Уайльда) означает отправить Кузмина на четверть века назад, к заре модернизма. И здесь важно учесть контекст книги «Сети», которую исследователи (В.Ф. Марков, Н.А. Богомолов) рассматривают как восхождение от Афродиты Земной к Афродите Небесной. Только так можно увидеть «волну» у Кузмина - как знак отвергаемой раннемодернистской традиции, что становится ясно не в потекстовом анализе, а в целостном анализе книги. Отсюда вывод о том, что для Кузмина дискретность поэтического текста - один из начальных принципов неоклассицизма, - все-таки отступает (как позже - для О. Мандельштама в «Tristia») на задний план перед стремлением к единству книги, как то было для русских символистов.
Метапоэтичность Кузмина — это часть его извода метонимического символизма, в котором метафора отсылала к вееру культурных ассоциаций. Если обратится к раннему произведению - «Курантам любви», то станет очевидным, что Кузмин связан с такими поэтами младшего поколения символистов, как Эрнест Доусон и Альбер Жиро, автор текстов «Лунного Пьеро» Шёнберга. Это традиция мелодекламации, поэзии верленовского, музыкального типа. В «Курантах любви» Кузмин открыто ориентируется на опыт «Пьеро минуты» Эрнеста Доусона, что выдается цитатой. В стихотворении «Любовь расставляет сети...» Кузмина одна из реплик Фавна звучит так: «Завтра полюбит любивший / И не любивший вчера» (132). Доусоновский Пьеро читает в записке: «Не loves to-night who never loved before; I Who ever loved, to-night shall love once more» . Действие «Пьеро минуты» происходит у храма Любви, ее святилища, где Пьеро кладет лилии к стопам мраморного Купидона. Действие «Курантов любви» во второй части («Лето») происходит «у Венерина колодца»170 (135).
О Доусоне, скорее традиционалисте, чем новаторе, английском поэте, входившем в круг старого Оскара Уайльда и ставшем легендой поколения 90-х годов XIX века, его «проклятым поэтом», отчетливо пишет Артур Сай-монз в предисловии к посмертной книге стихов и прозы Доусона (1900): «Я помню, как он говорил мне, что его идеал поэтической строки — стих По: «The viol, the violet and the vine» («Виола, фиалка и виноград»), — и что изящная, отнюдь не далекая или нереальная, красота, которая облекает такие слова и такие образы, как эти, всегда была для него истинной красотой поэзии. Никогда не было поэта, к которому стих приходил более естественно, ради самой песни; все его теории были эстетическими, почти техническими, как, например, теория о том, подсказанная любовью к строке По, что звук «v» — самый прекрасный из звуков и никогда не был бы в стихах излишне частым. На более абстрактные теории ему не хватало терпения и он не нуждался в них. Поэзия как философия не существовала для него; она была лишь самым восхитительным из искусств. (...) У него был чистый лирический дар, не отяжеленный грузом или балластом других сторон мышления или эмоций, и песня была для него прежде всего музыкой...» . Можно представить по этой характеристике второстепенного поэта-декадента Доусона, от чего отталкивался Кузмин, стараясь не потерять нужного ему.