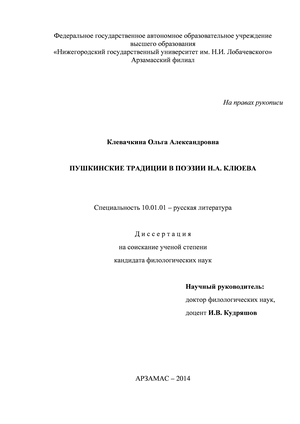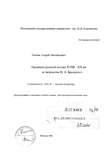Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Преемственность пушкинских идеалов в литературной концепции поэтов-новокрестьян 12
1.1. «Новокрестьянская поэзия»: границы содержания понятия 12
1.2. Пушкинское присутствие в этико-эстетической системе новокрестьянских поэтов (Н. Клюев, С. Клычков, С. Есенин) 33
1.3. Клюевское и пушкинское понимание народности 49
Глава II. Пушкинские традиции в лирике Н.А. Клюева 66
2.1. Пушкинское наследие в сборнике «Сосен перезвон» 66
2.2. Пушкинский «Странник» в художественном сознании «Братских песен: Книга вторая» 83
2.3. «Осенняя» лирика Клюева 99
Глава III. Рецепции пушкинского творчества в лиро-эпике Н.А. Клюева 115
3.1. Влияние пушкинской лирики на художественный мир поэм «Мать-Суббота», «Деревня» и «Погорельщина» 115
3.2. Пушкинский образно-поэтический слой в «Песне о Великой Матери» и «Каине» 129
3.3. Пушкинский «ключ» к поэме «Кремль» 149
Заключение 164
Использованная литература
- Пушкинское присутствие в этико-эстетической системе новокрестьянских поэтов (Н. Клюев, С. Клычков, С. Есенин)
- Клюевское и пушкинское понимание народности
- Пушкинский «Странник» в художественном сознании «Братских песен: Книга вторая»
- Пушкинский образно-поэтический слой в «Песне о Великой Матери» и «Каине»
Введение к работе
Самобытное творчество новокрестьянского поэта Н.А. Клюева привлекает внимание исследователей уже не первое десятилетие. Поэтическое наследие «олонецкого песнописца» осмысливается учеными в аспекте восприятия им этико-художественных традиций предшественников, оказавших влияние на формирование его оригинального поэтического сознания. Исследователями изучается как фольклорная основа творчества Клюева, так и литературная: главным образом рецепция традиций классической литературы середины XIХ века и литературно-творческие связи поэта с современниками.
Восприятие Клюевым пушкинских традиций – значимая составляющая этико-эстетической системы поэта – на сегодняшний день не стало предметом всестороннего исследования в отдельной работе, что обуславливает актуальность диссертационного исследования.
Степень научной разработанности темы. В литературоведении наметились четыре направления в изучении наследия Клюева исследующее: 1) его биографию; 2) литературно-творческие связи; 3) фольклорную основу творчества и 4) древнерусские истоки художественного сознания олонецкого поэта.
Ученые, ведущие исследования в рамках первого обозначенного нами направления, сконцентрированы на устранении «белых пятен» в биографии поэта. Работы К.М. Азадовского1, В.Г. Базанова2, А.К. Грунтова3, Л.А. Киселевой4, А.И. Михайлова5и др. существенно пополнили знания о жизни новокрестьянского поэта.
На протяжении последних десятилетий не утрачивает значимости и исследование литературно-творческих связей Клюева и фольклорной основы его творчества. Так, с 70-х гг. прошлого века и по настоящее время ученые находят актуальной тему «Клюев и Есенин» (С.А. Журавлев Л.А. Киселева, А.И. Михайлов, и др.); изучением фольклорной основы творчества поэта заняты Т.В. Мануковская6, Е.И. Маркова7, Н.И. Неженец8, О.В. Пашко9 и др.
1 Азадовский, К.М. Николай Клюев: Путь поэта / К.М. Азадовский. – Л.: Сов. писатель, 1990. – 336 с.
2 Базанов, В.Г. С родного берега: о поэзии Н. Клюева / В.Г. Базанов. – Л.: Наука, 1990. – 241 с.
3 Грунтов, А.К. Материалы к биографии И.А. Клюева / А.К. Грунтов // Русская литература. – 1973. –
№ 1. – С. 118–126.
4 Киселева, Л.А. «Греховным миром не разгадан…». Современники о Николае Клюеве [электронный
ресурс] / Л.А. Киселева // «Наш современник»: литературно-художественный и общественно-
политический журнал. – 2005. – № 8. – Режим доступа: (дата обращения: 16.08.2012).
5 Михайлов, А.И. К биографии Н.А. Клюева последнего периода его жизни и творчества: (По мате
риалам семейного архива Б.Н. Кравченко) / А.И. Михайлов // Ежегодник Рукописного отдела Пуш
кинского дома на 1990 год. – СПб., 1993. – С. 160–181.
6 Мануковская, Т.В. Эволюция фольклорно-мифологических образов и мотивов в поэзии Николая
Клюева: Автореф. дис… канд. филол. наук [электронный ресурс] / Мануковская Татьяна Васильевна
// DisserСat. – 2007. – Режим доступа: (дата обращения: 19.06.2013).
7 Маркова, Е.И. Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного искусства
[электронный ресурс] / Е.И. Маркова // Вологодская областная универсальная научная библиотека. –
1999. – Режим доступа: (дата обращения: 27.09.2013).
8 Неженец, Н.И. Русская народно-классическая поэзия / Н.И. Неженец. – М.: Раритет, 2007. – 544 с.
Тема древнерусских истоков творчества Клюева стала основной в научных изысканиях В.Г. Базанова10, Л.Г. Яцкевич11 и многих других отечественных исследователей.
Заметный вклад в изучение отдельных аспектов жизни и творчества самобытного русского поэта внесли зарубежные литературоведы М. Мейкин12, М. Нике13, Дж.А. Огден14 и др.
Однако, несмотря на достаточно обширный круг вышеобозначенных научных интересов, связанных с Клюевым, все еще остается большой спектр проблем, ожидающих исследовательских решений. К их числу относится вопрос о характере творческого восприятия Клюевым пушкинских традиций, который на сегодняшний день не получил системного научного освещения.
Объектом исследования является поэтическое наследие Н.А. Клюева, рассматриваемое с точки зрения творческого восприятия традиции отечественной классической поэзии.
Предмет изучения – унаследованные новокрестьянским поэтом пушкинские традиции, нашедшие выражение в лирике и лиро-эпике Н.А. Клюева на разных уровнях формы и содержания его произведений.
Материалом исследования послужили поэтические сборники Клюева «Сосен перезвон» (1912 г.), «Братские песни: Книга вторая» (1912 г.), «Лесные были» (1913 г.), стихи, составившие двухтомное издание «Песнослова» (1919 г.), «Избяные песни» (1920 г.), лирика 20–30-х годов, не вошедшая в прижизненные издания поэта, а также поэмы «Мать-Суббота» (1922 г.), «Деревня» (1927 г.), «Погорельщина» (1928 г.), «Каин» (1929 г.), «Песнь о Великой Матери» (1930 г.) и «Кремль» (1935 г.). В качестве дополнительного материала привлекались прозаические сочинения, публицистика и эпистолярий новокрестьянского поэта.
Цель диссертационной работы состоит в системном исследовании особенностей творческого восприятия пушкинских литературных традиций в художественном сознании Н.А. Клюева.
9 Пашко, О.В. Сирин и Алконост в поэзии Николая Клюева: К вопросу о влиянии на нее старообряд
ческих настенных листов / О.В. Пашко // Православие и культура. – Киев: б. и., 2002. – № 1–2. –
С. 99–109.
10 Базанов, В.Г. «Гремел мой прадед Аввакум»: (Аввакум, Клюев, Блок) / В.Г. Базанов // Культурное
наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. – М.: Наука, 1976. – С. 334–348.
11 Яцкевич, Л.Г. «Узорнее аксамита моя золотая дума»: поэтическое слово Николая Клюева /
Л.Г. Яцкевич // Вологодский ЛАД. – Вологда, 2008. – № 1. – С. 160–170.
12 Makin, M. Whose is Kliuev, Who is Kliuev? Polemics of Identity and Poetry / M. Makin // The Slavonic
and East European Review. – London, 2007. – Vol. 85. № 2. – P. 231–270.
13 Niqueux, M. Blok et l'appel de Kljuev / M. Niqueux // Rev. tud. slaves. – Paris, 1982. – LIV. F. 4. –
P. 617–630.
14 Ogden, J. A. Nikolai Kliuev and the Construction of the Literary Peasant / J.A. Ogden: Unpublished Ph. D.
dissertation. – Stanford University, 1996.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
-
определить границы понятия «новокрестьянская поэзия» как литературного течения Серебряного века и обозначить пушкинское присутствие в этико-эстетических концепциях основных новокрестьянских поэтов;
-
осмыслить родственную близость взглядов Клюева с пушкинской концепцией народности;
-
установить особенности творческого восприятия пушкинского наследия в ранних сборниках «Сосен перезвон» и «Братских песен: Книга вторая»;
-
проанализировать мотивы и образное решение темы осени в контексте пушкинского наследия;
-
эксплицировать и охарактеризовать влияние пушкинского творчества на художественный мир поэм «Мать-Суббота», «Деревня», «Погорельщина», «Каин», «Песнь о Великой Матери» и «Кремль»;
-
изучить характер пушкинского влияния на поэзию Клюева с учетом жанрово-родовых особенностей произведений новокрестьянского поэта.
Цель и задачи предопределили акцент на синтез историко-типологического, историко-генетического и системно-типологического методов научного анализа словесного искусства с реализацией ценностно-эстетического подхода к литературным произведениям, позволяющим разносторонне исследовать особенности восприятия пушкинской традиции в художественном сознании Н.А. Клюева.
Методологическую основу работы составляют а) труды о теории тра
диций в русской литературе А.С. Бушмина, В.М. Жирмунского, В.Н. Захарова,
В.В. Кожинова, Ю.Н. Тынянова и др.; б) работы по теории литературы
М.М. Бахтина, Б.М. Гаспарова, В.Н. Топорова, В.Е. Хализева и др.; в) исследо
вания о личности и творчестве Н.А. Клюева М.К. Азадовского, В.Г. Базанова,
Л.А. Киселевой, Т.В. Мануковской, Е.И. Марковой, А.И. Михайлова,
Н.И. Неженца, Н.М. Солнцевой, С.И. Субботина и др.).
Научная новизна работы состоит в том, что она являет собой первый опыт целостного осмысления восприятия Н.А. Клюевым пушкинских литературных традиций.
Положения, выносимые на защиту:
-
Пушкинское присутствие в художественном сознании новокрестьянских поэтов Н. Клюева, С. Клычкова и С. Есенина – показатель не только индивидуально-творческого диалога вышеназванных поэтов с великим предшественником, но и декларационный этико-эстетический принцип «новокрестьянской поэзии» как литературного течения Серебряного века, заключающийся в ориентации на творческое восприятие литературного наследия Пушкина.
-
Творческое восприятие ценностно-художественного наследия Пушкина коренится на родственной близости взглядов Клюева с пушкинской концепцией народности. Переписка и публицистика олонецкого поэта, в которых он обращается к проблеме народности в искусстве, содержат отсылки к творчеству Пушкина, свидетельствующие о преемственности эстетических посылов великого поэта.
-
Нашедшие выражение уже в первых сборниках стихов «Сосен перезвон» и «Братские песни: Книга вторая» основополагающие этико-эстетические и философские принципы раннего творчества Клюева, во многом предопределившие направление творческого развития «олонецкого песнописца», связаны с художественным осмыслением, базирующимся на восприятии пушкинской традиции предназначения поэта, природы его поэтического дара и странничества как поиска «спасенья верного пути». Внимание раннего Клюева к художественному наследию великого предшественника обусловлено формированием оригинальной системы ценностных взглядов «молодого» крестьянского поэта и творческим восприятием им пушкинского наследия, выразившимся в родственной близости художественного осознания предназначения поэта, божественного источника поэтического дара и направления поиска лирическим героем пути к «тесным вратам» спасения.
-
Одним из литературных истоков клюевской словесной живописи о природе становится классическая пушкинская поэтическая традиция. В лирике новокрестьянского поэта, изображающей осеннюю природу родной земли, просматриваются устойчивые образы и мотивы, восходящие к «осенней» лирике гения русской словесности. К их числу относятся «осенние» образы и мотивы пышного осеннего увядания природы, очарованья, светлой грусти и вдохновенного творчества, покоя и приволья и другие.
-
Лиро-эпическое творчество Клюева 20–30-х годов отразило глубокое творческое восприятие олонецким поэтом пушкинских традиций. Поэмы «Мать-Суббота», «Деревня», «Погорельщина», «Каин», «Песнь о Великой Матери» и «Кремль» содержат следы созидательного усвоения ценностного наследия пушкинского поэтического творчества. В контексте культурно-творческого диалога новокрестьянского поэта с Пушкиным поэмы наглядно демонстрируют родственную близость этико-художественных систем двух поэтов.
-
Восприятие поэтом-олончанином Пушкина в качестве ценностного ориентира прослеживается на всем протяжении творческого пути новокрестьянского поэта и эволюционирует от ученического следования этому ориентиру в лирике первого десятилетия прошлого столетия, составившей первые сборники поэта «Сосен перезвон», «Братские песни: Книга вторая», до глубокого творческого осмысления пушкинского наследия в стихотворениях и поэмах 20– 30-х годов XX века: «Мать-Суббота, «Деревня», «Погорельщина», «Каин», «Песнь о Великой Матери» и «Кремль».
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по которой она рекомендуется к защите. Диссертация соответствует паспорту специальности 10.01.01 – Русская литература. Диссертационная работа выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта специальности: п. 4 – история русской литературы XX–XXI веков; п. 8 – творческая лаборатория писателя, индивидуально-психологические особенности личности и ее преломлений в художественном творчестве; п. 11 – взаимодействие творческих индивидуальностей, деятельность литературных объединений, кружков, салонов и т.п.
Теоретическая значимость диссертации заключается в выработке универсальной методики и приемов анализа художественного сознания поэта в аспекте восприятия литературных традиций.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее материал и результаты могут быть использованы в вузовских и школьных курсах истории русской литературы, спецкурсах и спецсеминарах по истории поэзии Серебряного века, а также в научных исследованиях, посвященных проблемам восприятия пушкинских литературных традиций в отечественной словесности.
Достоверность научных положений и выводов диссертационного исследования обеспечивается привлечением к анализу максимально полного объема материалов, связанных с творческой деятельностью Н.А. Клюева в аспекте художественно-эстетического восприятия пушкинских литературных традиций; сопоставительным анализом клюевских поэтических текстов и пушкинских; учетом широкого контекста восприятия произведений Н.А. Клюева и А.С. Пушкина в отечественной и зарубежной критике и литературоведении; использованием в качестве дополнительной аргументации текстов прозаических сочинений, публицистики, эпистолярия новокрестьянского поэта и сведений из мемуарных источников.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из которых включает в себя три параграфа, заключения и списка использованной литературы (254 наименования). Объем текста – 192 страницы.
Пушкинское присутствие в этико-эстетической системе новокрестьянских поэтов (Н. Клюев, С. Клычков, С. Есенин)
Истоки литературных направлений Серебряного века исключительно многообразны. Поэты рубежа веков в своих творческих исканиях опирались и на опыт французских символистов, и на традиции античной литературы, и на богатейшее наследие русской литературы, в том числе, на достижения классической русской поэзии XIX века. Традиция, сформировавшаяся в творчестве А.С. Пушкина, являлась одной из наиболее значимых для поэтов того времени в аспекте их творческой самоидентификации. Цитаты из произведений гения русской словесности «пронизывают» поэтические тексты таких авторов Серебряного века, как А. Блок, А. Ахматова, В. Маяковский, B. Брюсов, М. Цветаева, А. Белый. Его творчество утверждается как эталон гармонии и красоты в литературном искусстве. В.Н. Сузи, рассуждая о феномене пушкинского наследия и его влиянии на все последующее развитие русской литературы, справедливо заметила: «Пушкинский канон, пушкинский контекст – в чем они? Пожалуй, это самый трудноуловимый феномен русской литературы; и, тем не менее, они непреложны и несомненны: определение невозможно, а явленная тайна гармонии есть. … Он определяется апокрифически, “от противного” как неуловимая величина … через нарушение заданного им канона (но не разрушение его, ибо он нерушим), через его трансформацию» [206, c. 20].
Художники слова относились к пушкинскому наследию по-разному: каждый находил в его творческой вселенной что-то свое. Одних покоряла ясность и простота пушкинского слова, других привлекала гармоничность и изящество формы его произведений, третьи, подобно своему великому наставнику, со словом и поэтическим лексиконом экспериментировали. Изредка в литературной среде раздавались голоса, предлагавшие избавиться от пушкинской традиции и «бросить» кумира «с парохода современности» [26]. Однако, как образно и точно писал С. Клычков, этот «корабль» (под кораблем C. Клычков понимает культуру своего времени) попал в бурю, бушевавшую «в стакане воды» [116, с. 28]. Возгласы с призывом «бросить» Пушкина, несомненно, публику эпатировали, но реальных и значимых последствий не имели. В. Шаламов, русский прозаик и поэт, вспоминая двадцатые годы прошлого столетия, писал об этом любопытном явлении в культуре Серебряного века: «Тогда все ждали прихода Пушкина. Считалось, что освобожденная духовная энергия народа немедленно родит Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру на литературном горизонте» [32, c.78]. Пушкинский канон переживал в творчестве художников слова самые различные метаморфозы, но так и остался незыблемым. Каковы бы ни были философские воззрения и этико-эстетические предпочтения поэтов Серебряного века, Пушкин оставался для них эталонной мерой в художественных исканиях. Показательно в этом плане наличие немалого числа художественных произведений, посвященных гению русской словесности: «Пушкин» А. Ахматовой, «Юбилейное» В. Маяковского, «Стихи к Пушкину» М. Цветаевой, «Пушкинскому дому» А. Блока и др. Особый же интерес к тайнам творчества и к личности великого предшественника питали поэты-символисты, поскольку для большинства из них «Пушкин был поэтом “чистого искусства”» [121, c. 339]. Ярким примером отношения к Пушкину, как поэту «чистого искусства», был А. Белый. В статье «Апокалипсис русской поэзии», рассуждая об изменении облика музы русской поэзии, он категорично заявляет: «Поэт, не занятый разгадкой тайн пушкинского или лермонтовского творчества, не может нас глубоко взволновать» [59]. П.И. Медведев, один из редакторов журнала «Записки передвижного театра», в статье «Солнце в зените» (1922 г.) писал о значении пушкинского творчества для поколения авторов Серебряного века: «… нашему поколению пора не провидеть, а видеть эту чрезвычайность и единственность Пушкина, как “явления русского духа”. В этом смысле Пушкин был не дан, а задан русской культуре и, мне кажется, что осуществление Пушкинской заданности является самой острой проблемой культурного самоопределения именно нашего сегодня» [155, с. 2]. Поэты Серебряного Века считали себя хранителями пушкинского наследия и продолжателями его творческой традиции. Реализация мощного творческого потенциала, заложенного в пушкинских произведениях, становится приоритетом в поиске новых форм и содержания поэзии. Пушкин становится своеобразной «точкой отсчета» для тех, кто ищет утраченную гармонию Слова и для тех, кто со Словом смело экспериментирует. Определение Пушкина как бесспорно значимого и важного «явления русского духа», данное Медведевым, репрезентативно в плане рассмотрения пушкинского мифа, складывавшегося в начале ХХ века в русской поэзии. Как отмечает в исследовании «Пушкин в художественном сознании Есенина» С.Н. Пяткин, «Пушкинский миф в литературе “серебряного века”, о чем часто сегодня говорят, и был востребован как культурный “инструмент разрешения фундаментальных противоречий сознания, неразрешимых в рамках иных, не-мифических его форм”. Отсюда столь контрастная картина манифестаций пушкинского мифа: от “ничто” до “абсолютного поэта”» [186, с. 54]. Схожая мысль содержится в работе Л.П. Гроссмана «Блок и Пушкин». Рассуждая о творческом взаимодействии Блока с гением русской словесности, литературовед описывает этот период как время поклонения гению русской поэзии, как своеобразную эпоху Возрождения: «… возникший культ Пушкина не переставал расти и углубляться у нас. Молодость Блока прошла под этим знаком. В лице старших символистов – Брюсова и Вячеслава Иванова – этот культ утвердился. Рядом с поэтическим оживлением пушкинской традиции вырастала и новая “наука о Пушкине”. Целая полоса нашего художественного развития как бы завязывала на рубеже двух столетий прерванную нить с поэтическим преданием плеяды двадцатых годов. Русская культура снова начинала дышать и жить именем Пушкина» [232].
Клюевское и пушкинское понимание народности
Пушкинское понимание народности в искусстве оказало значительное влияние на формирование этико-эстетических принципов новокрестьянских поэтов, в том числе и на выработку оригинальной поэтической концепции Н.А. Клюевым. Категория народности является ключевым звеном для осмысления этических и литературных взглядов олонецкого поэта.
Идея народности искусства начала оформляться в европейской культуре в эпоху Просвещения и получила развитие в эпоху романтизма. Основы теории народности формировались в трудах Ж.-Ж. Руссо, Дж. Вико, В. Гумбольдта, И.Г. Гердера, А. Арнима и др. Проблема трактовки понятия народности и соотношения его с произведениями искусства, прежде всего словесного, неизменно возникала и в отечественной культурной среде с того момента, когда это понятие было впервые употреблено П.А. Вяземским (1819 г.) и введено в литературный обиход О.М. Сомовым (1823 г.). По замечанию исследователя А.С. Курилова, «проблема народности литературы встала перед нашими писателями, когда они, точно так же, как и их европейские собратья по перу, остро почувствовали необходимость вернуться к самобытному, самостоятельному творчеству, обратиться к национальным художественным традициям и источникам вдохновения» [241]. Для современников Пушкина решение вопроса о народности в литературе было значимым, поскольку представления о ней в науке и искусстве еще не устоялись. В условиях культурной эпохи, «когда вопросы народной поэзии встали перед всем культурным миром, когда создавалась впервые наука о фольклоре и когда вопрос о памятниках народной поэзии тесно сливался с проблемой национального самоопределения и исторического пути развития народа» [44, с. 153], проблемы определения «национальной самобытности» и «народности» закономерно выдвигались на первый план. По замечанию литературоведа Л.А. Фяна, «… ожесточенные споры между романтиками и классиками в литературе 20-х годов шли как раз вокруг народности» [214, с. 74]. Например, П.И. Вяземский, приверженец романтизма в литературе, анализируя свойства этой эстетической категории в работе «Вместо предисловия (к “Бахчисарайскому фонтану”). Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова», утверждает: «Она [народность. – О.К.] не в правилах, но в чувствах. Отпечаток народности, местности – вот что составляет, может быть, главное существеннейшее достоинство древних и утверждает их право на внимание потомства» [80, с. 49]. Журналист и критик О.М. Сомов в «опыте» «О романтической поэзии» (1823 г.), описывая различия между поэзией классицизма и романтизма, также касается вопроса о «чертах местных», проявляющихся в творчестве писателей той или иной страны: «Словесность народа есть говорящая картина его нравов, обычаев и образа жизни. В каждом Писателе, особливо в Стихотворце, как бы невольно пробиваются черты народные. Таким образом почти можно угадать сочинение Немца, Англичанина или Француза…» [200, с. 80]. Качествами, отличающими конкретную национальную поэзию «от Стихотворства других племен», Сомов считает «дух языка», «нравы, наклонности и обычаи народа», а также специфику местности и предметов, окружающих народ и по-особому влияющих на его «воображение» [200, c. 84–85]. Конечно же, не все литераторы первой трети XIX века оставили четкие формулировки свойств «народности». Так, А.А. Бестужев-Марлинский в критической статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года» называет такой признак народности в искусстве, как умение художника слова «писать прямо по-русски». Схожее мнение выражает В.К. Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824 г.), анализируя достижения современной ему литературы. Он утверждает, что «всего лучше иметь поэзию народную», т.е. поэзию, опирающуюся на опыт фольклорного творчества [20]. В той же статье Кюхельбекер перечисляет основы «истинно русской поэзии»: «Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные – лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности» [20, с. 314]. Однако он, так же, как Бестужев и Вяземский, не дает целостного определения понятия «народность».
Отсутствие ясного понимания феномена народности не могло не отразиться на состоянии литературного мира того времени. «… неясность в этом вопросе сказывалась и на эффективности критики, и на деятельности писателей. Одни, в борьбе за новое качество отечественной литературы, не имели надежного критерия, позволявшего находить и безошибочно выделять “черты народные” в произведениях. Другие были лишены четких творческих ориентиров, необходимых для приобретения нового художественного качества. В результате, все адресованные на этот счет писателям претензии и требования (кроме требования национального содержания и необходимости “изъясняться по-русски”) оказывались беспредметными, а жалобы на отсутствие в их произведениях народности – беспочвенными и бесполезными», – справедливо полагает А.С. Курилов в статье «Творчество Г.Р. Державина и начало формирования понятия о народности русской литературы» [241]. Еще А.С. Пушкин, всегда находившийся в центре литературной жизни своего времени, в работе «О народности в литературе» (1825–1926 гг.) обрисовал сложившуюся ситуацию следующим образом: «С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы – но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность. Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из Отечественной истории, другие видят народность в словах, т.е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения» [27, Т. 11, c. 40]. Для гения русской словесности проблема, связанная с определением сущности понятия «народность» в искусстве слова, была, несомненно, важна не только в аспекте борьбы романтиков и классицистов, но и в аспекте проблемы расширения поэтического лексикона: «В зрелой словесности, – пишет Пушкин, – приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному» [27, Т. 11, с. 73].
Пушкинский «Странник» в художественном сознании «Братских песен: Книга вторая»
Творческие искания Клюева всегда были тесно сплетены с его религиозными поисками, о чем не раз упоминали современники и исследователи его поэтического наследия. В полной мере эта особенность клюевского творчества нашла отражение во втором поэтическом сборнике олончанина «Братские песни: Книга вторая» (1912 г.). Особую, «религиозную направленность» этого сборника одним из первых отметил автор вступительной статьи к изданию В. Свенцицкий: «Даже наиболее идущее к нему (Клюеву. – О.К.) слово “религиозный” в наше время всяческих подделок и лжи, звучит безнадежно – бесцветно. … Здесь уже не только литература, не только “стихи” – здесь новое религиозное откровение. – Если хотите “поэзия”, – но в каком-то высшем смысле, когда поэт становится пророком» [4, c. 5–6]. Первоначально вторая книга стихов «олонецкого песнопевца» носила название «Братские песни. Песни голгофских христиан» и включала в себя лишь девять стихотворений. Затем она была переиздана под названием «Братские песни. Книга вторая». Это издание включало в себя уже тридцать два произведения и было сопровождено авторским предисловием и вступительной статьей В. Свенцицкого. Именно во второй редакции сборника «Братских песен» проявляется в полную силу особый пафос поэзии Клюева, который современники характеризовали как «подлинно религиозный» (В. Брюсов, Н. Гумилев), «голгофский», «пророческий» и «искупительный» (В. Свенцицкий). Поэтическое «пророчествование» Клюева восходит к многовековой культурной традиции русской словесности, характеризующейся, по замечанию писателя и философа Б. Вахтина, тем, что «русская литература … не знает никакого душевного мира и … неугомонно, с горящими глазами, на разные голоса пророчествует» [74, c. 5]. В статье «Человеческое вещество?» (1986 г.), опубликованной в парижском журнале «Эхо», Б. Вахтин утверждает, что сущность поэтического дара зачастую осмысляется русскими писателями как категория духовная и религиозная: «…в писательской профессии есть поневоленность автора, подневольность его. Эта высшая сила вызывает у пишущего иногда физическое ощущение, будто кто-то или что-то водит его рукой» [74, c. 5]. Клюев также определяет природу «песнотворческого» таланта как Божественный дар, что коррелирует с пушкинским пониманием природы поэтического творчества. В понимании Клюева поэт – это, в первую очередь, посланник Бога на земле, призванный нести божественное слово и спасение людскому роду, и уже затем певец прекрасного. Концепция поэта-пророка Клюева является не только отражением его взглядов на природу искусства и писательского творчества, но и своеобразной квинтэссенцией его воззрений на поэзию как способ взаимодействия с внешним миром, способ самопознания, отражение глубинной связи поэта с Богом. В этом аспекте для олонецкого песнопевца важно и осмысление предназначения поэта-тайновидца, и осмысление «спасенья верного пути».
Мотив поиска пути к спасению в раннем творчестве Клюева является одним из доминирующих и, несомненно, восходит к пушкинской традиции. Наиболее репрезентативно это проявляется при анализе и сопоставлении текстов сборника «Братские песни: Книга вторая» и пушкинского стихотворения «Странник». Родство пушкинского и клюевских произведений прослеживаются и на сюжетно-композиционном, и на лексическом, и на смысловом уровнях текста. Пушкинский «Странник» в свете истории своего создания некоторыми исследователями (А.А. Долинин [93], Г.В. Косяков [124]) воспринимается как отрывок или стихотворный перевод англоязычного первоисточника, поскольку является переложением одного из фрагментов аллегорической повести Джона Беньяна «The Pilgrim s Progress from this World to that wich is to come» (1678 г.). Эта традиция восприятия «Странника», как неоконченного произведения, восходит еще к Жуковскому, что отмечает Д.Д. Благой в работе «Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой»: «…Жуковский, впервые опубликовав его “Странника” в посмертном издании сочинений Пушкина, взамен пушкинского названия озаглавил его “Отрывок”» [63]. В той же статье Д.Д. Благой утверждает, что Пушкин создает стихотворное переложение небольшого фрагмента по прозаической повести Джона Беньяна, поскольку поэт «свое внимание … сосредоточивает только на наиболее остром психологическом моменте повести – тягчайшем внутреннем кризисе … , побуждающем человека полностью отречься от всей своей прежней жизни, порвать со всеми и со всем, страстно возжаждать нового, спасительного пути и, наконец, решительно стать на него» [63]. Сборник Клюева выстроен по тому же принципу, что и пушкинский текст: поэт воспроизводит состояния наивысшего духовного подъема или глубокого кризиса лирического героя, сопровождающие его духовные поиски. «”Братские песни” устремлены от этого мира, где “Смерти плен железный”, к тому, кто поможет “порвать навсегда” этот плен, вывести в свет преображения», – отмечает исследователь С.Г. Семенова в статье «Поэт “поддонной” России (религиозно-философские мотивы творчества Николая Клюева)» [190]. Стихотворения расположены в сборнике таким образом, что представляют собой своеобразные вехи на пути духовного странствия лирического героя. Во многом эти этапы идентичны тем, что проходит в своем духовном развитии пушкинский странник. Например, причина, по которой лирические герои Пушкина и Клюева начинают странствие, кроется в тяжелейшем духовном кризисе, вызванном сильным внезапным ощущением «великой скорби». Эмоционально психологические состояния будущих странников схожи. Сравним: Пушкин Клюев Недоуменно смущена, Пред духом мрака и насилья Однажды, странствуя среди долины Душа смежает робко крылья, дикой, Незапно был объят я скорбию великой, И тяжким бременем подавлен и согбен [27, Т. 3, с. 391]. Мятется трепетно она [4, с. 43]. («Не жди зари, она погасла…», Клюев «Не жди зари, она погасла … »… Могильный демон шепчет мне. ... И демон сумрака кровавый, Трубит победу в смерти рог [4, с. 43]. («Не жди зари, она погасла…», 1910 г.) 1910 г.) Обратим внимание, что лирический герой Пушкина не сразу определяет истоки своей мучительной тоски, в то время как клюевскому «духовному труженику» причина такого состояния не составляет загадки: Пушкин … ведайте: моя душа полна Тоской и ужасом … Наш город пламени и ветрам обречен; ... И мы погибнем все, коль не успеем вскоре Обресть убежище; а где? о горе, горе! [27, Т. 3, с. 391-392] Несмотря на то, что обоих героев объединяет чувство «великой скорби», истоки этого состояния различны. Душа клюевского героя погружена в сумрак тоски и уныния, поскольку «смущена» речами «могильного демона», ее страшит окончательная победа Смерти над Жизнью. Пушкинский странник поначалу также охвачен ужасом перед грядущей гибелью, но затем приходит к пониманию, что пугает его не столько смерть сама по себе, но загробный суд, на который будет призвана его душа. Переживания лирического героя усугубляются осознанием того, что он не готов предстать перед судом Всевышнего: … скорбь час от часу меня стесняла боле; ... Пошел я вновь бродить — уныньем изнывая И взоры вкруг себя со страхом обращая, Как узник, из тюрьмы замысливший побег, Иль путник, до дождя спешащий на ночлег [27, Т. 3, с. 392]. Странник Пушкина не находит выхода из сложившейся ситуации, и ощущение грядущей всеобщей катастрофы не покидает его. В довершение всех своих несчастий он не находит поддержки и успокоения у своих близких, которые объясняют его подавленное состояние душевным нездоровьем: «Мои домашние в смущение пришли / И здравый ум во мне расстроенным почли» [27, Т. 3, с. 392]. Страдания странника настолько велики, что он впадает в тяжкий грех уныния. Герой Клюева, несмотря на духовный кризис, все же не теряет надежды на конечное торжество Божественной воли: его стихи наполнены светом веры в спасительный исход: Пока же камень не отвален, И стража тело стережет, Душа безмолвие развалин Чертога брачного поет [4, c. 44]. («Не жди зари, она погасла…», 1910 г.) В отличие от пушкинского героя, которому только предстоит осознать необходимость воссоединения с Богом, герой Клюева, не утративший веры в непременное исполнение воли Всевышнего, предчувствует появление некоего знака, который укажет ему путь дальнейших странствий в поисках «спасенья верного пути», поскольку ему известно, что «рассвета луч не обагрянит / Вино в бокалах круговых, / Пока из мертвых не восстанет / Гробнице преданный Жених» («Не жди зари, она погасла…», 1910 г.) [4, c. 44].
Пушкинский образно-поэтический слой в «Песне о Великой Матери» и «Каине»
За поэмой «Песнь о Великой Матери» (1929–1934 гг.) еще в 80-е годы XX века в среде научной общественности прочно закрепился статус «вершинного» произведения Н.А. Клюева. По-видимому, на этом основании некоторые исследователи творчества «олонецкого песнописца» провели аналогии и объявили это произведение «литературным завещанием» поэта. В отличие от поэм, созданных Клюевым ранее, «Песнь о Великой Матери» – это, бесспорно, произведение, относящееся к периоду расцвета творческого дара поэта, для которого особенно характерна идентификация Клюевым себя как русского поэта, осознание и оценка своего вклада в историю отечественного искусства слова. На этом основании речь необходимо вести об отразившихся в поэме особенностях развития поэтического сознания Клюева в аспекте нового этапа творчества поэта. Только с учетом этой специфики изменений творческого сознания поэта получает этико-эстетическую мотивацию тот факт, что «Песнь о Великой Матери» и все последующие поэмы Клюева до предела насыщены разнообразными интертекстуальными связями с произведениями как современников, так и предшественников поэта. Круг последних не мыслится Клюевым без имени Пушкина, чье богатейшее литературное наследие на многие годы вперед определило развитие отечественной словесности.
Обращение олонецкого поэта к богатейшему наследию пушкинского творчества обнаруживается при сопоставлении отдельных фрагментов «Песни о Великой Матери» с текстом романа в стихах «Евгений Онегин».
Обратимся к двум эпизодам клюевской поэмы: к фрагменту побега Прасковьи из дома и ее блужданию по лесу и к фрагменту поездки героини в Лебединый скит, которые во многих деталях обнаруживают интертекстуальные связи с пушкинским текстом «Евгения Онегина», соответственно с вещим сном Татьяны и ее путешествием в Москву. Клюев Кругом места глухие Страшат беглянку дебри Присесть бы… Пар от плата И снег залез в коты Как цепки буреломы!.. Скитания клюевской героини Прасковьи в лесных дебрях деталями описания напоминают читателю дурной сон. Как и пушкинская Татьяна, Прасковья в тщетных попытках убежать от «косматого лакея» и выбраться из чащи выбивается из сил. Лес вокруг нее враждебен, мрачен и таит в себе неведомую опасность. Сравним описание сцен у Пушкина и Клюева: Пушкин … недвижны сосны В своей нахмуренной красе; … сквозь вершины Сияет луч светил ночных; Дороги нет … Татьяна в лес; медведь за нею; Снег рыхлый по колено ей; То длинный сук ее за шею Зацепит вдруг, то из ушей Златые серьги вырвет силой … И сил уже бежать ей нет [27, T. 6, c. 103]. Ай, увязают ноги!..[15, c. 743]. В отличие от пушкинской Татьяны, которая стремится избавиться от своего лесного провожатого, клюевская Прасковья по собственной воле попадает в медвежью берлогу. Клюев Ай, на хвосте у белки Медвежьи посиделки Параше суждены! ... Храпит лесной чернец. Ай, лапа на шубейке ... Потемки гуще дегтя, Лежат, как гребень, когти В сочинении Клюева, как и у Пушкина, образ медведя в сюжетном повествовании играет одну из ключевых ролей. Символическое значение этого образа – дух-хранитель лесной чащи, тотем, соединяющий в себе и покровительство, и агрессию по отношению к человеку [229]. Сопоставим описания «косматого хозяина леса» у Пушкина и у Клюева: Пушкин Но вдруг сугроб зашевелился. И кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь; Татьяна ах! А он реветь, И лапу с острыми когтями Ей протянул; она скрепясь Дрожащей ручкой оперлась И боязливыми шагами Перебралась через ручей [27, T. 6, c. 102]. На девичьих сосцах [15, c. 744]. В сопоставляемых фрагментах произведений медведь в одно и то же время оказывает покровительство героиням и устрашает их. При всем своем грозном виде он помогает пушкинской Татьяне перебраться через ручей и доставляет ее к порогу лесной хижины, в которой пирует нечисть. В поэме Клюева Параша сама незваной приходит на «посиделки» в берлогу медведя, который настроен явно враждебно по отношению к ней и способен причинить девушке вред, что сильно пугает героиню. Для клюевской Прасковьи медведь – скорее враг, чем хранитель и помощник, каким читатель его видит в романе Пушкина: Клюев Но что за марь прогалом, Ужели в срубце малом Спасается бегун? Скорей к нему в избушку, За нищую пирушку, Где кот - лесной баюн! Ай, на хвосте у белки Медвежьи посиделки Параше суждены! В шубейке, легким комом, Пушкин … медведь проворно Ее хватает и несет; … Он мчит ее лесной дорогой; Вдруг меж дерев шалаш убогой … Медведь промолвил: «Здесь мой кум: Погрейся у него немножко!» И в сени прямо он идет, И на порог ее кладет [27, T. 6, c. 103– 104]. Лежать под буреломом До ангельской весны! [15, c. 743–744].
Как и в пушкинском сочинении, встреча с медведем и пребывание в лесном «шалаше» сулят любимой героине Клюева несчастья: подобно Татьяне, сон которой предрек ей разлуку-разрыв с Евгением, Параскеве также суждено потерять своего возлюбленного Федора, который, пытаясь спасти девушку из лап медведя, погибает сам. Обратимся теперь к сравнению описаний путешествия Татьяны в Москву и посещения Прасковьей скита. Образно-композиционное сходство этих двух сцен – характерная примета этико-эстетической ориентации Клюева на восприятие пушкинской традиции. Клюев Слагали короб понемногу Обоим описаниям поездок любимых авторами героинь предшествуют запоминающиеся сцены «сборов» девушек в дорогу, воспроизводящие картины совершаемых необходимых приготовлений для путешествий. Сопоставим их: Пушкин Обоз обычный, три кибитки Везут домашние пожитки, Кастрюльки, стулья, сундуки, Варенье в банках, тюфяки, Перины, клетки с петухами, Горшки, тазы et cetera, Ну, много всякого добра [27, T. 6, c. 152]. … Шесть сарафанов с лентой гнутой, Расшитой золотом в Горицах, Шугай бухарский – пава птица – По сборкам кованый галун Да плат - атласный Гамаюн … Сорочек пласт, в них гуси спят, Что первопуток серебрят. К ним утиральников стопой ... Опосле с селезня подушки, Афонский ладан в уголках – Пугать лукавого в потьмах. Все мать поклала в коробью, Как осетровый лов в ладью [15, c. 716– 717]. В сравнении с текстом «Евгения Онегина» клюевское описание более подробное, развернутое. Автор любуется каждой вещью, каждой искусно выполненной деталью строгого обряда «сборов» своей героини. Внимательно-трогательное отношение к описываемым предметам, искреннее любование их красотой лишает клюевский текст той иронии, которая присутствует в аналогичной пушкинской сцене. К тому же, перечисляемые названия предметов в романе Пушкина куда более «прозаичны», нежели в поэме Клюева. «Кастрюльки, стулья, сундуки» из пушкинской сцены – обыденные хозяйственные принадлежности, лишенные какого бы то ни было изящества и совершенно непривлекательные для авторского взора. Клюев, наоборот, делает акцент на описании предметов одежды, каждый из которых в своей красоте соотнесен поэтом с произведением искусства. Обращает на себя внимание и тот факт, что некоторые из упоминаемых Клюевым необходимых для путешествия вещей, являясь своего рода оберегами в пути, несут особый тайный смысл: «К ним утиральников стопой, / Чтоб не утерлася чужой, / Не перешла б краса к дурнушке … / Афонский ладан в уголках – / Пугать лукавого в потьмах … / А цельбоносную икону / По стародавнему канону / Себе повесила на грудь, / Чтоб пухом расстилался путь» [15, c. 717]. После описания приготовлений к путешествию и у Пушкина, и у Клюева следует сцена, воспроизводящая обряд прощания «путешественников» с домочадцами. В эпизоде поэмы Клюева пушкинское влияние отчетливо прослеживается на уровне ритмико-синтаксической организации стиха: Пушкин Клюев И вот в избе между слугами Простились с теткой вековушей, Поднялся шум, прощальный плач: Со скотьей бабой и Феклушей, Ведут на двор осьмнадцать кляч, Им на две круглые недели В возок боярский их впрягают, Хозяйство соблюдать велели. Готовят завтрак повара, И под раскаты бубенца Горой кибитки нагружают, Сошли с переного крыльца [15, c. 717]. Бранятся бабы, кучера … Сбежалась челядь у ворот Прощаться с барами. И вот Уселись, и возок почтенный, Скользя, ползет за ворота [27, T. 6, c. 152–153]. Родство клюевского текста пушкинскому проявляется через использование идентичных ритмических схем – четырехстопного ямба, а также через использование однотипных синтаксических конструкций. Пушкинский текст «Евгения Онегина» динамичен, образы сменяют друг друга довольно быстро, что передает ощущение суеты, суматохи перед отъездом. Описываемые события со стороны выглядят отчасти даже забавно. Клюев же, напротив, изображает спокойную сцену, лишенную комичных бытовых подробностей. Исследователь В. Бараков в книге «Слово в вечности (о поэтах и поэзии)», комментируя эту сцену из поэмы Клюева, совершенно справедливо заметил, что «бытовые подробности здесь замечательны. Так, Прасковья поехала налегке и взяла с собой... шесть сарафанов, огромный платок, шубу, целый пласт сорочек и стопку полотенец. … Ждет ее дорога – ни много ни мало – длиною в 90 верст, от Соловецкого погоста до Лебединого скита. Параша без особого страха совершает это путешествие, и вот она уже в гостях» [52, c. 5].
За сценой прощания и в поэме Клюева «Песнь о Великой Матери», и в романе Пушкина «Евгений Онегин» следует авторское отступление от сюжетной канвы повествования, посвященное теме дороги, путешествия. В пушкинском отступлении, пронизанном иронией автора, внимание обращено на состояние российских дорог («Теперь у нас дороги плохи, / На станциях клопы да блохи / Заснуть минуты не дают; / Трактиров нет… [27, T. 6, c. 153]). Текст же клюевского сюжетного отступления, посвящен детальному описанию популярного и прославленного (в том числе и в творчестве Пушкина) средства передвижения путника: объектом авторского любования на этот раз становится искусно украшенная кибитка («Кибитка слажена на славу! / Исподом выведены травы / По домотканому сукну, / В ней сделать сотню не одну / И верст, и перегонов можно. / От вьюги синей подорожной / У ней заслон и напередник, / Для ротозеев хитрый медник / Рассыпал искры по бокам» [15, c. 717]).