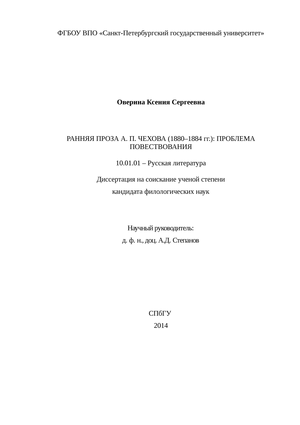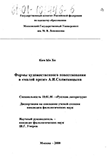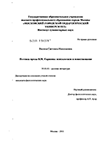Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. А.П. Чехов и «малая пресса»: повествование, коммуникация, читатель .15
Глава 2. Рассказы А.П. Чехова 1880 – 1884 годов: повествование, жанр, рецептивная структура 48
2.1. Реализация литературной темы: чеховский «маленький человек» 48
Герой и слово. Рассказ «Корреспондент» (1882) .54 Герой говорит. («Письмо к ученому соседу», «В вагоне») .63
2.2. Жанровые трансформации в ранних рассказах Чехова 69
2.2.1 Повествование в пародийных текстах Чехова 1880 – 1884 годов .70
2.2.2. Уголовные рассказы в раннем творчестве Чехова .83
2.2.3. Мелодрама и мелодраматизм в ранней прозе Чехова 101 Мелодраматизм как теоретическая проблема 101
Функционирование мелодраматических элементов в рассказах Чехова 1880–1884 годов 106
2.2.4 Ранние чеховские рассказы в контексте календарной прозы 117
Святочный рассказ в раннем творчестве Чехова. 117
Охотничий рассказ в раннем творчестве Чехова. 131
Глава 3. «Большие формы» в раннем творчестве А.П. Чехова 151
3.1. Проблема жанра и повествовательной структуры в повести «Цветы запоздалые» (1882) .152
3.2. Повествование, композиция и жанровые трансформации в повести «Драма на охоте» (1884) .162
«Драма на охоте» как уголовный роман: повесть Чехова в контексте русской массовой литературы XIX века 162
Рамочная композиция 168
Анализ вставной повести 170
Анализ обрамляющей истории .184
Характер событийности в «Драме на охоте».. 192
Рецептивный аспект повести: «Драма на охоте» как иллюзия изображенной рецепции. 196
Конвенциональная документальность и ее преодоление в художественном мире «Драмы на охоте».. 204
Воздействие на читателя: вопрос о формировании читательского восприятия в повести «Драма на охоте» 207
3.3. «Зеленая коса» и «Драма на охоте» А.П. Чехова: особенности композиции и повествовательной структуры .216
Заключение 228
Список использованной литературы
- Жанровые трансформации в ранних рассказах Чехова
- Функционирование мелодраматических элементов в рассказах Чехова 1880–1884 годов
- Повествование, композиция и жанровые трансформации в повести «Драма на охоте»
- Конвенциональная документальность и ее преодоление в художественном мире «Драмы на охоте»..
Жанровые трансформации в ранних рассказах Чехова
Вопрос об особенностях повествования в ранних текстах А.П. Чехова охватывает достаточно широкий спектр теоретических и историко-литературных проблем. Сложность ситуации заключается в необычном положении писателя, чьи произведения сыграли серьезную роль в развитии как классической, так и массовой русской литературы. Успех в разных областях художественной словесности привел к тому, что образ писателя словно бы раздвоился: Антоша Чехонте и Антон Чехов представляются как бы разными авторами, обладающими различными писательскими техниками, литературными ориентирами и целями. Таким образом, творческая история Чехова осмысляется как эволюция не только в смысле развития художественной системы писателя, но и как сознательный отказ от «несерьезного» занятия в пользу «настоящей» литературы. Рубеж, разграничивающий два периода творчества писателя, привлекает большое внимание исследователей. Так, А.П. Чудаков описывает его через перелом повествовательной системы молодого автора36. Немецкий ученый М. Фрайзе предлагает еще одну классификацию текстов Чехова, которая затрагивает проблему смыслообразования:
Самые ранние тексты Чехова не претендуют на глубокий смысл и не подвергаются писателем анализу и дальнейшей переработке … далеко не все ранние рассказы годились для такой переработки. Среди истинных произведений искусства в раннем творчестве Чехова есть «произведения» наподобие счетов или списка покупок, подписанных «рукой мастера». Только после письма Д.В. Григоровича Чехов осознал разницу между подлинно художественными текстами и «литературными поделками», и потому их сосуществованию в его творчестве был положен конец. В диахронии творчества Чехова такие «литературные поделки», написанные им до письма Григоровича, не играют роли.
Так или иначе, но наличие генетической связи между двумя периодами творчества писателя приходится обосновывать38 либо избирать особый (не хронологический) принцип анализа чеховских текстов, позволяющий представить поэтику автора во всем разнообразии ее характеристик39. И если вторая часть литературного наследия автора («зрелый Чехов») смогла обрести устойчивый репертуар интерпретаций, то единого мнения о том, что же представляет собой поэтика Антоши Чехонте, у исследователей не сложилось. Ранние тексты рассматриваются, например, как путь писателя к большой литературе, включающий в себя поиск собственной манеры, художественной формы40, или как произведения с особой новаторской структурой, которая четко отделяет рассказы Чехова от того, что создавалось другими авторами «малой прессы»41.
Сложность заключается в том, что статус и облик массовой литературы рубежа веков представляются не слишком ясными. Только в последние десятилетия XIX века в России формируется то, что можно назвать популярной литературой, – и связано это, безусловно, с ростом числа читателей, то есть с распространением грамотности42. Развитие изданий, ориентированных на новую аудиторию, происходит очень быстро, а формирование репертуара «малой прессы», выработка новых популярных «канонов» или литературных формул
1880-х – начала 1890-х годов (И.И. Ясинский, В.И. Бибиков). Автореф. дисс. … канд. филол. наук. СПб., 1992. 16 с. требует определенного времени, в результате чего последние оказываются достаточно расплывчатыми43. Примером может послужить популярный в России жанр уголовного романа: в отличие от западного детектива, распространившегося в мировой литературе, он так и не обрел устойчивой жанровой схемы. Произведения этого типа объединяло одно – в них так или иначе фигурировало преступление, все остальное зависело от фантазии авторов, которые выбирали самые причудливые сюжетные схемы, вводили или не вводили в повествование фигуру сыщика, смешивали жанр уголовного романа с мелодрамой и т.д.
Повествовательная структура таких текстов формировалась под воздействием особого рода отношений между авторами и читателями. А.И. Роскин указывает на «презрение Антоши Чехонте к читателю юмористических журналов… презрение, которое не искажало, а охраняло чеховский талант. А это презрение Чехов почувствовал, едва начавши печататься»44. Однако дело, скорее всего, было вовсе не в стремлении автора раскрыть «читателю картины его собственной жизни, освещенной не высказанным напрямую, но как бы растворенным в самой атмосфере повествования требованием изменить ее»45. Взаимодействие Чехова с его аудиторией было куда более сложным и обусловливалось, как представляется, законами функционирования популярной литературы.
В отличие от высокой литературы, где образ писателя-творца всегда резко противопоставлен аудитории (крайний случай – романтический топос «поэт и толпа») или, как минимум, отделен от нее, в русской массовой литературе конца XIX века граница между ними оказывается проницаемой. Вчерашний читатель мог стать сотрудником газеты, для этого нужно было всего лишь отправить свой текст в редакцию, и если он нравился издателям, то появлялся в печати46. Как
Реальному читателю, который решил стать «автором», не обязательно было даже создавать художественное произведение: документальное повествование тоже пользовалась большим успехом у публики.
Последнее обстоятельство имеет особое значение: в русской массовой литературе этого периода зачастую не было четкого различия между фикциональным текстом и документалистикой. Писатели и читатели, безусловно, понимали разницу между вымыслом и реальностью, однако данная оппозиция снималась единой авторской интенцией, направленной на увлечение и развлечение читателя. Так, реальные факты, взятые из газетной хроники, становились деталями художественных текстов и, вполне вероятно, могли быть опознаны в их структуре читателем48. Многие «мелочишки» имитировали всевозможные газетные обзоры – достаточное количество таких примеров можно найти у Чехова49. Фикциональные и документальные тексты отражали одни и те же проблемы современности, не забывая при этом адресоваться к литературной традиции, в результате чего появлялись интересные варианты давно известных сюжетов. Например, во втором номере «Будильника» за 1880 год автор, скрывшийся под псевдонимом Воля, предваряет свой обзор казанских новостей пространным рассуждением о нелегкой судьбе провинциального корреспондента:
Функционирование мелодраматических элементов в рассказах Чехова 1880–1884 годов
Одной из тем, подхваченных «малой прессой» у классиков первой половины XIX века, становится тема маленького человека, или бедного чиновника. По закону литературной эволюции к 1880-м годам этот сюжет уходит из литературного центра на периферию и активно тиражируется беллетристами. Об этом свидетельствуют слова самого Чехова, который в 1886 году писал брату: «Брось ты, сделай милость, своих угнетенных коллежских регистраторов! Неужели ты нюхом не чуешь, что эта тема уже отжила и нагоняет зевоту? … Реальнее теперь изображать коллежских регистраторов, не дающих жить их превосходительствам» (П.; 1; 176–177). Можно сказать, что тема, разработанная Пушкиным, Гоголем и Достоевским, в чеховское время превращается в формулу, устойчивую схему, которую авторы подают читателю в разных вариациях. Так, А. П. Кузичева отмечает, что во второй половине XIX века «в положении “униженного и оскорбленного” оказываются чиновники, учителя, музыканты, учащиеся и преподаватели духовных учреждений и т.д.»99.
Среди рассказов, написанных Чеховым в период с 1880 по 1884 год, можно выделить ряд текстов, так или иначе затрагивающих тему маленького человека: «Пережитое», «Двое в одном», «На гвозде», «Корреспондент», «Торжество победителя», «Рассказ, которому трудно подобрать название», «Лист», «Кот», «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало», «Смерть чиновника», «Сущая правда», «Альбом», «Либерал (новогодний рассказ)», «Винт».
Во время сотрудничества в «малой прессе» тема маленького человека у Чехова подавалась в юмористическом ключе. Писатель высмеивал страх
Кузичева А.П. Кто он, «маленький человек»? (Опыт чтения русской классики) // Художественные проблемы русской культуры второй половины XIX века . М., 1994. С. 61–114. чиновников перед начальством, их подобострастие и двуличие100. При этом он все время подавал ее по-разному, предлагая читателю все новые и новые углы зрения. Между перечисленными рассказами устанавливаются разнообразные связи. Так, среди них можно выделить группу текстов со сходным сюжетом: чиновники наносят начальству визиты в праздничные дни, чтобы выразить свое уважение, записавшись в оставленный в прихожей лист. Сюда относятся рассказы «Пережитое» (1883), «Лист» (1883), «Либерал» (1884). В первом и втором заметны прямые переклички и отсылки к одним и тем же «общим местам». Например, персонаж «Пережитого» угрожает рассказчику «погибелью»: – Хочешь, я тебя погублю? – Каким образом? — спросил я. – А таким... Как меня пять лет тому назад фон Кляузен погубил... Хе-хе-хе. Очень просто... Возьму около твоей фамилии и поставлю закорючку. Росчерк сделаю. Хе-хе-хе. Твою подпись неуважительной сделаю. Хочешь? (1; 468).
В «Листе», написанном несколькими месяцами позже, повествователь словно бы напоминает читателям о ситуации из предыдущего рассказа:
Субъект вползает, подходит на цыпочках к столу, робко берет в дрожащую руку перо и выводит на сером листе свою негромкую фамилию. Выводит он долго, с чувством, с толком, точно чистописанию учится... Набирает чернил на перо чуть-чуть, немножечко, раз пять: капнуть боится. Сделай он кляксу и... всё погибло! (Был однажды такой случай... Впрочем, некогда...) (2; 111).
Однако теперь излишние старания служат чиновникам дурную службу. Начальник считает, что его обманули:
Яркими примерами рассказов, в которых Чехов высмеивает чиновников, пытающихся изо всех сил угодить начальству или «значительному лицу», являются тексты 1883 года «На гвозде», «Кот», «Смерть чиновника». Но, однако, что это значит? Пс! Тут, эээ... я не вижу ни одного знакомого почерка! Тут один чей-то почерк! Какой-то каллиграф писал! Наняли каллиграфа, тот и подписался за них! Хороши, нечего сказать! Трудно им было самим прийти и поздравить! А-ах! Что я им худого сделал? За что они меня так не уважают? (2; 111)
Практически исчезает или утрачивает свою функцию главный «антагонист» героев – «значительное лицо». В одной из частей рассматриваемого текста изображен постаревший начальник, так и не дождавшийся визитеров в праздничный день, и он вместе со швейцаром ставит в листе подписи воображаемых посетителей, чтобы его «старуха не смеялась» (2; 112) над ним. Этот грустный эпизод перекликается с рассказом «Раз в год» (1883), повествующем о старой княжне, которую никто не приезжает поздравить с именинами. Старый слуга уговаривает ее племянника приехать и поздравить тетку, пообещав ему за это последние пятьдесят рублей. Таким образом, завершающая и в чем-то забавная часть пасхального «Листа» соотносится с большой и очень важной для Чехова темой разобщенности людей, пренебрежения друг другом. Эта же проблема затронута в рассказе «Идиллия – увы и ах!» (1882), где родственные чувства и любовь оказываются ненастоящими и герои отказываются друг от друга, как только понимают, что их взаимоотношения не могут принести никакой выгоды. В этом смысле финал рассказа «Лист» оказывается двойственным: он соответствует заявленным теме и жанру, органично встраивается в ряд анекдотов, составляющих текст, однако не является в полной мере композиционным «пуантом» юморески. «Значительное лицо» здесь со временем превращается в «маленького человека», никем не замечаемого и никому не нужного.
Другая версия такого «превращения» представлена в рассказе «Пережитое», где роль власть имущего исполняет чиновник, грозящийся погубить сослуживца. А.Д. Степанов объясняет этот чеховский парадокс следующим образом: Писатель часто показывает, в то время как губернский секретарь Понимаев, иронически названный в заглавии раздвоенное сознание: человека одновременно униженного и стремящегося унизить. «Коллежский регистратор» задавлен не только своим начальником, но и сознанием собственной бездарности, и единственное утешение, которое ему доступно, – знать, что есть хоть кто-то хуже его101. Начало рассказа «Либерал» вроде бы предвещает противостояние «маленького человека» и «значительного лица», однако начальник оказывается человеком приветливым и доброжелательнымлибералом, показан не в самом выгодном свете. Один из эпизодов этого текста позволяет сопоставить его с рассказом «Торжество победителя» (1883). В «Либерале» Велелептов, начальник главного героя, просит его развлечь дам:
Это вот Везувиев, это Черносвинский... а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев, там машину представляет. Каков? Пш! пш! пш! Свистит этак, ногами топочет... Натурально так выходило... М-да... А ну-ка, изобрази! Представь-ка нам (2; 297).
В «Торжестве победителя» роль «значительного лица» исполняет бывший «маленький человек»102, который издевается над своими подчиненными, приказывая: «Трагедию представь!» (2; 70). Или: «Бегай вокруг стола и пой петушком!» (2; 71).
«Бедный чиновник» и «значительное лицо», таким образом, постоянно меняются местами. Чехов демонстрирует, что литературные «типы» начала XIX века в массовой литературе превратились в роли, или маски, за которыми трудно разглядеть живого человека. Надеть маску может кто угодно, что происходит, например, в рассказе «Баран и барышня» (1883): скучающий герой
Повествование, композиция и жанровые трансформации в повести «Драма на охоте»
Отдельным жанром, подвергавшимся в ранней прозе Чехова скорее развитию, чем трансформации, можно считать уголовную прозу. По замечанию В.П. Руднева, «массовая культура связана с национальным типом философской рефлексии»139, и, как следствие, каждая национальная литература разрабатывала собственную детективную формулу. Русская литература о преступниках, безусловно, обладает рядом отличительных черт. Однако, конечно, этот популярный жанр во многом опирался на западные образцы – произведения Э.
Габорио, «страшные» готические романы и т. д. Об этом свидетельствует, например, рефлексия молодого Чехова над детективной формулой, отразившаяся в пародии «Шведская спичка», где объектом иронии писателя становится не только детективный сюжет, но и страстные любители подобных романов. Так, помощник следователя Дюковский, старающийся походить на гениального сыщика, признается, что он – «человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио» (2; 216).
Массовый читатель в России конца XIX века, действительно, более чем благосклонно относился к произведениям, затрагивавшим тему преступления. Отличительной чертой таких текстов было их активное взаимодействие с газетной хроникой. Как отмечает А.И. Рейтблат,
…«задавая» целостный образ мира, газета как бы «уравнивала» различные жанры, и в этом плане можно сказать, что грань между литературными и нелитературными жанрами была стерта. С одной стороны, из современных событий выбирались и в сюжетно-очерковой форме описывались факты и случаи, связанные со скандалом, уголовной хроникой, зрелищами (прежде всего – театром), комическими происшествиями, что «беллетризировало» изложение. С другой стороны, беллетристика в газете была предельно документализирована, поскольку преобладали такие жанры, как романы «из быта» и сенсационные романы, написанные на основе реальных событий…140
Повествуя о вымышленных нарушениях закона, авторы маскировали свой текст под документальный и порой даже заимствовали некоторые детали из газетных репортажей. Возможно, за счет этого писатели старались повысить статус своих произведений, словно бы приравнивая эти тексты к отчетам о действительных происшествиях (хотя нередко рассказы о преступлениях и впрямь имели под собой реальную основу)141. Следует отметить, что как таковой формулы детектива в России XIX века в отличие от западных стран не сложилось. Как отмечает А.И. Рейтблат, «термин “уголовный роман” охватывал все произведения (в том числе и исторические), где речь шла о преступлениях, независимо от характера конфликтов и типов персонажей»142. При этом условная «правдивость» текстов соединялась с максимальной эффектностью и мелодраматичностью сюжета. Как и в случае с другими популярными жанрами, писатели главным образом стремились оказать как можно большее воздействие на читателя, и сюжет о разгадывании тайны нередко уходил на второй план. Большое внимание авторы уделяли фигуре преступника, его раскаянию или отказу от такового, исповеди.
Джефри Брукс считает, что преступники в русской литературе воплощали свободную жизнь, восстание против общественных запретов, однако, чтобы выжить, им было необходимо вернуться в общество, признав и искупив свою вину перед ним:
Массовая литература являет собой переживание читателем «грез наяву» (daydreams), но в русской литературе этот процесс происходит по правилам, отличным от существующих в популярной литературе Франции, Англии или Америки. Криминальная литература позднего имперского периода выражала строгие запреты на проявление личной инициативы и бунтарских настроений. По представлениям авторов лубочной литературы и газетных фельетонов, свобода личности была ограничена уверенностью в том, что политическая власть и существующий общественный строй являются для нее непобедимыми силами. Свобода нарушает установленный общественным строем порядок, но эта свобода обречена. Сильных личностей такая свобода привлекала, но, чтобы выжить, им приходилось возвращаться к обществу143.
В России герой-преступник не был благородным разбойником, похожим на Робин Гуда, он боролся с установленными порядками не для облегчения жизни других, но для достижения личной выгоды. Часто такие герои совершали преступления не только по отношению к власти, но и по отношению к невинным
Вероятно, симпатию публики к таким персонажам можно объяснить тем, что в социальной иерархии они стояли на той же ступени, что и их читатели (или даже ниже), и воспринимающий мог легко отождествиться с таким персонажем, тем более что, какие бы преступления этот герой ни совершал, он позиционировался именно как сильная личность, смело и обреченно выступающая против существующего порядка144. Как пишет Дж.Г. Кавелти, …формульная литература создает другую модель идентификации. В ее цели входит не заставить меня осознать собственные мотивации и опыт, которые мне хотелось бы игнорировать, а позволить уйти от себя, создав собственный идеализированный образ. Поэтому главные герои формульной литературы бывают, как правило, лучше и удачливее, чем мы сами145.
Русские сюжеты о преступниках обычно заканчивались торжеством закона, но покаяние преступника, безусловно, рассматривалось как позитивный момент, как возвращение от хаоса к порядку. Это особенно интересно, если учитывать, что хаос и порядок в этом случае не выстраиваются в оппозицию, потому что и то, и другое имеет как позитивный, так и негативный оттенок. Симпатия по отношению к раскаивающемуся или наказываемому герою-нарушителю в этом случае является симпатией не к нарушению или к порядку как таковым, но к возможности преодолеть дурную бесконечность того или другого абсолюта, что, кроме всего прочего, сочетается с выработанным житийной традицией сочувствием к кающемуся грешнику.
Конвенциональная документальность и ее преодоление в художественном мире «Драмы на охоте»..
Таким образом, комический эффект в чеховском рассказе оказывается обусловлен нарушением ожидания не столько героя, сколько читателя. Ситуация qui pro quo здесь применима практически ко всем уровням текста. Мелодраматическая ситуация любовного объяснения оборачивается идеологической дискуссией, повествователь оказывается «автором», а сам текст травестирует классический сюжет «Горя от ума».
Говоря о литературных реминисценциях в мелодраматической прозе Чехова, нельзя не затронуть тему Достоевского. Отсылки к мелодраматическим эпизодам из его произведений нередко появляются в текстах Антоши Чехонте, и они, безусловно, узнаваемы для читателя. Как мы уже писали, в рассказе «Братец» (1883) в травестированном виде представлен диалог Раскольникова с Дуней о ее замужестве. Другой рассказ – «Слова, слова и слова» (1883) – является очевидной аллюзией на «Записки из подполья» и романы о спасении падших женщин. Эти произведения предстают как фон, героиня сама понимает, что сложившаяся ситуация напоминает сцену из прочитанной когда-то книги:
И Катя вдруг остановилась говорить. Сквозь ее мозг молнией пробежал один маленький роман, который она читала когда-то, где-то... Герой этого романа ведет к себе падшую и, наговорив ей с три короба, обращает ее на путь истины, обратив же, делает ее своей подругой... Катя задумалась. Не герой ли подобного романа этот белокурый Груздев? Что-то похоже... Даже очень похоже (2; 115).
Резкое отличие литературы от жизни, слова и дела, пожалуй, является основной темой этого далеко не смешного рассказа. Однако именно в сравнении с соответствующим эпизодом «Записок из подполья» эта тема раскрывается наиболее полно. Несмотря на сюжетные несовпадения (истории падения героинь неодинаковы), чеховский текст проникнут атмосферой, характерной для произведений Достоевского. Это заметно даже на уровне хронотопа. У Достоевского:
Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него … Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук и там таял; я не закрывался: ведь уж и без того все было потеряно! (Достоевский 5; 151). У Чехова:
На дворе был один из самых скверных мартовских вечеров. Тусклые фонарные огни едва освещали грязный, разжиженный снег. Всё было мокро, грязно, серо... Ветер напевал тихо, робко, точно боялся, чтобы ему не запретили петь. Слышалось шлепанье по грязи... Тошнило природу! (2; 113)
Описания отличаются друг от друга (так, в одном говорится о метели, в другом – о слабом ветре), но них присутствуют и очевидные сходства. Чехов фокусирует внимание на тех же деталях, что и Достоевский: грязь, снег, ветер, тусклые фонари178. Ощущение тошноты, приписываемое Чеховым природе, в тексте Достоевского принадлежит героям («Это так означало: отвяжись, тошно. Мы замолчали. Бог знает почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее» – Достоевский 5; 153).
Обостренные ощущения персонажей Достоевского, их реакции на свет и резкие звуки также в несколько измененной форме находят свое отражение в чеховском рассказе. Достоевский: Можно сравнить роль снежного пейзажа в этих текстах с его функцией в чеховском рассказе «Припадок» (1889).
Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, – захрипели часы. После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон, – точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два (Достоевский 5; 152).
Чехов: «Катя сделала большие глаза, побледнела и вдруг взвизгнула. В соседнем номере кто-то уронил что-то: испугался, должно быть. Мелкий, истерический плач понесся сквозь все тонкие номерные перегородки» (2; 114).
Оба героя пытаются наставить падшую женщину на путь истинный. Герой «Записок из подполья» восклицает: «Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша; могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть...» (Достоевский 5; 155). Чеховский Груздев говорит:
Послушай, Катя! Не мое это дело, не люблю вмешиваться в чужие дела, но лицо у тебя такое несчастное, что нет сил не вмешаться! Катя, отчего ты не исправишься? Как тебе не стыдно? По всему ведь видно, что ты еще не совсем погибла, что возврат еще возможен... Отчего же ты не постараешься стать на путь истинный? Могла бы, Катя! Лицо у тебя такое хорошее, глаза добрые, грустные... И улыбаешься ты как-то особенно симпатично... (2; 114).
Можно сопоставить и действия персонажей. У Достоевского:
Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырывались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подушке: ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы … Я сел подле нее и взял ее руки; она опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мной голову. – Лиза, друг мой, я напрасно... ты прости меня, – начал было я, – но она сжала в своих пальцах мои руки с такою силою, что я догадался, что не то говорю, и перестал (Достоевский 5; 162). У Чехова: Груздев взял Катю за обе руки и, заглядывая ей сквозь глаза в самую душу, сказал много хороших слов. Говорил он тихо, дрожащим тенором, со слезами на глазах... Его горячее дыхание обдавало всё ее лицо, шею...
Однако дальше практически вся история подается с точки зрения Кати, которая искренне верит в то, что между нею и Груздевым возникло понимание, и начинает надеяться на возможное спасение. Деталью, разрушающей эту иллюзию, оказывается взгляд героя на часы, свидетельствующий о его нетерпении. Фабула рассказа повторяет историю, случившуюся с героем «Записок из подполья» и Лизой (встреча героя с падшей женщиной – откровенный разговор – надежда на спасение – крах надежды). Поданная с точки зрения героини, эта история приобретает очень острое звучание, в ней появляется особого рода катарсичность, присущая мелодраме. Для Лизы развязка оказывается печальной: деньги, врученные ей героем, унижают ее так же, как Катю происходящее в финале чеховского рассказа. Достоевский с присущей ему диалогичностью изображает момент очевидного контакта между персонажами. В случае Чехова этот контакт невозможен, и героиня по принципу «казалось – оказалось» осознает тщетность своих надежд. Воздействие на читателя в данном случае оказывает совмещение Чеховым внутренней точки зрения героини, включение в ее кругозор литературных клише и использование отсылок к тексту Достоевского. Начинаясь с иронии повествователя по отношению к популярному сюжету, рассказ ведет читателя к отождествлению с чувствами героини, все больше наполняясь атмосферой, заимствованной из произведений Достоевского. Финал, ознаменованный событием прозрения, максимально аккумулирует в себе все свойства этой атмосферы. На уровне коммуникации читателя и текста событийной становится невозможность контакта между героями. Катарсическое переживание у Достоевского было основано на том, что в трагической ситуации понимание оказывалось возможным, тогда как у Чехова эта схема работает точно наоборот179