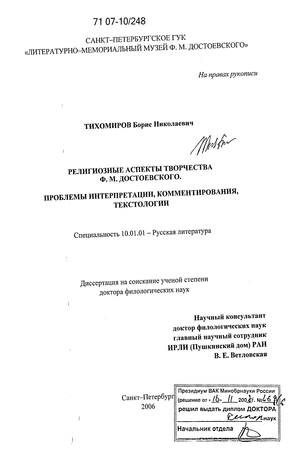Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Проблемы интерпретации религиозных аспектов творчества Достоевского 26
1. Проблема «реализма в высшем смысле» как художественного метода Достоевского 26
2. Христология Достоевского 50
2. 1. Введение в христологию Достоевского («Христос» и «истина» в мировоззрении писателя) 50
2.2. Проблема смерти Христа в романе «Идиот» 74
2. 3. «Да Христос и приходил затем .»(проблема «христианского натурализма» в мировоззрении и творчестве Достоевского) 92
2.4. Христос Достоевского versus Христос Набокова 125
3. «Мертвый Христос» Ганса Гольбейна Младшего и эстетическая концепция Достоевского 157
4. Вопросы интерпретации наследия Достоевского и гностическая доктрина 169
4.1. Антиномия «Христа и Истины» в гностической парадигме 169
4. 2. Христос и Истина в поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор» 178
5. Проблема христианской этики в художественном творчестве и публицистике Достоевского 217
6. «Наша вера в нашу русскую самобытность» («русская идея» в творчестве Достоевского) 252
7. Дети в Новом Завете глазами Достоевского (расширение проблематики современных исследований) 287
Глава вторая. Проблемы комментирования религиозных мотивов в творчестве Достоевского 318
1. Задачи комментирования в контексте современных исследований 318
2. Проблемы комментирования библейских интертекстов 361
Глава третья. Проблемы текстологии произведений Достоевского, содержащих религиозную проблематику 476
1. Проблемы текстологии рукописных материалов 476
2. Некоторые проблемы текстологии печатных текстов 492
3. Взаимосвязь текстологии, комментирования и интерпретации... 524
Заключение 529
Список литературы 539
- Проблема «реализма в высшем смысле» как художественного метода Достоевского
- Христология Достоевского
- Задачи комментирования в контексте современных исследований
- Проблемы текстологии рукописных материалов
Введение к работе
Выбор религиозных аспектов творчества Достоевского в качестве предмета диссертационного исследования обусловлен современным состоянием науки о писателе, стратегическими задачами ее внутреннего развития, серьезными сложностями методологического характера, которые возникают при решении этих задач. Религиозная проблематика, бесспорно, подлинный центр художественной вселенной Достоевского. Излагая весной 1870г. в письме А.Н.Майкову масштабный замысел «Жития великого грешника», явившийся, по выражению П. М. Бицилли, «творческим лоном», из которого вышли все последующие романы писателя - «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», Достоевский писал, что «главным вопросом», организующим всё художественное целое, будет тот самый вопрос, которым он «мучился сознательно и бессознательно всю [свою] жизнь, - существование Божие» (29 ь 117).1 Это признание можно распространить на всё послекаторжное творчество писателя, особенно на романы «великого пятикнижия». «Меня всю жизнь Бог мучил», - вторят автору персонажи разных его произведений (10, 94; 15, 32). Так через героя, его слово, переживание, мысль, вносится в произведение ключевая, интимно значимая и болезненно острая для самого автора проблематика. Причем даже более, чем
Все тексты Достоевского цитируются по изд.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 томах. Л.: Наука, 1972-1990. При цитатах в скобках арабскими цифрами указываются том и страница, для томов 28-30 также указывается и номер полутома. Текст, выделенный самим Достоевским или другим цитируемым автором, дается курсивом, выделения в цитатах, принадлежащие автору диссертации, - полужирным шрифтом.
«существование Божие», Достоевского и его персонажей «мучат» вопросы о благости Творца, о смысле созданного Им мира, о сущности отношений Бога и человека и т. п. От ответов на эти «последние» вопросы напрямую зависит решение всех иных проблем, которые поднимаются в творчестве писателя. «В основе всей идейной жизни, всех исканий и построений Достоевского были его религиозные искания. <...> Поэтому в лице Достоевского больше, чем в лице кого-либо другого, мы имеем дело с философским творчеством, вырастающим в лоне религиозного сознания. Вся исключительная значительность идейного творчества Достоевского заключается как раз в том, что он с огромной силой и непревзойденной глубиной вскрывает религиозную проблематику в темах антропологии, этики, эстетики, историософии. Именно в осознании этих проблем с точки зрения религии и состояло то, о чем он говорил, что его „мучил Бог"», - справедливо писал В. В. Зеньковский.
Достоевский - один из крупнейших религиозных мыслителей не только России, но и мира и одновременно величайший художник в истории человечества. Резкая черта своеобразия писателя заключается в том, что его религиозно-философская мысль не просто воплощена в художественной форме, но, видимо, только в этой форме и может достигать своих подлинных высот (существенно понижаясь в уровне и даже деформируясь, например, в публицистике, - что, бесспорно, заслуживает своего теоретического осмысления). И напротив, художество Достоевского достигает предельного накала, обнаруживает всю свою творческую мощь именно тогда, когда вырастает на почве религиозной проблематики. Именно этой нерасторжимой сращенностью религиозно-философской мысли и художественной формы обусловлена сугубая сложность анализа творческих созданий Достоевского. Попытки богословов, философов, а зачастую и профессиональных литературоведов раскрыть существо религиозной проблематики писателя без должного внимания к уникальным формам ее художественного воплощения
2 Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 226.
неизбежно приводят к более или менее серьезным искажениям авторского смысла написанного Достоевским, а невнимание (например, в советские годы) к религиозным аспектам творчества в свою очередь не позволяет раскрыть подлинное значение Достоевского как гениального художника.
Автор диссертации исходит из той общеметодологической предпосылки, что смысл художественного творения (в том числе и в отношении религиозной проблематики) воплощен в абсолютной полноте его текста как сложного, многоэлементного, многоуровневого целого и может быть постигнут и раскрыт как единство всех вычленяемых в анализе художественно значимых проявлений (элементов) текста. Из сказанного следует, что методологической основой диссертационного исследования является общетеоретический принцип диалектического единства формы и содержания, в силу которого в художественном произведении всё является формой и одновременно всё содержанием. Этим базовым положением определяется необходимость присутствия в формулировке темы диссертации как проблем интерпретации, с одной стороны, так и проблем комментирования и текстологии (в широком смысле) - с другой, рассматриваемых в их необходимой взаимосвязи. Специальное внимание, уделяемое в разделах, посвященных проблемам комментирования и текстологии, принципам использования в творческой работе Достоевского элементов библейского текста (точная и неточная цитата, парафраз, контаминация и т. п.), имело своим следствием уточнение и углубление исходного общетеоретического постулата об единстве (взаимопроникновении) формы и содержания художественного произведения в аспекте теории интертекстуальности.
Прежде всего в постановке и решении с новых методологических позиций фундаментальной филологической проблемы соотношения в творчестве Достоевского религиозно-философской проблематики и художественных форм ее воплощения, а также в разработке адекватных этому соотношению принципов анализа художественного текста состоят научная актуальность и
новизна предпринятого диссертационного исследования. Для современного состояния науки о Достоевском также не менее актуальным является последовательно осуществленный в диссертации сопоставительный анализ принципов воплощения религиозной проблематики в текстах художественного и внехудожественного дискурса (публицистического, эпистолярного и т. п.). Отдельную проблему составляет разработка писателем религиозной тематики в подготовительных материалах к романам «великого пятикнижия» (особенно на стадии предварительных планов и набросков). Однако в общей структуре диссертации эти аспекты являются дополнительными, иерархически подчиненными центральной проблематике исследования.
Уточняя и дополняя сказанное о методологических следствиях из факта уникальной сращенности и взаимообусловленности религиозной проблематики Достоевского и художественных форм ее воплощения, необходимо добавить, что религиозно-философская мысль писателя не просто воплощается в художественной форме (как итог), но осуществляется в ней (как процесс), находя в самой специфике художественности движущие импульсы для своего развития, становления. Это, в частности, проявляется в том, что Достоевский как «художник идеи» (определение М. М. Бахтина) мыслит образами мыслителей. Так, по поводу бунтарской богоборческой позиции своего героя Ивана Карамазова Достоевский писал, что «и в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было» (27; 86). Таким образом, последняя глубина и острота богоборческой критики Ивана принадлежит исключительно самому писателю, но он развивает этот цикл идей, доводит их до своего предельного выражения как бы с чужой смысловой позиции, именно как художник изображая мысль своего героя. И эта специфически художественная
3 Я перефразирую формулировку Г. С. Померанца, который писал, что одной из важнейших особенностей Достоевского-художника является «мышление характерами мыслителей» (Померанц Г. С. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. М., 1990. С. 379). «Характер мыслителя» для романиста, пожалуй, не менее важен, чем его мысль (так как характер в значительной степени определяет у Достоевского самое бытие мысли героя в произведении), но это всё-таки лишь одна из сторон образа мыслителя.
активность Достоевского одновременно оказывается необходимой стороной, моментом развития его собственной изначально полярно заряженной религиозной мысли, которая, находя в себе (больше того, создавая в себе) всю полноту богоборческой аргументации (в данном примере), в то же время как бы отделяет ее от себя, художественно объективируя в образе литературного героя. В результате Достоевский, мыслитель и художник, получает исключительную возможность, сделав такого героя-идеолога протагонистом «большого диалога» произведения, вступить с ним в «глубокое, серьезное, настоящее, не риторически разыгранное или литературно-условное диалогическое общение»5.
«Автор говорит всею конструкциею своего романа не о герое, а с героем», -пишет М. М. Бахтин.6 Но это надо понимать не только в том смысле, что, ведя с героем диалог на языке ситуаций, сюжетно организуя взаимодействие его идеи с иначе ориентированными идеями других героев, и т. п., автор лишь «вопрошает и провоцирует» его, стремясь «добиться от [него] слова самосознания, доходящего до своих последних пределов»7. Если ограничиться только этой стороной дела, то Достоевский окажется исключительно художником-новатором, основная творческая интенция которого направлена на создание принципиально новой художественной формы, способной
Не в том смысле, что идея персонифицируется в герое, но - становится одной из доминант в построении его образа: не человек-идея, но человек идеи (термин Б. М. Энгельгардта), которому «не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить» (14; 76). См.: Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Энгельгардт Б. М. Избранные труды. СПб., 1993. С. 287; ср. терминологически менее точное: «Всё творчество Достоевского есть художественное разрешение идейной задачи, есть трагическое движение идей. Герой из подполья - идея, Раскольников - идея, Ставрогин, Кириллов, Шатов, П. Верховенский - идеи, Иван Карамазов - идея. Все герои Достоевского поглощены какой-нибудь идеей, опьянены идеей, все разговоры в его романах представляют изумительную диалектику идей» (Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 2. С. 24.
5 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 73-74. Ср. здесь же: «<...>
художественная позиция автора по отношению к герою в полифоническом романе Достоевского -
это всерьез осуществленная и до конца проведенная диалогическая позиция <.. .>» (Там же. С. 73).
6 Там же. С. 74.
7 Там же. С. 62; ср.: «<...> Всё должно задевать героя за живое, провоцировать, вопрошать, даже
полемизировать и издеваться, всё должно быть обращено к самому герою, повернуто к нему, всё
должно ощущаться как слово о присутствующем <.. .>» и т. д. (Там же. С. 75).
воплотить специфическое «видение и изображение внутреннего человека» -«что-то, что только сам он может открыть в свободном акте самосознания и слова, что не поддается овнешняющему заочному определению»8. Сказанное совершенно справедливо. Но при абсолютизации такого подхода Достоевский-художник способен заслонить Достоевского-человека, дерзающего и рискующего в центр своих художественных замыслов ставить «проклятые» вопросы, которыми он «мучился сознательно и бессознательно всю [свою] жизнь». То есть возникает реальная опасность потерять ощущение предельной серьезности и жизненной важности для самого писателя тех проблем, вокруг которых строится его диалог с героем.9 Ведь уникальность творчества Достоевского (прежде всего романов «великого пятикнижия») не в последнюю очередь заключается в том, что лежащий в их основе «замысел о герое» - это не просто «замысел о слове» (М. М. Бахтин)10, но - о таком слове, которое обращено к автору как вопрос, как вызов, как квинтэссенция «доводов противных» самым сокровенным его верованиям. И в процессе создания
Там же. С. 15, 68.
9 Бахтин же заостряет внимание в этом контексте именно на «художественной позиции автора» (Там
же. С. 73). На мой взгляд такой акцент, подчеркивая художническую активность автора
полифонического романа по отношению к герою, не позволяет в должной мере оценить «обратное»
воздействие этого «диалогического общения» на личностную, художественно-мировоззренческую
позицию самого создателя произведения. Эта недооценка прослушивается в таких, например,
заключениях М. М. Бахтина: «От автора полифонического романа требуется не отказ от себя и своего
сознания, а необычайное расширение, углубление и перестройка этого сознания <...> для того,
чтобы оно могло вместить полноправные чужие сознания» (Там же. С. 80). Здесь речь идет
исключительно о «технологии» создания полифонического романа, который в этом случае начинает
походить на шахматную партию с самим собой, где гроссмейстеру важна не победа над
«противником», но богатство, яркость и острота процесса игры как такового. Представляется, что
А.В.Луначарский, который в рецензии 1929г. на книгу Бахтина писал не об осуществляемом в
процессе творчества «расширении», но об изначальной расщепленности сознания Достоевского как
одной из важнейших причин «многоголосности» его романов, при всей прямолинейности вульгарно-
социологической конкретизации своего тезиса, был в этой формулировке гораздо более точен (см.:
Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 416,420,428).
10 «Замысел автора о герое - замысел о слове» (Там же. С. 74).
11 Цитирую здесь известное место из февральского (1854 г.) письма Достоевского Н. Д. Фонвизиной:
«Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в
душе моей, чем более во мне доводов противных» (28|; 176). В Главе первой будет показано, что
это личное признание писателя имеет объясняющее значение и для понимания уникальной природы
его творчества. Насколько, действительно, уникален в такой постановке героя в своих произведениях
Достоевский, может, в частности, свидетельствовать полное непонимание этой специфической
стороны его творчества, например, философом Львом Шестовым, который по поводу известного
произведения, в диалогическом общении с так поставленным героем, Достоевский - художник и мыслитель - прилагает колоссальные усилия, чтобы дать ответ на вопрос, воплощенный в образе героя, парировать вызов, аргументировать и утвердить позиции противоположные.12 Причем, как сам писатель подчеркивает в письме К. П. Победоносцеву от 24 августа / 5 сентября 1879 г. по поводу глав «Бунт» и «Великий инквизитор» в «Братьях Карамазовых», - «ответ-то ведь не прямой <...> не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине» (ЗОь 122), то есть явленный в художественном целом всего романа (ср.: «<...> которому ответом служит весь роман» - 27; 48).
По-другому, но в той же творческой логике строятся диалогические отношения писателя и с героями противоположного типа, например с Алешей Карамазовым, когда, проводя их через самые серьезные искушения и испытания (вновь диалог с героем на языке ситуаций), Достоевский вместе с ними ищет и находит пути преодоления самых глубоких мировоззренческих кризисов.
В результате такой художественно-мировоззренческой диалогической активности автора полифонического романа, в процессе поиска и выработки им решений тех экзистенциальных проблем, которые в художественной ткани его романов, благодаря предельной идеологической свободе вымышленных им персонажей, достигают последней остроты, - в результате и в процессе так организованной творческой работы основания собственной религиозной позиции Достоевского закаляются и укрепляются, обретая новые опоры и
диалога князя Валковского с Иваном Петровичем в «Униженных и оскорбленных» писал: «Позволить, хотя бы в романе, кому-либо так едко насмехаться над своей святыней - значит сделать первый шаг к ее отрицанию» (Шестов, Лев. Достоевский и Ницше // Шестов, Лев. Избранные сочинения. М., 1993. С. 196), - в то время как у Достоевского смысл этого художественного решения прямо противоположный: ибо в подкладке глумления над «святыней» в указанном Шестовым эпизоде кроется уверенность писателя в своей способности подняться над нигилистической аргументацией своего персонажа.
12 Только при таком понимании наполняются реальным содержанием слова М. М. Бахтина о том, что «<...> диалог этот - „большой диалог романа" в его целом - происходит не в прошлом, а сейчас, то есть в настоящем творческого процесса. Это вовсе не стенограмма законченного диалога, из которого автор уже вышел и над которым он теперь находится как на высшей и решающей позиции <...>» (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 74).
новую глубину. «<...>Не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла» (27; 86), - запишет он в своей предсмертной записной тетради именно в связи с романом «Братья Карамазовы». Это признание в соотнесенности с рассмотренной выше логикой творческого процесса писателя открывает главное как в природе его совершающегося в художественной форме религиозно-философского мышления, так и в природе его христианской веры. Достоевский, если воспользоваться его собственной образностью, не может иначе прийти к «осанне», кроме как пройдя «через большое горнило сомнений». И это в его случае не выражение духовной нетвердости, ущербности, а единственно возможный путь.13 Потому что «осанна», прошедшая через «горнило сомнений», вобравшая их в себя и «снявшая» их в себе, - это нечто существенно иное, чем «осанна», не знавшая и не знающая никаких сомнений.14 Таким образом, - резюмирую - не только Достоевский-художник, но и Достоевский-религиозный мыслитель невозможен без художественных образов
Подлинно христианский характер такого пути выразительно подтверждает поучение авторитетного афонского старца Силуана, которые к Достоевскому (и именно в том отношении, о котором сейчас идет речь) удачно применила Т. М. Горичева: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся» (Гортева, Татьяна. Достоевский - русская «феноменология духа» // Достоевский в конце XX века. М., 1996. С. 47).
14 Напомню в этой связи также раннее признание Достоевского в письме брату Михаилу от 26 марта 1864 г., сделанное по поводу цензурных злоключений первой части «Записок из подполья»: «<...> уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, то есть с надерганными фразами и противуреча самой себе. Но что ж делать! Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, - то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа - то запрещено» (28г; 73). Очевидно, что здесь Достоевский дает еще очень предварительное самоописание той же логики своего творческого процесса (и соответственно развития своей религиозно-философской мысли), что и в позднейшем романном творчестве, но усиленно преуменьшает серьезность развиваемого в повести отрицательного цикла идей («для виду»). Однако применительно к рассуждениям подпольного парадоксалиста писатель мог бы так же сказать, как и о богоборческом бунтарстве Ивана Карамазова, что ничего подобного в современной ему Европе «не было и нет». Ретроспективно это подтвердил европейский экзистенциализм XX в., который рассматривает монолог героя «Записок из подполья» как первый в истории мировой философии экзистенциалистский текст (см.: Existentialism from Dostoevsky to Sartre / Ed. with an introd., pref. and transl. by Walter Kaufmann. Cleveland, New Jork, 1964). С другой стороны, неадекватность самооценки «для виду» тут же обнаруживает и сам Достоевский, подчеркивающий, что «из всего этого» он «вывел потребность веры и Христа». Очевидно, что и в 1864 г. другого пути к обоснованию «веры и Христа», кроме как художественное воплощение в предельной полноте и остроте отрицательного цикла идей, но с конечной целью его последующего преодоления и «снятия», для писателя не существовало.
Ипполита Терентьева, Кириллова, Версилова, Ивана Карамазова, впрочем так же как и без князя Мышкина, Шатова, архиерея Тихона, старца Зосимы, Алеши Карамазова. Причем, развивая в своем романном творчестве противоположные циклы идей, писатель оказывается в своей религиозной мысли сложнее и богаче, чем конечный итог, к которому его мысль устремлена.
Сказанным объясняется, почему в диссертационном сочинении, посвященном религиозным аспектам творчества Достоевского не только занимает свое законное место, но и открывает его рассмотрение проблематики, связанной с художественным методом писателя (Глава первая 1 «Проблема „реализма в высшем смысле" как художественного метода Достоевского»).
Дальнейшее внутреннее движение Главы первой «Проблемы интерпретации религиозных аспектов творчества Достоевского» определяется приведенным выше принципиальным суждением В. В. Зеньковского, согласно которому исключительное значение автора «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых» как великого христианского писателя состоит в том, что он «с огромной силой и непревзойденной глубиной вскрывает религиозную проблематику в темах антропологии, этики, эстетики, историософии». Именно перечисленные В. В. Зеньковским аспекты и стали теми проблемными центрами, вокруг которых выстроены наблюдения, определяющие содержание главных параграфов Главы первой.
Однако рассмотрение религиозной проблематики мировоззрения и творчества Достоевского под названными углами зрения с необходимостью должно быть предварено обращением к такому, казалось бы, специальному, но одновременно и универсальному в своей общезначимости вопросу, как христология Достоевского, многостороннему анализу которой посвящен 2 Главы первой.
Продолжая характеристику специфики религиозного мировоззрения писателя, В. В. Зеньковский указывает, что «в основе всего духовного процесса
в нем» лежал главный вопрос - «о взаимоотношении и связи Бога и мира» . Не всецело, но в главных своих моментах этот вопрос стягивался для Достоевского в одну точку, которую точнее всего будет определить как «проблему Христа», совмещающего в единстве своей богочеловеческой личности полноту Божественной природы с полнотой природы человеческой. В свою очередь этим определяется теснейшая связь, которой у Достоевского связаны христология и антропология. То или иное решение «проблемы Христа» с непреложностью предопределяло для писателя и решение «проблемы человека». Но и наоборот, в творчестве Достоевского «в человеке и через человека постигается Бог»; писатель «раскрывает Христа в глубине человека <...»>16.
Положение о христоцентризме послекаторжного творчества Достоевского, особенно романов так называемого «великого пятикнижия», является аксиомой в современной науке о писателе.17 Однако, несмотря на это, христология автора «Идиота» и «Братьев Карамазовых» изучена явно недостаточно, многие проблемы, связанные с восприятием Достоевским «сияющей личности Христа» (21; 10), и по сей день остаются остро дискуссионными, далекими от окончательного разрешения, что в свою очередь оказывается серьезным препятствием на путях построения общей системы религиозного мировоззрения писателя, а также целостной интерпретации его великих художественных созданий. Среди таких актуальных в современной достоевистике проблем важнейшей остается антиномия «Христа и Истины»
15 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. С. 226.
16 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 25.
17 См., например, основополагающее утверждение С. Н. Булгакова: «<...>можно сказать, что все им
(Достоевским. -Б. Т.) написанные книги в сущности написаны о Христе, и разве же он мог писать о
чем-либо ином, кроме как о Нем, Его познав и Его возлюбив?» (Булгаков С. Н. Русская трагедия // О
Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. М, 1990. С. 195).
Показательно также, что центральную главу своей книги «Наследство Достоевского» С. И. Фудель
назвал «Явление Христа в современности» (Фудель СИ. Собр. соч. М, 2005. Т. 3. С. 42). И в
новейшей монографии о Достоевском ее автор исходит из постулата, что «в центре романов
Достоевского незримо присутствует Христос» (Степанян К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в
высшем смысле» как творческий метод Ф. М. Достоевского. М., 2005. С. 20). Примеры можно
приводить еще и еще.
(впервые в остро парадоксальной форме обозначенная самим Достоевским в уже упомянутом выше письме Н.Д.Фонвизиной 1854г.), которая вот уже столетие приковывает к себе внимание исследователей (не только литературоведов, но и философов, богословов), порождая яростные споры и разнообразные истолкования. Назову также проблему соотношения двух природ в единой личности Богочеловека, проблему связи Христа и Бога-Отца, проблему Голгофы и некоторые другие, к уяснению значимости которых в религиозных воззрениях Достоевского наука о писателе, напротив, выходит только в самое последнее время.
С другой стороны, не менее острой остается проблема целостной интерпретации таких ключевых «христологических текстов» Достоевского, какими являются, например, истолкование Ипполитом Терентьевым в его «Последнем объяснении» картины Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос» или поэма Ивана Карамазова «Великий инквизитор» с потрясающим христоборческим монологом ее заглавного героя. Как в отечественной, так и в зарубежной достоевистике написаны десятки, если не сотни работ, где предпринят анализ этих ключевых для всего «великого пятикнижия» текстов (в последнее время всё большее внимание также привлекает «большая идея» Кириллова в «Бесах», изложение которой герой романа в черновом варианте завершал словами: «Сказанное на кресте оказалось ложью» - 12; 81; ср. 10; 471). Исследователи ставили вопрос об общем смысле, художественной функции этих вставных эпизодов, о соотношении христологических позиций автора, самого Достоевского, и его персонажей (Ипполита, Кириллова, Ивана, Великого инквизитора); в последнее время плодотворно разрабатывается проблема поиска и описания религиозно-философских парадигм, в контексте которых образ Христа в романах «Идиот» и «Братья Карамазовы» может быть интерпретирован наиболее адекватно авторской концепции. Тем не менее многое и здесь остается остро дискуссионным, а исследовательское поле разработано крайне неравномерно. Однако без надлежащего осмысления этих
«художественных версий» Христа, без сопряжения их с иными, в том числе внехудожественными суждениями Достоевского о Спасителе, подлинная картина христологических взглядов писателя также создана быть не может.
Наконец, для уяснения своеобразия христологии Достоевского -религиозного мыслителя и гениального художника - крайне важным представляется рассмотрение образа Христа в его романах в соотношении с иными художественными решениями, которые давали в своем творчестве другие писатели, поэты, также дерзавшие воплощать в своих произведениях образ евангельского Богочеловека. На этом направлении в современной достоевистике сделаны только первые шаги.18
И последнее. «Христология Достоевского - путь, не итог», - замечает Г. Г. Ермилова, тут же оговариваясь, что «<.. .> в этом противопоставлении лингвистическая, не пневматологическая суть». Именно об этом пути, его специфике свидетельствует уже цитированное предсмертное признание Достоевского: «<...> не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла» (27; 86). В сущности, здесь в первую очередь говорится именно об итоге («осанна»), но -утверждаемом не как отрицание, а как результат, «снятие» пути. И с позиций этого итога, ретроспективно, в пути открывается «некая высшая наперед-решенность, свой онтологический смысл. Даже блуждания не бессмысленны, даже тупики, сужая дорогу до тропинки, ведут к искомому»19. При рассмотрении христологических представлений Достоевского суждение это приобретает значение методологической установки.
Сказанным определяется круг вопросов, рассматриваемых в 2 «Христология Достоевского», а также угол зрения, под которым эти вопросы будут анализироваться.
См., например: Поддубная Р. К Сюжет Христа в романах Достоевского // Достоевский и национальная культура / Под ред. Г. К. Щенникова. Челябинск, 1996. С. 29-65. 19 Ермилова Г. Г. Христология Достоевского // Достоевский и мировая культура. СПб., 1999. № 13. С. 37.
Уяснение христологических представлений Достоевского оказывается необходимым фундаментом для рассмотрения проблем эстетики писателя. Среди подготовительных материалов (далее ПМ) к «Дневнику писателя» 1876 г. содержится запись: «Христос - 1) красота, 2) нет лучше, 3) если так, то чудо, вот и вся вера <...>» (24; 202). Набросок этот имеет первостепенное значение для понимания эстетики Достоевского как эстетики христианской: с одной стороны, именно Христос утверждается здесь как явление абсолютной Красоты; с другой - этот постулат положен писателем в основание его веры. Конкретизировать запись из ПМ к «Дневнику писателя» позволяют черновики романа «Бесы», где в одной из заготовок диалога героев содержится следующее суждение: «Да Христос и приходил затем, чтоб человечество узнало, что земная природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске <...>» (11; 112). В 2 «Христология Достоевского» этот черновой набросок анализируется под разными углами зрения, в том числе и в аспекте проблемы: что в приведенном суждении принадлежит самому Достоевскому, а что его персонажу? Но один из главных выводов этого анализа имеет ключевое значение для уяснения самого глубокого, как представляется, корня эстетических воззрений автора «Идиота» и «Бесов»: «небесный блеск» богочеловеческой личности Христа достигает для Достоевского подлинно ослепительного сияния в моменты, которые в земном существовании Спасителя оказываются высшими пиками Его Божественного кенозиса. Это Гефсиманский сад и Голгофа. Таким образом, красота евангельского Христа для писателя - это прежде всего, если не исключительно красота кенотическая. На этом аспекте прежде всего и заостряет свое внимание автор диссертации в 3 «„Мертвый Христос" Г. Гольбейна и эстетическая концепция Достоевского».
Цитата уточнена в результате текстологической экспертизы автографа Достоевского автором диссертации (см.: Достоевский и мировая культура. СПб., 2000. № 15. С. 231-234). Подробно этот вопрос освещен в 1 Главы третьей «Проблемы текстологии рукописных материалов».
Одним из важнейших вопросов интерпретации системы этических взглядов Достоевского в общем контексте его христианского мировоззрения является проблема сопряжения в духовном наследии писателя трудно согласуемых тенденций, которые условно могут быть определены как евангельское и «народное» христианство. Причем рассмотрение этого вопроса вновь возвращает к указанной выше констатации, что подлинных вершин религиозно-философская (в данном случае религиозно-этическая) мысль Достоевского достигает в его художественном, романном творчестве, не только существенно понижаясь в уровне, но и отклоняясь от последовательно христианского, евангельского этического учения. В то же время анализ на материале этических воззрений позволяет зайти к этой проблеме с другой стороны и вскрыть неслучайный характер «деформаций» христианства Достоевского в ряде статей «Дневника писателя» 1876-1877 гг., их известную обусловленность особенностями самой жанровой природы его публицистических выступлений. Одновременно специфика религиозно-этической позиции писателя, например, в статьях по так называемому «Восточному вопросу» эпохи русско-турецкой войны анализируется в контексте широкой проблемы рецепции в творчестве Достоевского элементов народной религиозной культуры. Анализ этого материала, с одной стороны, обнаруживая очевидную и близкую соотнесенность решений, даваемых одним и тем же в принципе этическим коллизиям в публицистике «Дневника писателя» и в имевших широкое распространение произведениях религиозного фольклора, подтверждает правомочность положения о том, что «Достоевский стремится ориентироваться не просто на христианскую сумму идей, но на их народную адаптацию» (В. Е. Ветловская), но с другой стороны, вскрывая принципиально отличный характер разрешения подобных или близких коллизий в художественных произведениях писателя, заставляет критически отнестись к абсолютизации такой оценки, распространению ее на духовное наследие Достоевского в целом. Рассмотрение всего этого круга проблем
составляет содержание 5 «Проблемы христианской этики в художественном творчестве и публицистике Достоевского».
Наконец, вопрос интерпретации историософских воззрений Достоевского ставится в диссертационном сочинении в связи с таким узловым понятием миропонимания писателя, как «русская идея» ( 6 «„Наша вера в нашу русскую самобытность" („русская идея" в творчестве Достоевского)»). Прослеживая динамику содержания этого понятия в мировоззрении и творчестве писателя на протяжении двух десятилетий, автор диссертации выявляет его серьезную эволюцию от безрелигиозных мечтаний о русской «избранности» в первой половине 1860-х гг. к глубоко религиозной задаче «спасения мира» в середине - конце 1870-х гг. В отличие от анализа в других разделах Главы первой рассмотрение понятия «русская идея» почти исключительно сосредоточивается на материале публицистических выступлений писателя. И тем не менее единый для ведущегося исследования контекст духовного наследия Достоевского в целом последовательно удерживается и в настоящем параграфе. Автор исходит из той презумпции, что для адекватной интерпретации произведений Достоевского (как, может быть, никакого другого из русских классиков) исключительно важно сознавать его внутренние творческие установки: что является движущими стимулами его писательства? какие стратегические задачи он решает в своих созданиях? и т. д. Свое послекаторжное творчество, равно и художественное, и публицистическое, Достоевский, бесспорно, мыслил как акт национального самосознания. Если говорить в самом общем виде, суть «русской идеи» позднего Достоевского заключается в его страстной вере в провиденциальную призванность России в деле «спасения мира». Путь же спасения мыслился писателем как явление заблудившемуся в истории европейскому человечеству подлинного Христа, сохраняемого в православном духе русского народа, русского человека. Эта утопическая в своей основе
21 В этом отношении показательно уже само название одного из значительных исследований отечественной достоевистики последнего времени: Щенников Г. К. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» как явление национального самосознания. Челябинск, 1996.
концепция тем не менее лежит, как оплодотворяющее начало, в подпочве максималистских требований, которые Достоевский предъявлял, в частности, и к своему художественному творчеству и которыми в конечном счете определяются взлеты его религиозно-философской мысли в романах «великого пятикнижия». Ибо «сверхзадача», которую писатель ставил перед собой в своих гениальных созданиях, - это именно раскрытие сокровенных глубин русской души, явление «сияющего образа» истинного Христа в Его первозданной евангельской чистоте и тем самым указание путей утратившему религиозно-духовные ориентиры миру.
Свое диссертационное сочинение автор строит на сочетании углубленного анализа уже определившихся в науке проблем интерпретации религиозных аспектов творчества Достоевского с постановкой новых проблем и разработкой новых методологических подходов. Этой стороне исследования посвящены 4 «Вопросы интерпретации наследия Достоевского и гностическая доктрина» и 7 «Дети в Новом Завете глазами Достоевского (расширение проблематики современных исследований)».
Одной из важнейших проблем интерпретации наследия Достоевского на современном этапе изучения является разработка таких методологий анализа, которые базируются на привлечении новых культурно-исторических, религиозно-философских и т п. парадигм, в соотнесении с которыми способны обрести свое адекватное осмысление элементы и стороны мировоззрения и творчества писателя, не получающие при традиционных подходах непротиворечивого истолкования. В 4 автор демонстрирует это положение на опыте рассмотрения двух христологических текстов Достоевского, которые традиционно вызывают затруднения исследователей, стремящихся дать им непротиворечивую интерпретацию, - фрагмента о «Христе и истине» из письма
Показательно, что один из важнейших текстов, в котором Достоевский формулирует свое понимание «русской идеи» (хотя здесь главным образом в политическом аспекте), имеет название «Утопическое понимание истории» (Глава вторая майского выпуска «Дневника писателя» 1876 г.; см.: 23: 46-50).
Н. Д. Фонвизиной и поэмы Ивана Карамазова «Великий инквизитор». Ключом к новому прочтению23 как личного религиозного признания писателя, так и вершинного создания Достоевского-художника, которое как бы собрало в фокус важнейшие проблемные нити всего позднего творчества романиста, стало их рассмотрение в контексте гностических учений эпохи раннего христианства. Попутно в диссертации исследуется вопрос о возможных источниках знакомства Достоевского с учениями гностиков. В результате анализа автор приходит к выводу, что при рассмотрении этих важнейших религиозных текстов писателя в гностической «системе координат» они, как представляется, обретают свою истинную парадигму, и это позволяет дать им оптимальную, наиболее непротиворечивую интерпретацию.
Постановка в 7 проблемы восприятия Достоевским «детской темы» в Новом Завете призвана, по замыслу автора диссертации, прежде всего продемонстрировать неисчерпаемость религиозной проблематики творчества писателя, которое раскрывает возможности разработки на его материале принципиально новых тем и новых аспектов, никогда прежде не затронутых ни в литературоведении, ни в богословии. Одновременно решение этой стратегической задачи сочетается в параграфе с углубленным анализом частной проблемы, которая раскрывается в органической взаимосвязи с важнейшими сторонами религиозного мировоззрения и творчества Достоевского в целом.
Разработка проблематики Главы второй «Проблемы комментирования религиозных мотивов в творчестве Достоевского» как специального предмета исследования, составляющего самостоятельный раздел диссертационного сочинения, не была первоначально осознана автором как необходимая, органическая часть его работы. Однако в ходе написания диссертации неоднократно возникали более или менее серьезные затруднения, обусловленные отсутствием надежных комментариев ко многим важным
23 В том числе и в настоящем исследовании, где автор, исходя из сформулированного в Главе первой 2 («Христология Достоевского») методологического положения, предпринимает несколько различных аналитических рассмотрений антиномии «Христа и истины».
текстам Достоевского, содержащим религиозную проблематику. В конечном счете сам этот факт был осознан как серьезная проблема, без надлежащего решения которой исследователи зачастую оказываются ограниченными в возможностях дать адекватную интерпретацию ряда религиозных аспектов духовного наследия автора «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Подростка», «Дневника писателя», «Братьев Карамазовых».
В результате для целей диссертационного исследования была поставлена задача систематически проанализировать результаты существующей практики комментирования произведений Достоевского, материалов творческой лаборатории писателя, а также иных текстов (переписка и проч.), в которых присутствует религиозная проблематика, отражены реалии христианской истории, упомянуты богословские понятия, фигурируют имена религиозных деятелей и т. п. Предметом анализа прежде всего явились комментарии, опубликованные в примечаниях академического Полного собрания сочинений Достоевского (далее ПСС), других авторитетных современных изданиях, специальных сборниках (например, Достоевский. Дополнения к комментарию. М.: ИМЛИ им. А. М. Горького, 2005) и проч.
Анализ позволил констатировать, что исторический период издания академического ПСС, в рамках которого на сегодняшний день сосредоточен основной массив существующих в науке комментариев к произведениям Достоевского, не был благоприятным для углубленной разработки религиозных аспектов наследия художника. Идеологический диктат коммунистической системы, атеистическая цензура, труднодоступность ряда важных источников и т. п. - этими обстоятельствами обусловлены существенная неполнота, несбалансированность, в некоторых случаях идеологическая ангажированность академического комментария, посвященного религиозной проблематике. В последующие годы, несмотря на появление значительного числа работ -монографий, статей, публикаций, - в которых отечественная наука «повернулась лицом» к ключевым вопросам в наследии великого
христианского художника, комментирование религиозных аспектов духовного наследия Достоевского не было осознано как специальная задача, требующая разработки собственной теоретической базы, собственных приемов и методик.
Накопленный в процессе этой аналитической работы материал был систематизирован и обобщен. Получив дополнительную разработку, именно он был положен в основу Главы второй диссертационного сочинения. Самой «творческой историей» этой главы объясняется, почему из многообразных проблем комментирования религиозных аспектов творчества Достоевского автор диссертации преимущественно сосредоточивается на тех, которые непосредственно выводят в область интерпретации. В центр аналитического рассмотрения главным образом поставлен тот тип комментария, который сам по себе, оставаясь комментарием, тем не менее уже становится первым этапом интерпретации; больше того, который зачастую оказывается «оправданным», доказывая свое «право на существование» лишь ретроспективно, в контексте выросшей на его основе интерпретации. Как представляется, в этом случае Глава вторая вполне органично продолжит рассмотрение, хотя и под иным углом зрения, того же в принципе круга вопросов, которому была посвящена Глава первая.
В Главе третьей «Проблемы текстологии произведений Достоевского, содержащих религиозную проблематику» также подвергнуты критическому анализу некоторые текстологические принципы и конкретная текстологическая практика академического Полного собрания сочинений Достоевского Автор диссертации, признавая общий высокий уровень текстологической подготовки академического издания Достоевского в целом, в то же время констатирует, что в части публикации рукописного наследия (подготовительные материалы, наброски, записи «для себя») неполнота комментария к текстам, содержащим религиозную проблематику, далеко не всегда позволила обеспечить безупречное в текстологическом отношении воспроизведение черновых автографов писателя. Эти наблюдения заставляют автора диссертации
сформулировать методологический принцип единства текстологии, комментирования и интерпретации, применение которого оказывается особенно значимым при текстологической экспертизе рукописей Достоевского, содержащих религиозную проблематику. Продуктивность этого принципа продемонстрирована в диссертационном сочинении на текстах, которые широко используются в современных исследованиях духовного наследия писателя, но до сих пор не получили аутентичного воспроизведения в печати.
В разработке проблем текстологии печатных произведений Достоевского (опубликованных при жизни писателя) автор диссертации преимущественно сосредоточился на случаях, когда изучение истории текста (подготовительных материалов, черновых и беловых редакций, переписки и т. п.) позволяет высказать обоснованное предположение о том, что опубликованный текст в той или иной мере испытал нетворческое воздействие, повлекшее за собой его «отклонение» либо от итогового (цензура), либо от первоначального (самоцензура) авторского замысла. Ряд выявленных ситуаций, где аналитическое рассмотрение дает основания усматривать цензурные искажения, связанные с религиозной проблематикой, заставляет сформулировать сложную текстологическую проблему: при каких условиях и в каких формах публикатор имеет право «вторгаться» в публикуемый авторский текст, внося в него те или иные редакторские исправления? в каких случаях целесообразно сохранять текст прижизненных публикаций, комментируя дискуссионные текстологические вопросы в примечаниях? а в каких - вообще проблема должна быть вынесена за рамки эдиционной практики и рассматриваться только в специальных исследованиях? Анализируя эти проблемы применительно к конкретным текстологическим ситуациям, автор диссертации разрабатывает методологические подходы, базирующиеся на принципе взаимосвязи текстологии и интерпретации, которые обеспечивают их оптимальное решение.
Научно-практическая ценность диссертации заключается в продуктивном использовании выработанных автором методологических подходов, а также конкретных результатов исследования литературоведами, преподавателями высшей и средней школы, издательскими работниками, о чем свидетельствуют рецензии, многочисленные ссылки на работы автора в отечественных и зарубежных научных публикациях; включение их в пристатейные и общие библиографии энциклопедических и справочных изданий, в рекомендательные списки к общим курсам истории русской литературы и философии XIX в.; а также подготовленные автором (лично или в соавторстве) комментированные издания произведений Достоевского, вышедшие в издательствах «Библиополис» (СПб., 1995), «Воскресенье» (М., 2003-2004), «Азбука» (СПб., 2005), «Вита Нова» (СПб., 2005), издательстве Петрозаводского государственного университета (2005).
Апробация основных положений и выводов диссертации осуществлялась в докладах, прочитанных на ежегодных Международных конференциях «Достоевский и мировая культура» (Музей Достоевского в Санкт-Петербурге, 1991-2005), «Достоевский и современность» (Музей Достоевского в Старой Руссе, 1991-2006), симпозиумах Международного Общества Достоевского (Нью-Йорк, 1998; Баден-Баден, 2001; Женева, 2004), на заседаниях Комиссии по изучению творчества Достоевского в ИМЛИ им. Горького (Москва, 2002-2006); а также на конференциях «XXI век глазами Достоевского: перспективы человечества» (Тиба, Япония, 2000), «Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков» (Петрозаводск, 1993, 2002, 2005), «Жизнь. Смерть. Бессмертие» (Петербург, 1993), «Литература в контексте большого времени» (Кишинев, 1997), «Педагогические идеи русской литературы» (Коломна, 2003), на «Герценовских чтениях» (Петербург, 1991-2006), на конгрессе «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, 2004) и др.
Все цитаты из произведений Достоевского, его черновых записей и подготовительных материалов, писем и т. п., кроме специально оговоренных случаев, приводятся по наиболее авторитетному на сегодняшний день академическому Полному собранию сочинений писателя в 30 томах (Л.: Наука, 1972-1990). При цитатах в тексте диссертационного сочинения арабскими цифрами указываются том и страница, для томов 28-30 также - номер полутома. Текст, выделенный самим Достоевским или другим цитируемым автором, дается курсивом, выделения в цитатах, принадлежащие автору диссертации, - полужирным шрифтом.
Считаю необходимым специально оговорить, что в силу текстологической практики советской эпохи, обусловленной идеологическим диктатом, в авторских текстах Достоевского во всем корпусе академического ПСС в сакральных именах и названиях (Бог, Богородица, Евангелие и т. п.), в вопиющем противоречии с чтениями в автографах и прижизненных изданиях писателя, были искусственно понижены заглавные буквы. В этих случаях, при сохранении в цитатах всех остальных элементов в соответствии с характером подачи текста в академическом ПСС (пунктуационные знаки, шрифтовые выделения и т. п.), заглавные буквы - после сверки по прижизненным изданиям произведений Достоевского - в сакральных именах и названиях восстановлены.
Также необходимо сделать предупреждение о том, что библейские тексты в большинстве случаев цитируются в диссертации по изданиям XIX в.24, прижизненным Достоевскому, которые имеют некоторые отличия от современных изданий Библии. Это касается модернизации некоторых написаний: отпущаешь —> отпускаешь (Лк. 2: 29) и т. п.; знаков препинания (например, кавычек при оформлении прямой речи, отсутствующих во многих случаях в изданиях XIX в.), а также написаний со строчной буквы притяжательного местоимения свой, относительного местоимения тот,
В первую очередь это: Святое Евангелие и книги Нового Завета. М, 1995 (репринт издания 1862 г.).
указательного местоимения который, относящихся к сакральным именам (см.: Мф. 9: 1, 11: 3 и др.); сочетаний царство небесное, царство Божие (Мф. 5: 19; 19: 24 и др.) и проч.25
Отмечу для полноты изложения вопроса, что в рамках текстологического анализа библейские цитаты в ряде случаев также приводятся по изданию Нового Завета 1823 г., бывшего в течение 30 лет настольной книгой Достоевского, в котором русский перевод, выполненный в конце 1810-х гг. по заказу Российского Библейского Общества, отличается от так называемого Синодального перевода, канонизированного св. Синодом в конце 1850-х гг. и ставшего с начала 1860-х гг. в Российской Империи общеупотребительным. Все случаи цитации Священного писания в переводе РБО в тексте диссертации специально оговариваются.
25 Отметить это обстоятельство оказывается немаловажным и для целей текстологического анализа произведений Достоевского. Так, например, когда в прижизненных изданиях романа «Идиот» читаем: «Как одолеть их (законы природы. - Б. Т.), когда не победил их теперь даже Гот, Лоторый побеждал и природу при жизни Своей <...>» (Идиот. Роман в четырех частях Федора Достоевского. СПб., 1874. Т.Н. С. 106), - то важно знать, что в современном Достоевскому так называемом Синодальном переводе Библии (в отличие от современных изданий) все отнесенные к Христу местоимения, подобные выделенным мною, писались со строчной буквы. Следовательно, читателями XIX в. такое написание воспринималось как авторское выделение.
Проблема «реализма в высшем смысле» как художественного метода Достоевского
Одной из ключевых проблем, то или иное решение которой существенно предопределяет направленность, характер и результаты интерпретации творческого наследия художника, является проблема определения его художественного метода. По известному замечанию Пушкина, «писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным». Это высказывание оказывается тем более справедливым, если мы намереваемся не «судить», но по возможности адекватно постигать и раскрывать духовный смысл, явленный в творческих созданиях художника. В противном случае собственные задачи, подходы и установки исследователя, a priori присущее интерпретатору понимание целей, которые ставит перед собой писатель, путей и средств, которые он для решения этих целей избирает, природы языка, пользуясь которым, он воплощает результат своих творческих усилий, -способны серьезно исказить авторскую художественную концепцию, подменить ее субъективными построениями, даже при условии тщательного и тонкого анализа.
Сугубая сложность ситуации заключается в том, что художник в большинстве случаев не формулирует свой творческий метод в виде развернутого, всестороннего теоретического изложения, а если и предоставляет в распоряжение исследователей разрозненные самохарактеристики, то конкретным содержанием они могут быть наполнены лишь в результате углубленного анализа и интерпретации его художественных созданий, «опредмечиваясь» в которых, метод единственно и получает (так сказать, в «снятом» виде) свое действительное, доступное изучению выражение. Таким образом, художественный метод не может быть сколько-нибудь подробно и конкретно описан и охарактеризован до и вне анализа. Но, с другой стороны, сам анализ и, главное, интерпретация художественных произведений, как я уже отметил, зачастую осознанно или бессознательно направляются общим пониманием интерпретатором ведущих творческих установок автора. Как разомкнуть этот «порочный круг»? Критерием истинности подхода исследователя здесь может стать стремление аналитически освоить изучаемое произведение в полноте его художественной структуры, не избирательно вычленяя в тексте лишь то, что соответствует уже сложившимся (в том числе и с учетом существующих самохарактеристик художника) представлениям о методе творческой работы писателя, но, напротив, поверяя полнотой раскрывающихся в анализе проявлений художественного целого аутентичность тех или иных методологических подходов, корректируя, а иногда и радикально пересматривая исходные теоретические предпосылки.
В случае творчества Достоевского, вследствие исключительной сложности художественной организации его произведений, особых форм выражения авторской позиции, уникальности постановки образа героя в структуре «идеологического», «полифонического» романа, интертекстуальной перенасыщенности, глубины и сложности религиозно-философской проблематики и т. п., сказанное выше приобретает дополнительную значимость.
Приступая к конкретному рассмотрению заявленного вопроса, сделаю одно предварительное замечание. В названии параграфа содержится теоретическое понятие «художественный метод». В последние время не однажды приходится сталкиваться с тем, что у многих отечественных специалистов, особенно старшего поколения существует острая идиосинкразия на этот термин. Его воспринимают и оценивают чуть ли не как искусственное теоретико-литературное порождение эпохи социалистического реализма - «ведущего художественного метода советской культуры». Я, напротив, не склонен преувеличивать «советскость» этого понятия. Тут есть серьезная опасность с грязной водой выплеснуть ребенка. В дискуссии на Круглом столе «Проблема „реализма в высшем смысле" в творчестве Достоевского», который прошел в декабре 2002 г. в ИМЛИ им. А. М. Горького, К. А. Степанян отметил, что статья «Метод художественный» отсутствует, например, в таком капитальном специальном издании, как Энциклопедический словарь-справочник «Достоевский: эстетика и поэтика», вышедший в 1997 г. на Урале1, - и в силу этого обстоятельства какие-то важные аспекты творческой специфики Достоевского оказались либо сильно редуцированными, либо представленными в издании в «распыленном» виде, так как не оказалось термина, который бы их сфокусировал.
Повторяю, я не склонен преувеличивать «советскость» понятия «художественный метод». И сошлюсь в этой связи на автора, которого трудно заподозрить в какой бы то ни было зависимости от советской идеологии. Это философ Лев Шестов. В своей поздней работе «Достоевский и Киргегард» (1935) он писал: «Не только идеи, но и метод разыскания истины у них (Достоевского и Киргегарда. - Б.Т.) совершенно одинаковы и в равной мере не похожи на то, что составляет содержание умозрительной философии» . Шестов здесь, по сути, говорит именно о художественном методе, так как заостряет внимание на специфике «метода разыскания истины» у Достоевского и Киргегарда именно как художников.
Христология Достоевского
Достоевский глубоко понимал Христа, своеобразно интерпретировал его «синтетическую натуру»43, много и напряженно размышлял над «огромным фактом появления на земле Иисуса» (27; 85). Размышлял заинтересованно и страстно, давая самобытные, редкие по глубине решения сложнейших религиозных проблем, но тут же опять ставя еще более острые и «больные» вопросы, - самозабвенно отдаваясь вере и вновь и вновь испытывая сомнение. Одно из самых ранних развернутых высказываний писателя о Христе44 находим в письме 1854г. к Н.Д.Фонвизиной45, написанном 32-летним Достоевским вскоре после его освобождения из Омского острога: «Бог посылает мне иногда минуты, - пишет Достоевский, - в которые я совершенно спокоен ... и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть» (28, 176).46
Сразу отмечу, что в так сформулированном credo Достоевского еще отсутствует собственно религиозный момент47: в «Дневнике писателя» 1873 г. сам писатель назовет «полной безверия книгой» «Жизнь Иисуса» Э. Ренана, в которой, тем не менее, по словам Достоевского, ее автор провозгласил, «что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому уже нельзя больше повториться даже и в будущем» (21, 10-11). Так что одно (представление об Иисусе как воплощенном идеале) для Достоевского не исключает другого (безверия).49 Для уяснения своеобразия отношения писателя к Христу, для понимания перспективы развития его христологических представлений не менее важным оказывается продолжение письма к Фонвизиной: «Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (281, 176).
Приступая к рассмотрению этого сокровенного признания писателя, сразу хочу оговориться, что сформулированная в письме к Н. Д. Фонвизиной антиномия Христа и истины, по-видимому, в принципе не допускает однозначной интерпретации. Существующие в исследовательской литературе попытки дать непротиворечивое разрешение данного парадокса явно обнаруживают свою односторонность. Нисколько не претендуя на то, чтобы «закрыть» проблему, я намерен предложить несколько возможных подходов, различных, но осуществленных с единых методологических позиций, которые в совокупности своей призваны обозначить характеристики того «смыслового поля», в границах которого антиномия Христа и истины реально функционирует в мировоззрении и творчестве Достоевского. В том числе и привлекая к анализу тексты, когда Достоевский-художник «передоверяет» названную проблематику своим героям (Ипполиту Терентьеву, Кириллову, Великому инквизитору), вновь и вновь возвращаясь к антиномии Христа и истины, но теперь уже как бы с «чужих» смысловых позиций. Мне представляется, что приблизиться к авторскому пониманию этой антиномии, к постижению ее бездонной глубины возможно только на таких путях. Именно поэтому проблематика Христа и истины, в различных контекстах и под различными углами зрения, так или иначе с необходимостью присутствует практически во всех разделах Вопреки распространенному представлению, впервые сформулированному, кажется, А. С. Долинным, который экстраполировал слова Достоевского: «я сложил себе символ веры» - на весь христологический пассаж из письма к Н. Д. Фонвизиной50, второй процитированный фрагмент («Мало того, если б кто мне доказал ... » и далее) не есть развитие «символа веры» писателя, тем более не есть его квинтэссенция; и уж во всяком случае нельзя сказать, что здесь «всё ... ясно и свято». Также сомнительно, что, выговаривая это признание, Достоевский был «совершенно спокоен».
Обращу внимание в этой связи на один смысловой нюанс. Многократно указывалось, что антитеза «Христос и истина» почти дословно повторяется в беседе Шатова и Ставрогина - героев романа «Бесы»: «Не вы ли говорили мне, - спрашивает один из них другого, - что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» (10, 198). Различие касается буквально двух-трех слов, и тем не менее в «Бесах» речь идет существенно об ином, пожалуй даже диаметрально противоположном. «Вера и математические доказательства - две вещи несовместимые»; «в мистических идеях даже самые математические доказательства - ровно ничего не значат», - запишет Достоевский в «Дневнике писателя» 1876 г. (22, 101; 100).51 А позднее, познакомившись с идеями неэвклидовой геометрии, писатель в кризисе традиционных математических представлений будет искать дополнительное подтверждение принципиальной невозможности рационального постижения «запредельной», не вмещающейся в «земной закон» Божественной истины. Так что формулировка «Бесов» оказывается формулировкой с «лазейкой»: «математическое доказательство» того, что «истина вне Христа», у Достоевского в принципе не способно получить окончательного, завершающего значения. Поэтому героями романа утверждается именно принцип веры, превышающей умопостигаемые истины нашего «земного», «эвклидова» бытия. И здесь, применительно к словам Шатова-Ставрогина, вполне допустимо говорить о «символе веры».53
Иначе в письме к Фонвизиной, где Достоевский не только допускает возможность существования доказательств, «что Христос вне истины»54, но также допускает и реальное положение вещей, при котором «действительно было бы, что истина вне Христа». Тут «гвоздь» вопроса в слове «действительно» (подчеркнутом самим писателем), которое выражает, что разрыв «Христа» и «истины», в отличие от варианта «Бесов», приобретает безусловный, абсолютный смысл.55 Это допущение в письме 1854 г. по своей предельности превосходит даже такое крайнее и резко означенное признание, которое Достоевский сделает четверть века спустя, в самом конце жизни (в черновом наброске 1881 г.): «Подставить ланиту, любить больше себя - не потому, что полезно, а потому, что нравится, до жгучего чувства, до страсти. Христос ошибался - доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами» (27, 57)56. Запись эта является заготовкой ответа Достоевского на появившиеся в печати критические оценки романа «Братья Карамазовы», с которыми он предполагал полемизировать в февральском выпуске «Дневника писателя». «Ошибающийся» Христос, конечно же, не тождествен «Христу вне истины».
Задачи комментирования в контексте современных исследований
В исследованиях последнего времени меняется само видение религиозной проблематики творчества Достоевского: оно не только углубляется, но становится более дифференцированным, уделяя всё большее внимание разработке специальных вопросов, которые прежде находились либо на периферии, либо вообще вне поля зрения достоевистики. В этом отношении показателен Круглый стол «Проблемы эсхатологии Достоевского», который прошел весной 2006 г. в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН.1 В ходе дискуссии ученые были единодушны в том, что именно в эсхатологии лежит ключ к любой системе религиозных представлений, и одновременно констатировали, что эсхатологические воззрения писателя изучены недостаточно, систематически не осмыслены и требуют дополнительных исследовательских усилий. В частности, была поставлена задача отдельного обсуждения проблемы апокатастасиса в произведениях Достоевского.
В свете подобных специальных задач творческие тексты писателя поворачиваются новыми своими сторонами, в них обнаруживаются элементы, иногда располагающиеся на генеральном направлении проблематики произведений, но оставшиеся не замеченными при традиционном подходе. Как минимум они требуют вычленения, первоначального анализа и комментирования. В свою очередь комментарий призван дать первичный материал для дальнейшей систематической разработки новых аспектов религиозной проблематики Достоевского. Вопросы эсхатологии (в том числе и проблема апокатастасиса как ее частный момент) будут особенно показательны для демонстрации тех задач, которые стоят перед современным комментарием религиозных аспектов творчества автора «Преступления и наказания», «Бесов», «Братьев Карамазовых».
В романе «Бесы», в эпизоде разговора Верховенского-младшего с Федькой Каторжным, последний, упрекая Петра Степановича в том, что тот, « ... в самого Бога, Творца истинного, перестал по разврату своему веровать», напоминает ему слова, некогда сказанные Кирилловым: «Алексей Нилыч, будучи философом, тебе истинного Бога, Творца Создателя, многократно объяснял и о сотворении мира, равно и будущих судеб и преображения всякой твари и всякого зверя из книги Апокалипсиса» (10,428).
Эта загадочная реплика Федьки, передающая учение Кириллова, как будто совершенно не согласующееся с тем, каким тот предстает в романе, в ПСС оставлена без комментариев. Интерпретировать роль этой реплики в раскрытии образа Кириллова - задача будущего исследования. Но подступом к искомой интерпретации должен стать реальный комментарий, в частности вскрывающий присутствие в Федькином изложении мотива апокатастасиса. Речь идет об идее « ... преображения всякой твари и всякого зверя из книги Апокалипсиса».
Мотив «зверя из книги Апокалипсиса» в более прикровенном виде возникает у Достоевского еще в «Преступлении и наказании», и уже здесь его сопровождает мотив апокатастасиса. Предварю анализ реплики Федьки комментарием к соответствующим словам Мармеладова, также оставшимся в ПСС без комментариев. Рисуя в финале своей исповеди картину Судного дня, Мармеладов вкладывает в уста Спасителя такие слова, обращенные к нему и подобным ему «соромникам»: «И скажет: „Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!"» (6, 21). В словах этих одновременно и самое глубокое самоосуждение Мармеладова, и его надежда. Раскрывает это следующий комментарий.
В Откровении Иоанна Богослова противник Христа - антихрист символически изображается в виде семиглавого и десятирогого зверя, посланного драконом (сатаной). Его лжепророк появляется как «другой зверь»: «он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон» (Отк. 13: 11). В богословской традиции триада: дракон, первый и второй зверь -интерпретируется как дьявольская пародия на св. Троицу. О звере втором у Иоанна Богослова говорится: он «заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю ... он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя ... И дано ему было вложить дух в образ зверя [церк- слав, дати дух образу зверину], чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя [церк- слав, да иже аще не поклонятся образу звериному]. И он сделает то, что всем - малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам - положено будет начертание (печать. - Б.Т.) на правую руку их или на чело их» (Отк. 13: 12, 14-16). Вот таким поклонившимся «образу звериному», то есть в конечном счете - дьяволу, и именует себя Мармеладов. О таких у Иоанна Богослова сказано: «кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией» (Отк. 14: 9-Ю).
Оригинальная черта «богословия» Мармеладова состоит в том, что в его упованиях оказываются достойными прощения и приятия Господа даже «слуги антихриста» (такие, как он), при условии, что они сами осудили себя и «не единый из сих сам не считал себя достойным сего». Этот мотив , наполняющийся в исповеди Мармеладова подчеркнуто личным содержанием, включен героем Достоевского в состав более широкой идеи прощения всех. Рисуя картину Второго пришествия, он так представляет Христа в Судный день: «И всех рассудит и простит, и добрых и злых...» (6, 21). Показательно, что в ранней редакции это место читалось иначе: «И всех рассудит тогда, и добрых и злых...» (7; 114). Новый вариант возникает только в окончательной редакции. Так при самом начале разработки в творчестве Достоевского эсхатологической проблематики начинает звучать тема апокатастасиса.
Апокатастасис (греч. арокатасі - восстановление, возврат к первоначальному состоянию) - учение о конечном всеобщем спасении, первоначально разработанное Оригеном и затем в той или иной мере разделяемое св. Григорием Нисским, Иоанном Скотом Эриугеной, в XIX в. так называемым примирительным богословием и др.; в библейском тексте опирается на слова апостола Павла о том, что « ... всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 11: 32). В своих крайних проявлениях учение об апокатастасисе допускает конечное обращение всех сотворенных существ, включая демонов и самого дьявола. В словах Федьки каторжного о «преображении всякой твари и всякого зверя из книги Апокалипсиса» с очевидностью прослушивается именно эта идея. Впрочем, здесь необходимо отметить, что в самой библейской «книге Апокалипсис», напротив, утверждается противоположная идея вечности адских мук: в конце времен дьявол будет «ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Отк. 20: 10).
В подготовительных материалах к «Бесам» эту проблематику обсуждают Шатов и Князь (будущий Ставрогин). Шатов настаивает на том, что «несправедливо наказание вечное»; Князь, возражая ему, упоминает «пищеварительную французскую философию», которая «выдумала, что все будут прощены» (11, 184). Апокалиптический зверь также не однажды упоминается в набросках диалогов Шатова и Князя (см.: 11, 177,182,187,195). Реплика Федьки в окончательном тексте романа, очевидно, рудимент этой богословской проблематики, которая на каком-то этапе развития замысла оказывалась в центре споров главных героев.
Проблема всеобщности или избирательности Спасения исключительно остро поставлена в поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор». В Главе первой уже было проанализировано, что одним из центральных мотивов христоборческого бунта героя поэмы стал его упрек Христу в том, что Тот приходил «лишь к избранным и для избранных» (14, 234), «великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых ... должны лишь послужить материалом для великих и сильных ... » (14, 231).2 Особую остроту этот упрек приобретает благодаря тому, что Инквизитор опирается здесь на текст Священного писания: «Великий пророк Твой, -говорит он своему Пленнику, - в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. ... Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные?
Проблемы текстологии рукописных материалов
Может показаться, что текстология рукописных материалов как прикладная дисциплина, в задачи которой входит установление аутентичного авторского текста с дальнейшей подготовкой его к печати, никак не зависит от тематических характеристик препарируемого материала и что выделение для специального рассмотрения вопросов текстологии применительно к автографам, содержание которых - полностью или частично - связано с религиозной проблематикой, является искусственным и неоправданным. Однако это далеко не так.
Очевидно, что самый опытный текстолог, обладающий идеальной зоркостью глаза, в совершенстве владеющий методиками диахронического расчленения текста, даже имеющий достаточные навыки чтения рукописей данного автора, содержащих тексты общего характера (переписка, мемуары и т. п.), тем не менее столкнется со специфическими затруднениями, если перед ним будет поставлена задача подготовки к печати чернового автографа гениального композитора или математика, в котором отразился процесс их профессиональной творческой работы, например создания оперной партитуры или поисков решения сложной задачи в области математического моделирования физических явлений. Ясно, что тут, кроме владения приемами филологического анализа текста, как непременное условие потребуются и специальные познания в той области деятельности (в приведенных примерах -музыка, математика), которой занимался автор препарируемого текста. Как минимум - со стороны текстолога здесь необходимо осознание недостаточности его профессиональной литературоведческой подготовки, необходимости консультаций у специалистов, обращения к соответствующей литературе. В противном случае неизбежны ошибочные чтения слов (или знаков), неоправданные конъектуры, неадекватная передача последовательности или членения текста, неверное установление места вставок и т. д., что в свою очередь способно привести к искажениям смысла, дать повод к неадекватным интерпретациям и проч. Конкретный сопоставительный анализ черновых рукописей Достоевского и публикации этих материалов в академическом Полном собрании сочинений писателя обнаруживает, что сказанное, к сожалению, справедливо и в отношении текстологической подготовки автографов, содержащих записи, так или иначе касающиеся религиозной проблематики.
Полное собрание сочинений Достоевского, выходившее в 1972-1990 гг., в целом ряде отношений является эталоном советского академического издания классического наследия. По полноте публикации текстов писателя (включая сводки вариантов черновых и беловых автографов и прижизненных изданий), по объему и качеству примечаний, касающихся генезиса текста, исторического и литературного контекста, критических откликов, театральных и кинематографических рецепций, а также реального комментария рядом с академическим Достоевским нельзя поставить никакое другое Полное собрание сочинений классика.
Однако идеологический диктат советского времени, проявлявшийся в области религиозных вопросов даже на уровне орфографии (в частности, требование замены в сакральных именах, вопреки данным автографов и прижизненных изданий, прописной буквы на строчную1), делающий углубленную проработку богословской проблематики в комментариях не только не желательной, но и фактически запретной (ссылки на работы представителей религиозно-философской критики конца Х1Х-начала XX вв. -Д. С. Мережковского, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и др., - за единичными исключениями, сохранившимися скорее по недосмотру надзирающих служб, вычеркивались издательскими редакторами; упоминания имен зарубежных исследователей Достоевского вроде католического священника Р. Гуардини или православного святого И. Поповича были исключены в принципе), - такой тотальный идеологический диктат неизбежно накладывал печать на характер работы академического коллектива по подготовке Полного собрания сочинений писателя, проявляясь даже тогда, когда обращение к религиозному материалу было обусловлено задачами чисто прикладного характера. Широко известный в профессиональной среде казус, имевший место в сводном «Указателе имен...» ПСС, где зарегистрирован Миллениум, охарактеризованный как «неустан овленное лицо» (302; 268), тому выразительный пример.2
Приведу к сказанному несколько примеров-иллюстраций, с одной стороны, демонстрирующих разные аспекты текстологической проблематики, обусловленной спецификой религиозного материала в творческих рукописях Достоевского, а с другой - акцентирующих важность уточненных прочтений для интерпретации соответствующих записей в черновых автографах писателя.
В рабочей тетради Достоевского 1864-1865 гг., в развернутом наброске к неосуществленной статье «Социализм и христианство»4, содержится пассаж, который в ПСС прочитан так, что в целом оставляет впечатление какой-то невнятицы, а в заключительной своей части просто оказывается невозможным: «Социализм назвался Христом и идеалом, а здесь Христос или там... не верьте Апокалипс ису » (20; 193)5. Конечно же, в середине 1860-х гг. апокалиптические настроения и ожидания у Достоевского еще не так сильны, как в 1870-е, но тем не менее Откровение святого Иоанна Богослова всегда было для писателя одной из наиболее притягательных и авторитетных книг Нового Завета. Известно, что именно в Апокалипсисе, в личном экземпляре Нового Завета Достоевского, против стиха: «И видел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон» (Отк. 13: 11), чернилами помечено: «социал изм » (7; 399).7 В богословской традиции «другой зверь», особенно благодаря его атрибуту: «два рога, подобные агнчим», - истолковывается как лжехристос, антихрист, своим внешним обликом похожий на Мессию, Агнца, но являющийся Его врагом и во всем Ему противоположный. Помета Достоевского на полях Апокалипсиса фактически отождествляет антихриста с социализмом, точнее позволяет интерпретировать социализм как воплотившегося антихриста. В таком контексте процитированные строки из наброска «Социализм и христианство» как будто оказываются ключевыми для всего замысла писателя, но суть противопоставления, оформленная союзом «а», вообще вся вторая половина высказывания представляются неясными и тем более странным и неожиданным выглядит завершение этого пассажа: « ... не верьте Апокалипс ису ». Так, наверное, мог бы сказать сам антихрист, но только не Достоевский.