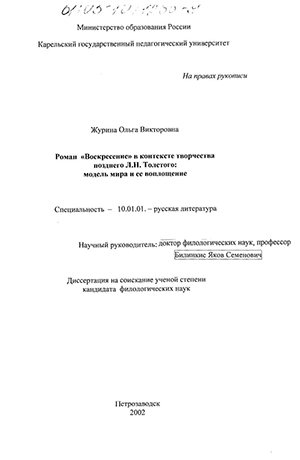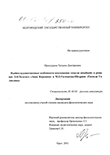Содержание к диссертации
Введение
I глава. Трактаты Л.Н. Толстого 27
1. «Исповедь» (1879-1882) 27
2. «Ожизни»(1886-1887) 51
II глава. Народные рассказы 67
Народные рассказы и особенности поэтики позднего Толстого 86
III глава. Модель мира позднего Толстого (роман «Воскресение» 97
Мотив дверей 100
Мотив окна 105
Мотив пути 115
Заключение 168
Библиография 1
«Ожизни»(1886-1887)
Если у А.Ф. Лосева литературоведческий аспект проблемы лишь намечен, то работа P.O. Якобсона «Статуя в поэтической мифологии Пушкина» дает блестящий образец исследования индивидуально-авторской мифологии. Заглавный образ рассматривается в самых разных контекстах: художественном, эпистолярном, реально-биографическом, при помощи которых воссоздается макроконтекст пушкинской мифологии - именно в ее пределах образ получает наиболее адекватное истолкование, обнаруживает полноту своих семантических возможностей. Подобно А.Ф. Лосеву, P.O. Якобсон видит в мифе проявление личности, в данном случае - поэтической личности, считает, что представление об индивидуальной мифологии можно получить путем исследования ее опорных элементов: «В многообразной символике поэтического произведения мы обнаруживаем постоянные, организующие, цементирующие, являющиеся носителями единства в многочисленных произведениях поэта, элементы, накладывающие на эти произведения печать поэтической личности. В пеструю вязь поэтических мотивов, зачастую несходных и не соотносящихся друг с другом, эти элементы вносят целостность индивидуальной мифологии поэта»4.
Среди современных исследований продолжением лосевской универсалистской концепции мифа является книга A.M. Лобка «Антропология мифа» (1997). С точки зрения ее автора, для человека вообще невозможно положение «вне мифа», оппозиция мифическое / немифическое имеет разные значения относительно разных точек зрения: «Для внешнего наблюдателя (наблюдателя из другого мифа) мир мифа выглядит как мир абсурда ... Для человека же прирожденного тем или иным мифам, они есть некая самоочевидная реальность» . Отношения человека с миром, считает A.M. Лобок, всегда опосредованы мифом, который выступает как «средство самоутверждения человека по отношению к миру ... позволяет человеку поместить самого себя в контекст особой, смысловой реальности» . Миф существует как потребность в смысле, не дает бесконечному и неопределимому миру «рассыпаться в хаос» , гарантирует его смысловую целостность и упорядоченность: «Миф - это смыслонесущая реальность человека, и оттого она неизмеримо более сильна, нежели реальность как таковая»3, «человеку нужна какая-то априорная сетка ценностной размерности, которая давала бы ему возможность сориентироваться там, где отказываются работать биологические механизмы отбора ... миф - иллюзорная конструкция сознания, дающая человеку опорные точки для совершения выбора»4. Когда по каким-то причинам «основополагающие жизненные мифы рушатся», наступает «кризис смысла», выходом из которого является «возобновление мифа» . Именно так ученый трактует духовный кризис Толстого и последующие попытки писателя восстановить целостный образ мира и жизни, найти их смысловое оправдание.
И хотя феномен позднего Толстого в книге подробно не рассматривается, намеченный подход к нему представляется весьма продуктивным, позволяет, помимо философского и литературоведческого, подключить к исследованию и мифопоэти-ческий метод. Это особенно важно в свете поставленной нами задачи исследовать модель мира позднего Толстого, так как мифологами накоплен богатейший опыт подобных исследований, разработан соответствующий аналитический инструментарий, выявлены основные закономерности мифологического мышления и отмечена его родственность мышлению художественному .
Оправданность и продуктивность сочетания традиционно литературоведческого и мифопоэтического подходов к художественному тексту демонстрируют работы И.П. Смирнова, В.А. Маркова, Е.М. Мелетинского, Ю.В. До-майского7. При сопоставлении авторской мотивно-образной системы с традиционно мифологической ученые часто опираются на введенное К.Г. Юнгом понятие архетипа. «Художественное мышление, - утверждает В.А. Марков, - естественно, формируется на той же архетипической основе и пронизано образами, производными от базисных бинарных символов» . Е.М. Мелетинский в работе «О литературных архетипах» главный объект исследования определяет как «первичные схемы образов и сюжетов, составившие некий исходный фонд литературного языка, понимаемого в самом широком смысле» и отмечает «двойной процесс» функционирования архетипа в литературном тексте: «с одной стороны, традиционные сюжеты, в принципе восходящие к архетипам, очень долго сохраняются в литературе, периодически отчетливо проявляя свою архетипичность, но, с другой стороны, трансформации ... или дробление традиционных сюжетов на своеобразные осколки все больше затем-няют глубинные архетипические значения» . Обе стороны проявления архетипа в литературе исследуются в работе Ю.В. Доманского, при этом заслуживает внимания интерпретация ученым случаев деформации архетипа. Опираясь на суждение В.А. Маркова об архетипах как носителях человеческой памяти, «в которой хранятся золотые слитки человеческого опыта - нравственного, эстетического, социального»4, Ю.В. Доманский выдвигает предположение о том, что «инверсия архетипического значения есть отступление от общечеловеческих ценностей в пользу идеалов иного порядка» . Данное предположение в применении к феномену позднего Толстого позволит учитывать всю сложность явления - обнаружить не только реставрацию архаичных мифологических схем, которые писатель стремился противопоставить позитивистскому мировоззрению и «искаженному христианству», но и моменты изменения самих этих схем, что может дать представление о собственно толстовской мифологии, ориентированной на «идеалы иного порядка».
Народные рассказы и особенности поэтики позднего Толстого
Таким образом, во вступлении Толстой оговаривает самые главные моменты, на которых зиждется все его исследование: критерий истинности и ценности любого суждения (благо), основанную на этом критерии смысловую иерархию и соответствующий им метод мышления. Поскольку все эти моменты ощущаются Толстым как принципиально иные, нежели принято в большинстве научных изысканий, то процесс исследования идет одновременно по двум направлениям: 1) выстраивание и отстаивание единственно верной, по Толстому, ценностно-смысловой модели; 2) развитие в рамках этой модели самого рассуждения. Этим же обусловлен и «двойной заряд» полемичности трактата, направленного как против ложных концепций, так и против ложного метода их выведения. Иными словами, перед нами размышление не только о жизни, но и о самом мышлении, о его правилах и принципах. Причем второе, по-видимому, для Толстого наиболее важно, поскольку все основные выводы трактата являются, как он считает, естественным следствием должным образом сориентированного сознания. Прежде, чем сформулировать то или иное свое суждение, Толстой всякий раз вынужден заниматься коррекцией искаженного в научной и обыденной практике взгляда на вещи, а суждение преподносится затем как закономерный вывод.
Толстой убеждает, что все страдания, сопровождающие человеческую жизнь, все ее мучительные противоречия, даже самый ужас смерти являются следствием недоразумения — неправильного понимания жизни, и стремится это недоразумение исправить. Основным содержанием трактата является отделение истинного толкования понятия жизни от ложного. Доказательство истины Толстой часто строит уже знакомым нам методом «от противного» — показывает, что ложное жизнепонимание опровергается самой «практикой жизни», неизбежно приводит в тупик или к катастрофе: «часто, — все чаще и чаще в последнее время, — человек разрубает гордиев узел своей жизни, убивает себя, только бы избавиться от доведенного в наше время до последней степени напряжения мучительного внутреннего противоречия» (26, 340). Противоречие является следствием конфликта двух начал, составляющих человеческое существо: животного (его Толстой также называет «личным») и духовного, проявляющегося в разумном сознании. Животное начало побуждает добиваться личного блага, но разумное сознание указывает на обреченность таких попыток. Все это свидетельствует о неправильно сделанном смысловом акценте: вторичное (животное) человек принял в себе за главное, тогда как его подлинной сущностью является духовное начало, и только оно способно указать истинное благо для человека, не уничтожаемое ни страданиями, ни смертью. Таким образом, Толстой как бы «расщепляет ядро» человеческой натуры, выделяя в ней основное, определяющее начало, и второстепенное, подчиненное первому. Писатель проделывает это путем отбрасывания, «отшелушивания» всего вторичного, демонстрируя его случайность, относительность, непрочность - пока не получит «тот остаток, в котором есть жизнь» (26, 382). Толстой показывает, что ошибочно было бы считать своей сущностью тело или связанное с ним временное «сознание личности», ибо и то и другое текуче, изменчиво: «Как нет ничего общего в веществе моего тела, каким оно было десять лет назад и теперешним, как не было одного тела, так и не было во мне одного сознания. Мое сознание трехлетним ребенком и теперешнее сознание так же различны, как и вещество моего тела теперь и 30 лет тому назад. Сознания нет одного, а есть ряд последовательных сознаний, которые можно дробить до бесконечности ... . Нет в человеке ни одного и того же тела, ... нет сознания постоянно одного, во всю жизнь одного человека, а есть только ряд последовательных сознаний, чем-то связанных между собой, - и человек все-таки чувствует себя собой. ... нашел, ... должно быть не в том теле, которое мы называем своим, и не в том сознании, которое мы называем своим в известное время, а в чем-либо другом, соединяющем весь ряд последовательных сознаний в одно» (26, 404).
Проблему самоидентификации человека не помогает решить позитивистская теория детерминизма, объясняющая человеческую индивидуальность причинами наследственности. Наоборот, последовательно идя по этому пути, все дальше и дальше разматывая цепь детерминирующих факторов. Толстой приходит к внепространст-венному и вневременному источнику человеческого «я»:
«...сначала мне представляется, что причины особенности моего я находятся в особенностях моих родителей и условий, влиявших на меня и на них; но, рассуждая по этому пути дальше, я не могу не видеть, что если особенное мое я лежит в особенности моих родителей и условий, влиявших на них, то оно лежит и в особенности всех моих предков и в условиях их существования — до бесконечности, т.е. вне времени и пространства, так что мое особенное я произошло вне пространства и вне времени» (26, 407).
Искомое неделимое начало, истинное «я» не есть, по Толстому, некая «постоянная величина», это скорее функция - специфическое отношение каждого человека к миру, присущее только ему и сохраняющее свои особенные свойства при любых «значениях переменной»: «я вижу, что соединявшее все мои сознания в одно — известная восприимчивость к одному и холодность к другому, вследствие чего одно остается, другое исчезает во мне, степень моей любви к добру и ненависти к злу, — что это мое особенное отношение к миру, составляющее именно меня, особенного меня, не есть произведение какой-либо внешней причины, а есть основная причина всех остальных явлений моей жизни» (26,407).
Эта часть человеческого существа не может уничтожиться ни при каких обстоятельствах, зато безграничны возможности ее роста, который заключается «в увеличении любви» (26, 410). Рост, хотя и является, казалось бы, одной из форм изменения, не противоречит тезису о неизменности основного начала. Духовное начало , лежащее в основе всего сущего, предшествующее всему материальному (см. ниже о Логосе) — вечно и неизменно. Относительна и изменяема лишь степень его проявления в материальном мире, в частности, в человеческом существе. О явлении внутреннего роста можно говорить тогда, когда человек все больше и больше подчиняется этому началу, преодолевает узость своего ограниченного «животного» существования, вырываясь к беспредельности духовного бытия: «Жизнь человеческую мы не можем понимать иначе, как подчинение животной личности закону разума. Жизнь эта обнаруживается во времени и пространстве, но определяется не временными и пространственными условиями, а только степенью подчинения животной личности разуму» (26, 360); «Разум ставит человека на тот единственный путь жизни, который, как конусообразный расширяющийся туннель, среди со всех сторон замыкающих его стен, открывает ему вдали несомненную неконечность жизни и ее блага» (26, 423).
Мотив окна
В народных рассказах, опираясь на вековой опыт древней литературы. Толстой пытается выработать формы художественного воплощения своего нового мировиде-ния, где сквозь привычные черты земного бытия «просвечивает» трансцендентная реальность. Главными приметами нового стиля становятся дедуктивность, рационализм, сквозные образы-символы и элемент чудесного в том или ином его проявлении. В народных рассказах они выражены наиболее явно, неприкрыто, в дальнейшем же, в других произведениях - уходят вглубь и труднее распознаются, принимая облик «старой манеры». Анализ народных рассказов позволяет не терять из виду отмеченные особенности, которые обнаруживаются у писателя и в художественных произведениях крупной формы - повестях и романе «Воскресение». Покажем это на некоторых примерах, пользуясь народными рассказами как «ключом» к поэтике позднего Толстого.
Чудесные образы в художественных произведениях Толстого часто выполняют ту же функцию, что и термины, абстрактные понятия в его трактатах - обозначают универсальные категории. Среди народных рассказов ярким тому примером служит рассказ «Чем люди живы», среди повестей - повесть «Фальшивый купон», особенно ее черновой вариант, где фигурируют черти. В.А. Жданов недоумевает, для чего Толстой в почти законченную редакцию повести вводит чертей. Так в сцене ссоры отца с сыном читаем: «И в ту минуту, как Федор Михайлович встал со стула и закричал, чертенок, сидевший на его плече, надулся, раздвоился, и тот, который был поближе, перескочил на плечо гимназисту». Или другой эпизод: «Так говорил отец Михаил и не знал, что чертенок, сидевший на плече Марии Васильевны, распух, раздался и перескочил на плечо отца Михаила» . Исследователь справедливо проводит здесь параллель с народными рассказами, где «часто встречаются ангелы и черти» , но мы не можем согласиться со следующим объяснениями причин появления этих образов в «Фальшивом купоне»: «Возможно, Толстой думал, что беспрерывная смена движения в чисто реалистическом рассказе может утомить, и привлек развлекательно-назидательный прием. Или, наоборот, он хотел разбавить шуткой идейную насыщенность»3. На наш взгляд, инфернальные образы выполняют ту же функцию в данном произведении, что и в рассмотренных выше: позволяют свести многообраз частные явления к одной универсальной категории — мошенничество гнев тщеславие и пр. оказываются лишь многоликими проявлениями мирового зла. Кроме того фигура чертенка позволяет особенно отчетливо проследить закономерность нарастания и распространения зла когда «оно неизбежно идет как передача движения упругими шарами если только нет той силы которая поглошает его» (53 197).
В окончательном варианте повести черти отсутствуют, зато сохранены явно родственные им «трое черных с красными глазами», которые являются в кошмарах Степану Пелагеюшкину, убившему праведницу, дразнят его, делают рожи, приговаривая: «С ней покончил — и с собой покончи, а то не дадим покоя» (36, 34). В видениях Пелагеюшкина появляется и убитая им «незащищавшаяся женщина» , он истово молится ей, прося о прощении, и кошмары оставляют его, происходит постепенное перерождение злодея в «святого человека». Так прекращается эстафета возрастающего зла, наткнувшись на любовь и непротивление, и начинается обратное движение, захватывая прежних участников и вовлекая новых. Узловые моменты этого движения - предельное выражение зла (убийство) и начало его преодоления (покаяние) - отмечены чудесными явлениями. Причем, образы чертей и праведницы с перерезанной шеей не разделены во времени, а поочередно вновь и вновь сменяют друг друга в видении героя, являются почти одновременно, красноречиво иллюстрируя неизбежную альтернативу, стоящую перед каждым человеком: христианское непротивление, вплоть до самопожертвования - или подчинение дьяволу, разнообразные формы зла.
Кошмарные видения преследуют и героя повести «Божеское и человеческое» Меженецкого: «стали выступать рожи лохматые, плешивые, большеротые, криворотые, одна страшнее другой. Рожи гримасничали самыми ужасными гримасами» (42, 217). Убеждения Меженецкого прямо противоположны непротивлению, на просьбу старика-раскольника открыть свою «веру» он отвечает: «Они убивают, и их надо убивать до тех пор, пока они не опомнятся» (42, 215). Меженецкому противопоставлен Светлогуб, случайный пособник революционеров. В тюрьме он впервые вчитывается в евангельские заповеди «не сердитесь, не прелюбодействуйте, терпите зло, любите врагов» (42, 202) и понимает: «Да, если бы все так жили ... и не нужно бы и революции» (42, 203).
Светлогуб и Меженецкий представляют соответственно «божеское» и «человеческое» решения проблемы зла, заявленные в названи повести. Оба героя гибнут: одного повесили, другой повесился. Характер смерти и ее описание красноречиво свидетельствуют об истинности/ложности веры каждого из них. Меженецкий погибает в злобе и отчаянии, не встретив сочувствия в новом поколении революционеров, перечеркнувших его жизнь и «веру». Жизнь, лишенная смысла предстает как абсурд, что подчеркивают возобновившиеся инфернальные видения: «опять рожи, большеротые, мохнатые, ужасные» (42, 225-226). «Человеческое» в конечном счете приводит к дьявольскому. Герой не находит иного избавления от ужаса, кроме самоубийства.
Совсем иначе описана смерть Светлогуба - пробудившееся духовное начало торжествует над физической смертью, приобщает героя к иной, трансцендентной реальности. Для того, чтобы не просто сформулировать , но и показать это, Толстому понадобился особый зритель, способный видеть метафизический смысл происходящего. В рассказе «Чем люди живы» таковым является ангел, в повести «Божеское и человеческое» - старик-раскольник, с чьей точки зрения показана казнь Светлогуба. Экзальтированная религиозность старика мотивирует соответствующий стиль описания. Как и в рассказе «Чем люди живы», здесь происходит «перекодирование» с профанного языка на сакральный и жесткая классификация явлений по бинарной схеме «святое / дьявольское»: «он ... увидал через решетку, как подвезли колесницу и как вышел из тюрьмы юноша с светлыми очами и вьющимися кудрями и, улыбаясь, взошел на колесницу. В небольшой руке юноши была книга. Юноша прижимал к сердцу книгу, — раскольник узнал, что это было Евангелие, — и, кивая заключенным, улыбаясь, переглянулся с ним. Лошади тронулись, и колесница с сидевшим в ней светлым, как ангел, юношей, окруженная стражниками, громыхая по камням, выехала за ворота. Раскольник слез с окна ... "Этот познал истину, — думал он. — Антихристовы слуги затем и задавят его веревкой, чтоб не открыл никому"» (42, 209). Несмотря на то, что повозка, названная «колесницей», скрывается из глаз старика, и повествование о дальнейших событиях переходит к автору, последний сохраняет высокий архаизм «колесница», причем настойчиво и нарочито многократно (10 раз на пространстве полутора страниц) повторяет его. Принимая язык, а вместе с ним и точку зрения персонажа, повествователь, носитель главного слова в произведении, тем самым как бы удостоверяет их истинность, адекватность описываемому явлению
Мотив пути
В «Кратком изложении Евангелия» Толстой говорит: «Храм не нужен. Храм истинный есть мир людей, соединенных любовью. ... все внешнее богопочитание „ вредно потому, что человек, используя внешние обряды, считает себя правым и освобождает себя от дел любви» (24, 824). В сцене пасхальной заутрени основу истинного храма составляли любящие друг друга Катюша и Нехлюдов, в сцене же тюремного богослужения такой основы нет - здесь предстают именно «ненужный» храм и «вредный» обряд. Описывая заполнение церкви народом. Толстой использует совершенно иные звуковой и зрительный ряды: «...слышался мягкий топот обутых в коты ног, говор, иногда смех ... слышались только откашливание, крик младенцев и изредка звон цепей», «все были в белых косынках, кофтах и юбках, и только изредка среди них попадались женщины в своих цветных одеждах», «в серых халатах пересыльные ... с бритыми полуголовами каторжные» (32, 134). В таком контексте даже то, что церковь «вся блестела яркими красками и золотом» воспринимается негативно, как знак ложного блеска, бездушного богатства - не случайно эта характеристика следует непосредственно за указанием на денежные суммы («несколько десятков тысяч рублей» (32, 134)), потраченных на ее строительство и отделку богатым купцом (негативная семантика «купеческого мотива» в романе (купец-мертвец, «клиент» Катюши, купец-заседатель) не подлежит сомнению).
Описание тюремной литургии представляет собой яркий образец толстовской демифологизации, направленной на развенчание «ложных вер». Основными приемами демифологизации становятся остранение и профанирующее переименование. Мифологи, религиоведы, религиозные критики, с разных позиций подходившие к ритуалу, единогласны в том, что он «обретает свое значение, становится ритуалом только в контексте соответствующего мифологического верования»3, но может совершенно лишиться смысла в глазах «внешнего наблюдателя» (A.M. Лобок4). Именно такую точку зрения - извне - избирает Толстой в целях остранения, сведения к абсурду церковного обряда. Он создает, по словам П.А. Флоренского «внешнеописа-тельный перечень» религиозных форм, «ряд констатирований литургических действий, рассматриваемых со стороны человеком, ничуть не понимающим их смысла» . В результате сакральное низводится до обыденного, и следствием этого является от каз от высокой церковной лексики как от ложной системы знаков. Возникают характерные толстовские переименования: «Вместо "ризы" появляется "странная и очень неудобная парчовая одежда", "парчовый мешок", ... ряд других церковных наименований заменяются бытовой лексикой: покровец - салфетка, потир (или чаша) - чашка иконостас тюэсзоиодка катапетасма Гили завеса") - занавеска и т.д.» (А.Б. Тарасов ).
Причастие у Толстого, пишет архиепископ Иоанн (Шаховской), предстает как «простое съедание кусочка хлеба с вином»2. При этом Толстой всячески обыгрывает обыденную семантику «еды», чему способствуют и превращенные в кухонную утварь священные предметы: «священник ... , сняв салфетку с блюдца, разрезал серединный кусочек начетверо и положил его сначала в вино, а потом в рот ... и пригласил желающих тоже поесть тела и крови Бога, находившегося в чашке. ... После этого священник унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке кровь и съев все кусочки тела Бога, старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, ... вышел из-за перегородки» (32, 135-136). «Как гениально просты эти приемы устранения мистической стороны таинств! - восклицает о. Иоанн. - Вставлен звук в слово чаша, употреблено слово «поесть» и смотришь, ум читателя уже стилизован так, что перестает видеть значительность и бесконечную содержательность Приобщения Святых Тайн, непререкаемо данную в опыте всякому религиозному человеку; налицо остается только плоская действительность, лишенная глуби-ны» . Процесс демифологизации в романе Толстого распространяется практически на все устоявшиеся формы жизни (государственное устройство и государственная служба, светская конвенциональность, искусство и т.д.) - и во всех случаях Толстой опирается на приблизительно один и тот же набор приемов. Особенно продуктивным оказывается многократно отмеченное в толстовдении остранение и связанное с ним профанирующее переименование. Укажем лишь некоторые примеры: - инициальное описание весны (город и городская жизнь подаются как немотивированная агрессия людей против природы); - военная служба Нехлюдова - хаотичный набор нелепых действий; - судебное заседание (остраняются судебные ритуалы, например, приведение к присяге, во время которой «всем было неловко» (32, 29), к абсурду сводятся речи судебных ораторов; характерны также интерьерные описания: портрет царя - «портрет во весь рост генерала в мундире и ленте, отставившего ногу и держащегося за саблю» (32, 25), зерцало - «треугольный инструмент с орлом» (32, 26) и др.); - заседание Сената (одна из комнат в помещении Сената названа «большим шкафом» (32, 271), форменная одежда сенатора - «смешным костюмчиком», «обшитым галунами с блестящими бляхами на груди ... , делавшим его похожим на птицу» (там же)).
В качестве других приемов демифологизации назовем следующие:
1) Аналитический, а не синтетический подход к мифу и ритуалу. Миф требует именно целостного, синкретичного восприятия (см. описание заутрени), Толстой же дробит явление на множество составных элементов и дезавуирует каждый из них. Часто это достигается путем натуралистического показа «кухни» ритуала или подробностей его «закулисной стороны» - в результате он предстает как нечто сделанное, рукотворное, «слишком человеческое», его претензии на высокий ценностный статус оказываются несостоятельны (см. подробности разрезания и поедания хлеба, «подглядывание» автора за «перегородку», где священник «старательно обсосал усы и вытер рот»; пристальное внимание автора к мыслям и мотивам поведения членов суда, подробностям их частной жизни, будничности приготовлений к заседанию: товарищ прокурора приехал на заседание из «того самого дома», где прежде содержалась Маслова, и не успел ознакомиться с делом, завидовавший ему секретарь специально посоветовал пустить это дело первым. «Ну, хорошо, отравление так отравление», - сказал председатель, сообразив, что это такое дело, которое можно кончить до четырех часов, а потом уехать» (32, 22). Сосредоточенный вид одного из членов суда объясняется его озабоченностью своим катаром желудка, другой мрачен из-за ссоры с женой, и т.д.).
2) Индивидуализация, противопоказанная мифу. Миф говорит об общем, категориальном, «лишает события их индивидуальных черт и сохраняет только то, что соответствует заложенному в мифе образцу», поэтому средневековые писатели «индивидуализации ... предпочитают типизацию» (А.Я. Гуревич)2. Толстой же делает обратное - предельно индивидуализирует, конкретизирует происходящее, представляя его как нечто частное и случайное. Возникает множество «ненужных», с точки зрения мифа и ри 147 туала, подробностей: особенности дикции священника, сбивающейся на свист, его неточные движения, когда он «совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим» (тюремное богослужение (32, 137)), разнобой во время принесения присяги: «Одни слишком громко повторяли слова ... , другие же только шептали, отставали от священника и потом, как бы испугавшись, не вовремя догоняли его; одни крепко-крепко как бы боясь, что выпустят что-то, вызывающими жестами держали свои щепотки, а другие распускали их и опять собирали» (32, 29) и т.д.