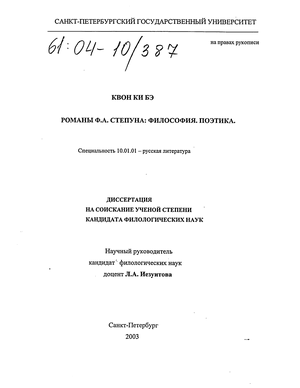Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Философия и поэтика войны в романе Ф. А. Степуна «Из писем прапорщика артиллериста»
1. Истина войны в литературном и философском образе.
1.1 .Философский роман между истиной и вымыслом 39
1.2. Война как пространство мысли 43
2. Метафизика и этика войны в русском религиозном ренессансе и в философском романе Ф.А. Степуна.
2.1. Онтологический статус войны в романе Ф.А. Степуна 47
2.1.1. Война как «великая покорность»: вопрос об онтологической целесообразности войны 47
2.1.2. София Соловьева и Армейский дух Степуна (параллелизм и различия) 51
2.1.3. «Музыкальная» онтология войны 55
2.2. Безумие как практическое изучение войны (Гносеология войны в романе Ф.А. Степуна): Подтверждение или опровержение системы Гегеля? 59
2.3. Релятивная этика войны в романе Ф.А. Степуна (Физиология морали и этика отвращения к войне) 63
2.4. Между Чудовищным и Возвышенным (Эстетика войны в романе Ф.А. Степуна) 65
2.4.1. Война нарядная и война отталкивающая: подлинное и мнимое в эстетике войны 65
2.4.2. Православие и милитаризм: точки соприкосновения 69
2.5. Россия и Запад как метафизическая антитеза в романе Ф.А. Степуна 72
2.5.1. Карта боевых действий: от западного рационализма к русской духовности 72
2.5.2. Война как метафизический рубеж 73
3. Записки философа на войне: сюжет, фабула, композиция.
3.1. Исповедь актерской души: борьба за философию и возвращение к истоку 75
3.2. Композиция и хронотоп. Карта духовного возвращения к себе 85
3.3.Мотив ранения как стимул к метафизической переоценке войны 90
3.4. Поэтика войны между физиологическим отвращением и предельной непонятностью 94
4. Система персонажей как отражение идеи индивидуальной и коллективной героики.
4.1. Фронт в роли домашнего пространства: инверсия внешнего и внутреннего 101
4.2. Автобиографический персонаж и авторские маски военного героизма 108
4.3.Человек-идея как философская загадка 109
5. Мифологический и философский образ войны: метафизика войны на перекрестке неомифологизма и историографии 111
6. Философия и поэтика войны перед судом реального опыта 116
Глава 2. Философия и поэтика любви в философском романе Ф. А. Степуна («Николай Переслегин»)
1. Онтология и гносеология любви: философия в контексте литературы.
1.1. Русская религиозная философия и онтология эмоции 119
1.2. Гносеология любви: от чувственного опыта к истине Прекрасного 121
1.3. От физиологии к трансцендентному: неприятие деторождения в русском модернизме 124
1.4. Философия любви между антропологией и космизмом: метафизика как преодоление эгоизма 129
1.5. Диалектика Другого и универсалии любви 135
1.6. Типология любовных моделей: между конкретной интригой и мистическим союзом 137
2. Этика таинства, эстетика явленного: категория Красоты и ее материальная жизнь.
2.1. Этика семьи и пола: брак и любовь с точки зрения эсхатологической мистики декаданса 142
2.2. Мистерия греха: эстетика любви в ракурсе религиозного искупления 146
2.3. Лицо и маска любви: принадлежит ли единичное всеединству 151
3. Эпистолярный роман между разумом и бесконечностью.
3.1. Письма к Абсолюту: эпистолярная традиция и сакральный смысл 153
3.2. Исповедь многодушного романтика 157
3.3. Диалог Разума и Психеи: бесконечная переписка с Бытием 159
3.4. Метонимия как фигура разрыва и соединения любящих 160
3.5. Инерция и ритм эпистолярной формы 162
4. Сюжет, фабула, лейтмотив: траектории осмысления познаваемости любви.
4.1. Хронология путешествий по ландшафту познания 164
4.2. Сюжет, движущийся концентрическими кругами 165
4.3. Сюжетные лейтмотивы и перифразы из классической традиции 167
4.4. Концептуализация памяти в поэтике модернизма 170
4.5. Позитивная метафизика любви: восхождение от памяти к действию 172
4.6. Композиция сюжета: многомерность от универсализма 173
5. Принципы построения системы персонажей в романе. Автобиографический персонаж и его функции. Фабульное и концептуальное назначение женских образов в романе.
5.1. Прототипы женских персонажей и автобиографический пласт романа 174
5.2. Наталья как материализованный идеал любви: ренессансный облик и модернистская глубина 177
5.3. Таня и любовь-ностальгия: влечение к недугам психики 179
5.4. Нарцисс и демон: Марина в декадентском эксперименте над любовью 181
5.5. Цветовая символика женских образов: белое, черное, синее 183
5.6. Биография в метафизическом и социальном контексте 186
5.7. Литературный герой в пространстве мысли: искания и перспективы 187
Заключение 189
Список литературы 195
- Война как «великая покорность»: вопрос об онтологической целесообразности войны
- Исповедь актерской души: борьба за философию и возвращение к истоку
- Философия любви между антропологией и космизмом: метафизика как преодоление эгоизма
- Сюжетные лейтмотивы и перифразы из классической традиции
Введение к работе
Исследуемые нами романы русского мыслителя, философа культуры, литературного критика, малоизученного беллетриста, театрального деятеля и блестящего стилиста Федора Августовича Степуна (1884 - 1965) написаны на стыке рассуждения о метафизике познавательного метода и литературного вымысла (его предмет - историческая биография частного человека начала XX века). При изучении структуры его романов и их философского «багажа» мы встречаем две кардинальные трудности, преодоление которых предопределяет критико-аналитический ход нашей работы.
Первая трудность заключается в том, что даже пристальное и скрупулезное чтение художественных опытов Ф.А. Степуна едва ли позволяет провести внутри его литературных текстов четкую демаркационную линию между философским размышлением и эмоционально-психологическим авторским высказыванием, отчего поэтика и стилистика его романов приобретает синкретичный и пограничный характер. Вторая сложность мотивирована следующим. Романные эксперименты Ф.А. Степуна, в отличие от его базовых религиозно-философских трактатов, как при жизни автора, так и после его смерти практически не находились в фокусе внимания теоретиков русской религиозной мысли или профессиональных исследователей творчества Степуна (В.К. Кантор, А.А. Ермичев, А.В. Штаммлер и др.).
Предварительное зондирование этих сложностей позволяет нам обозначить специфику диссертационного исследования. Во-первых, оно предполагает детальный анализ синтетической романной формы с привлечением широкого инструментария философской мысли. Во-вторых, введение в научный филологический обиход малоизученных и ранее не прошедших системную обработку фактов и сведений из культурной истории русской литературы начала прошлого века.
Предметом диссертационного исследования являются два романа Ф.А. Степуна - «Из писем прапорщика-артиллериста» (первое издание - 1918 г., Москва, под псевдонимом Н. Лугин) и «Николай Переслегин» (первое издание - 1929 г., Париж, «Современные записки»). Чтобы продемонстрировать в дальнейшем зависимость литературных пристрастий и вкусов Степуна от его религиозно-метафизических кредо, приведем краткую биографическую справку об основных этапах эволюции его логико-познавательной системы.
В период до революции 1917 года Степун изучал философию в Гейдельберге, был убежденным неокантианцем и, по возвращении в Россию в 10-ые годы, редактировал журнал «Логос». Степун, по словам А.А. Ермичева, «отстаивал религиозно-реалистический символизм - понимание искусства не как отражения видимого мира, а как обозначения мира невидимого»1. Подобная модификация символизма предписывает автору мистико-религиозное видение реальности, прослеживаемое и в первом, и во втором его романе.
Интереснейшая теоретико-познавательная интрига этого периода творчества Степуна связана с разработкой им (совместно с адептами «научной метафизики» СИ. Гессеном, Э.К. Метнером и Б.В. Яковенко) культурно-идеологической политики международного ежегодника по философии культуры «Логос» (1910-14, 1925 годы). Степун и его сподвижники пропагандировали прозападную позицию: они настаивали на оснащении интуитивного религиозного поиска . строгой научно-академической методологией теоретического знания, соотнесенной с практическими результатами в культурно-экономической сфере.
В качестве одной из главенствующих задач философского ежегодника Степун называет «подведение методологического фундамента под научно...малоозабоченную русскую философию, как религиозно интуитивного, так и марксистско-догматического характера»2. Редакторы и сотрудники «Логоса» отстаивали приоритет критико-анал этического инструментария, отсыпающего одновременно к постулатам неокантианства, символизма, немецкого романтизма (Новалис, А. и Фр. Шлегелей, Шеллинг и Фихте) и религиозного мистицизма (Мейстер Экхарт, Я. Беме, Э. Сведенборг, Фр. Баадер, и, в сфере поэтического творчества, Мильтон, Блейк, Гельдерлин и Рильке).
При этом они выступали с оппозицией неославянофильской доктрине консервативного почвенничества, проповедуемой кругом журнала «Путь». В образовавшийся вокруг этого журнала элитарный кружок входили такие знаковые для религиозной философии Серебряного века фигуры как П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн, Е.Н. Трубецкой и Н.А. Бердяев. Но и ожесточенная полемика, и конструктивный диалог между представителями «Логоса» и журнала «Путь» были проявлением, по мнению В.К. Кантора, артистического духа эпохи3.
Карнавальный артистизм, маскарадная пластичность и эстетический релятивизм ее ярких представителей позволили многим «логосовцам», в том числе и Степуну, позднее перейти к радикально противоположным, православно каноническим воззрениям. Интенсивный духовный поиск, постоянная тренировка самосознания вместе с установкой на «рентгеноскопию» эпохи (эта метафора принадлежит Кантору, увидевшему в текстах Степуна рентгенограмму «человека вполне определенной эпохи, а также и страны»4), с максимальной степенью артистизма и саморефлексии преломились в романе «Из писем прапорщика-артиллериста». Здесь оказались обыграны практически все ролевые маски, подмеченные Кантором в артистическом жизнеповедении Степуна и позволившие философу быть «абсолютно адекватным»5 своей эпохе и самому себе.
Философский роман «Из писем прапорщика-артиллериста» является редким для русской литературной традиции, органичным сочетанием автобиографической исповеди и философско-критического эссе. Пожалуй, наиболее специфичным моментом романного построения служит почти буквальное следование сюжетной линии всем перипетиям воинской биографии автора. В начале октября 1914 года он определяется прапорщиком 5-й батареи 12-й Сибирской стрелково-артиллерийской бригады, сформированной в Иркутске и отправленной на Галицийский фронт. Бригада выступила из Львова и после шести месяцев изнурительных боев, обернувшихся ощутимыми потерями в личном и командно-офицерском составе, она была дислоцирована в целях пополнения под Ригой. Там, в Куртенгофском лагере, она продержалась в многочисленных стычках с неприятелем на протяжении четырех месяцев, с июля до октября 1915 года.
В результате несчастного случая - военные сани, где ехал Степун, перевернулись после того, как их понесли перепуганные молодые жеребцы, -философ попадает в полевой госпиталь. Полные одиннадцать месяцев он излечивается в лазаретах Риги, Пскова, Москвы и Ессентуков, где по настоятельному увещеванию М.О. Гершензона трудится над эпистолярным романом «Из писем прапорщика-артиллериста». Впервые роман опубликован в журнале «Северные записки» (№ 7-9, 1916 год) и, по замечанию М. Галахтина, был признан критиками «одной из лучших книг о 1-й мировой войне»6.
Вторая версия романа, в отличие от первой, значительно искаженной и сокращенной по цензурным соображениям, появилась в Москве в 1918 году под маркой издательства «Задруга». В нее были добавлены письма 1916-1917 годов. Кроме того, она соседствовала с фактографическим донесением эсера-террориста Б.В. Савинкова, выступавшего, подобно Степуну, под псевдонимом. Донесение «Из действующей армии (лето 1917 г.)» было подписано: В. Ропшин.
Следует отметить также и череду переизданий романа на рубеже 20-х годов. Они свидетельствуют о прочном и неслучайном интересе современников к этому документально-историософскому роману. Сразу в послереволюционную эпоху за московским изданием следуют три его идентичных воспроизведения: Одесса, 1919; Берлин, 1923; Прага, 1926. После середины 20-х публичный интерес к философским романам Степуна постепенно спадает. Вторично его романы попадают в поле критического внимания только к середине 1990-х годов, когда массово начинают издаваться философские, публицистические и беллетристические сочинения Степуна7.
Причины повторного извлечения идей и трудов Степуна из запасников культурного архива связаны не только с высоким литературным качеством его философского письма (недостаточно оцененным современниками), но и с неожиданно оказавшимся созвучным современности социологическим и антропологическим уклоном его анализа, не частым в озабоченной мессианскими прозрениями русской религиозной мысли. Позднейшее переиздание романа в 2000 году воспроизводит послереволюционный, дополненный вариант романа.
Нельзя сказать, чтобы содержащий актуальные логико-философские концепции роман Степуна был полноценно воспринят русской литературной критикой. Конечно, речь идет об ее эмигрантском «втором фронте». Об ее советских клевретах и партийных идеологах говорить не приходится: они опального, изгнанного в 1922 году из Советской России философа окружили тотальным «заговором молчания». Долгое время на само имя философа накладывалось строжайшее вето.
В двадцатые годы в эмигрантской прессе было напечатано несколько идеологически ангажированных и патетичных рецензий на роман Степуна (в том числе, Б.К. Зайцева, Д.С. Чижевского, С.Я. Эфрона и др.8). В рецензии на пражское переиздание романа Степуна Б.К. Зайцев предлагает лаконичную характеристику сюжетно-фабульных и семантических особенностей романа: «Пишет письма - жене, матери, еще кое-кому - артиллерийский прапорщик, философ с артистической натурой, на великих немцах вскормленный, но очень русский по нутру, наблюдательный, умеющий рассказать и показать, пишущий русским слогом кругловатым и полным, по профессии склонный к философствованию и книгу этим не перегружающий»9.
В отличие от Зайцева и других рецензентов, высоко оценивающих смысловые и композиционные достоинства романа, анонимный автор отклика на то же пражское издание романа (он фигурирует под инициалом «- Й.») критикует Степуна за преобладание в его романе научного истолкования «идеи веры» над благоговейным исповедованием самой веры. Точнее, автор рецензии упрекает Степуна в отсутствии у него «достаточного основания» веры: «опираясь на один «камень мысли», автор с какой-то предопределенностью забывает о другом. Может быть, он склонен считать все свои камни устроения лишь странами одного большого цельного камня, -но в жизни, то есть, в «письмах» своих, он не может этого сделать, потому что не имеет для этого простого достаточного основания»10.
Творческий метод Степуна рецензент видит в страстной и убежденной приверженности Степуна к рационально-логическому восприятию «идеи мысли», называемому автором статьи «эмпирией мысли». Спрашивая, «в жертву чему приносит сам Николай Федорович свою богатую эмпирию?»11, рецензент касается одного из неразрешимых для Степуна вопросов о согласовании между эмпирическим и трансцендентным планами военного опыта.
Оценочные суждения, высказываемые по поводу философского романа Степуна в эмигрантской критике, колебались от благосклонного приятия до упреков во вторичности и поверхностности идеологического наполнения романа. Так, в «Литературных беседах» Г.В. Адамович упрекает Степуна за концептуальную устарелость гуманистических позиций автора. «Философ на войне», якобы, воспринимает за чудовищную аномалию и преступную бесчеловечность то, что для последующих поколений сделается обыденной и даже приевшейся жизненной нормой.
Адамович пишет: «Книга эта, по существу, не нова. ... За эти последние годы человек свыкся со всяческими ужасами, и его удивляет слишком свежее, слишком болезненное отношение к ним, многословные патетические рассуждения на эту тему»12. Попутно Адамович ставит на вид Степуну (и, надо сказать, более чем несправедливо) его пропитанное «космополитическим снобизмом» игнорирование культурно-философской интеллектуальной способности Германии. Германия, по расхожим мифологемам той поры, служит оплотом филистерской тупости, чванства и пошловатости. Поэтому, по замечанию Адамовича, «к Германии у Ф. Степуна отношение двойственное: восхищение германским чистым и возвышенным духом, страх перед немецкой «мещанской» пошлостью, перед огромной кружкой пива, культом трех К и мюнхенским стилем-модерн»13. Такие не слишком обоснованные нападки убедительно опровергаются в комплиментарно-восторженном отклике Л.А. Зандера.
Зандер хвалебно подчеркивает богатство прагматических аспектов в книге Степуна: «в ней содержатся не только художественные описания фактов (а картины, рисуемые автором, остаются в памяти навсегда), но целая философия - жизненная проверка всего, что Ф.А. Степун передумал и перечитал в годы своего «учения»»14. Трудно обойти вниманием и ценные рассуждения Зандера о жанровой семантике романа. По его мнению, она функционально зависит от личного авторского опыта конкретного переживания войны. Благодаря экстраполяции этого опыта, военный дневник преобразуется в эпическую литературную «сагу». По словам Зандера, «поскольку война означала вечное передвижение с места на место и от одной человеческой души к другой, можно сказать, что эта книжка содержит в себе рассказ о годах странствий (Wanderjahre), сменивших года учения (Lehrjahre) современного нам Вильгельма Мейстера...»15. Путем сопоставления с просветительско-биографическими романами Гете, Зандер обосновывает жанровую специфику книги Степуна: она скрещивает в себе элементы авторской исповеди, романа испытания и романа странствий.
В работе Зандера обнаруживаем любопытную классификацию сюжетно-семантических планов в романе Степуна. Она предоставляет нам важную интерпретационную схему для объяснения идейных конфликтов и композиционных особенностей романа. По замечанию Зандера, «три указанных плана, которые различаем в этой книге, соответствуют трем началам, о которых нам говорил наш учитель Виндельбанд: лично-биографическому, национально-культурно-историческому, «прагматически»-вневременному и философскому»16.
Очевидно, неприятие философского романа Степуна по причине его декларативно западнического, картезианского подхода к феноменологии войны, в принципе, сбрасывающего со счетов мистику религиозного душеспасения, было свойственно первоначально многим православно-утопическим мыслителям евразийского толка. Так, СМ. Половинкин в послесловии к томскому изданию романа приводит выдержки из беседы только-только выписанного из госпиталя Степуна с И.А. Ильиным.
В своих мемуарах Ильин квалифицирует Степуна как «германофила-пораженца», отмечает, что тот «развивал военный пессимизм» и «с одинаковым отвращением относился как к идее победившей Германии, так и к идее победившей России»17. Позднее Степун подвергает ревизии пессимистическую и фаталистическую позицию военного времени. Задним числом он комментирует свое метафизическое кредо той поры как сознательно следование славянофильски-соловьевской парадигме18.
После революций 1917 года Степун постепенно отходит от прозападных воззрений, смешивающих неокантианство, марксистскую догматику и позитивистскую критику общества. Он принимается детально разрабатывать мистико-религиозную концепцию Жизни в ее творческом аспекте, представляющую собой «воплощение всеединства духа, не поддающееся законам формальной логики» и придающую культуре «экзистенциально-эстетические мотивы»19. Умонастроения Степуна послереволюционного периода возможно определить как либеральный вариант христианского гуманизма; традиционные христианские ценности он, таким образом, толкует в антропологическом аспекте.
Многообразие биографического и профессионального опыта Степуна в послереволюционную эпоху проиллюстрировано в очерке Ермичева, России пошла по двум главным руслам: надо было просто выжить - и он занимался тем, чем занимались все: мешочничал, торговал на рынке вещами ... ; кроме того, надо было служить и нельзя было не творить - и Ф.А. Степун (вместе с Андреем Белым и Г.Г. Шпетом) работает в исторической секции ТЕО Наркомпроса, становится завлитом ... , издает альманах «Шиповник» (вышел один номер), пишет роман «Николай Переслегин», наконец, - видимо, это и подвело его под «статью» о высылке - он активно участвует в работе созданной Н.А. Бердяевым и С.Л. Франком Вольной академии духовной культуры»20. Осень 1922 года совпадает с фатальным и рубежным событием в биографии Степуна: он насильственно выслан из Советской России с группой духовных лидеров русской религиозной мысли, позднее составивших наиболее деятельный костяк «первой волны» русской эмиграции.
Поселившись в Берлине, Степун делается одним из самых активных и работоспособных авторитетов эмигрантского христиански-демократического сообщества. Он заведует литературно-художественным отделом журнала «Современные записки» (цикл публицистических заметок Степуна «Мысли о России» публиковался на протяжении десяти номеров с 1923 по 1928 г.) и совместно с Г.П. Федотовым и И.И. Фондаминским редактирует журнал «Новый град» (Париж, 1931-1939 годы). Наряду с Г.П. Федотовым, Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым, Н.О. Лосским он разрабатывает утопическую риторику христианского социализма.
Здесь следует сказать несколько поясняющих фраз о политико-идеологической программе «новограддев». В первую очередь, они утверждали приоритет спонтанного духовного поиска над однозначным постулированием догматических истин. Как замечает М. Галахтин, «возможность выхода из глубокого духовного, социального и экономического кризиса, поразившего мир, они («новоградцы - К.К.Б.) связывали «с христианской культурой средневековья, со свободолюбивым гуманизмом Возрождения и либеральным социализмом ... »»21. Политические воззрения Степуна были достаточно пластичны и одновременно жестко привязаны к право-либеральному, консервативному социальному строительству По словам А.В. Штаммлера, «его (Степуна - К.К.Б.) политическая позиция русского христианского демократа, с первоначальным тяготением к правому крылу партии социал-революционеров, общеизвестна»22.
В пределах данного диссертационного исследования мы не вправе обстоятельно останавливаться на формировании и эволюции социально-политической доктрины Степуна. Но для более четкого и всестороннего понимания христианско-социалистической идеи всеединства, заложенной в основе романной философии любви («Николай Переслегин»), необходимо кратко упомянуть, каким образом «новоградцы» отвечали на злободневный для них духовный запрос - «как верить?». В чем специфика христианско-демократической веры в соборный идеал любви?
Основные стратегии социалистического христианства «новоградцев», направленные на постижение и передачу трансцендентной истины, проанализированы в статье А.А. Ермичева о христианском видении России в сочинениях Степуна. По мнению специалиста, методология мысли Степуна эпохи приверженности «новоградству» обретает «свою целостность в формуле, предложенной Ф.А. Степуном в статье «Пути творческой революции» в первом номере «Нового града». Эта формула - «духоверческий свободолюбивый социализм», то есть, единство христианской идеи абсолютной истины, гуманистически-просвещенной идеи политической свободы и социалистической идеи социально-экономической справедливости»23.
Если учесть, что, по словам Ермичева, «само «новоградство» в таком случае обнаруживало себя социальной педагогикой и антропологией»24, то книги Степуна 20-30-х годов («Жизнь и творчество» (Берлин, 1923), «Основные проблемы театра» (Берлин, 1923), «Русская душа и революция» (нем. изд. - Берн, 1934; англ. изд. - Нью-Йорк, 1935)) оказались уникальным сочетанием антропологической этики и антиметафизического импульса. Неприятие Степуном догм западной метафизики выражалось, по словам В.В. Зеньковского, в том, что в религиозности им усматривалась «вне трансцендентальная установка, дающая «знание Бога живого»»25. Антропологические искания Степуна сводились к описанию и классификации форм артистического поведения.
Артистические маски и амплуа, примеряемые философами, служат для Степуна примерами театрализованной активности религиозного самосознания. В энциклопедическом комментарии А.А. Ермичев отмечает, что «Степун выделял три типа души (три типа личностей) - мещанскую, мистическую и артистическую. Первая сознательно или бессознательно подавляет многодушие ради практически стойкой и удобной жизни как факта. Вторая, непосредственно сливаясь с Богом, закрывает себе путь к творчеству. Только артистическая душа равно утверждает единодушие и многодушие, полюс жизни и творчества как подвижное равновесие «рассыпающегося богатства и строящегося единства»»26. Литературное, мемуарно-биографическое и феноменологическое исследование актерской души представлено в романе «Николай Переслегин», впервые опубликованном в Париже в 1929 году.
К осуществлению замысла философско-эпистолярного романа, содержащего авторскую версию платонически-соловьевской метафизики любви, Степун приступает в начале 1920-х годов. .В этот период он уединяется в бывшем имении жены, организовывая там с разрешения местного исполкома сельскохозяйственную коммуну и одновременно работая над черновой рукописью романа. Свидетельства о подготовке предварительного варианта романа в России находим в эссе «Мысли о России»: «после буйного помешательства коммунистической Москвы - снова тихое безумие деревенской жизни. В валенках выше колен, в шлеме и напульсниках я сижу и целыми днями пишу роман: письма из Флоренции и Гейдельберга»27. Степун продолжает реализовывать замысел уже в берлинской эмиграции, публикуя роман в журнале «Современные записки» (Кн. 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25). Окончательная сюжетно-фабульная и стилистическая редакция романа охарактеризована в сжатом резюме В. Казака: «Николай Переслегин - автобиографический роман в письмах, в котором Степун показывает любовь молодого, потерявшего жену русского человека к замужней женщине, начиная с письменного сближения до нового брака. Он проникает в основные вопросы эроса, брака и смерти с точки зрения религии, философии и психологии»28. После отдельного русскоязычного издания романа 1929 года, следуют еще три переводных, немецких варианта29, после чего роман Степуна возвращается в широкий читательский обиход уже благодаря его современному переизданию во второй половине девяностых.
Роман Степуна обладает синкретической жанровой и смысловой фактурой, что недвусмысленно подчеркивает в своей характеристике романа М. Галахтин: «опираясь в своих философских интуициях на учения о положительном всеединстве и цельном знании Вл.Соловьева и славянофилов, Степун придерживался стратегии синтеза всех человеческих познавательных способностей. ... Наиболее ярко этот синтез нашел свое выражение в религиозно-философском романе в письмах «Николай Переслегин» (Париж, 1929) и мемуарах «Бывшее и несбывшееся» (тт. 1-2 Нью-Йорк, 1956)» . Хотя роман сразу же после выхода был благосклонно встречен эмигрантской общественностью и отрецензирован в прессе и серьезных критико-публицистических изданиях31, аналитического отклика в филологической среде он не нашел. Главным образом, по причине его несколько громоздкой перегруженности метафизическими спекуляциями, нередко оторванными от литературных принципов повествования.
На эту особенность романа - досадное несогласование в нем литературных кодов и рационалистических построений - обращает внимание А.А. Ермичев. Исследователь делает вывод о концептуальной неудаче романа, не сумевшего выстроить баланс между философским и художественным содержанием: «На социально-политический рисунок времени роман явно не «ложился». Содержание романа образуется сложными взаимодействиями участников двух смежных любовных треугольников, и совсем в духе соловьевского «Смысла любви» герой раздираем между Афродитой земной и Афродитой небесной. Роман автобиографичен; героев его мы узнаем потом, в воспоминаниях Степуна, и уже потому в нем едва ли есть заданность раскрытия философской идеи» . Таким образом, репутация романа в русской эмигрантской критике и, позднее, в историко-литературной ревизии наследия Степуна едва ли была однозначной, неоспоримой и безукоризненной.
Ю. Архипов отчасти реабилитирует философски-беллетристическую «широту» романа Степуна: «Неоромантик Степун выступил даже в двадцатые годы в типично романтическом жанре романа в письмах, и его «Николай Переслегин» (1926) не так плох, как рожденная предвзятостью репутация этого романа»33. В свою очередь, А. Штаммлер считает, что с мистико-религиозной точки зрения роман Степуна послужил выражением пронизывающей все его метафизические догадки внутренней свободы («внутренняя свобода была связана с его пониманием истины, пониманием, коренившимся в его глубокой религиозности»34).
В сочувственной и доказательной рецензии Г. Адамовича перечислен спектр дискуссионных вопросов, возникающих при добросовестной критической рецепции романа, по словам рецензента, имеющего «большие достоинства и большие недостатки»35. Первая проблема, выявленная Адамовичем, - степень автобиографичности романа и коэффициент соответствия сюжетного вымысла и достоверной биографии автора. Предлагая упрощенное, хотя и вполне четкое определение автобиографичности («Автобиографическим роман называет в тех случаях, когда автор его сливается со своим героем и, говоря от его имени, говорит от себя»36), рецензент очерчивает предмет переслегинских раздумий и сферу его самоанализа. Таким образом, он закономерно заостряет узловой вопрос романного автобиографизма, - «отвечает ли автор за эти раздумья и являются ли они его личными мыслями, или он их придумал только для того, чтобы ярче охарактеризовать своего придуманного героя?»37. Адамович устанавливает абсолютное тождество автора и персонажа, утверждая, что «Переслегин от автора не отторжим», что «Степун и Переслегин это одно лицо, один писатель»38. Ему удается показать как позитивные, так и негативные последствия подобного уподобления (один из отрицательных результатов слияния автора и персонажа - то, что реальность, окружающая героя, «служит лишь бледной иллюстрацией к его надеждам, думам, догадкам и верованиям»39).
Справедливый упрек, выдвинутый Адамовичем в адрес философско-аналитической манеры Степуна, сводится к преобладанию в романе афористически лаконичной, изящно отточенной «игры» мыслями и метафизическими парадигмами (подобная игровая техника высказывания Высших Истин, в принципе, была чужда серьезной и временами патетично трагической, классицистской поэтике Адамовича). Бряцание и щегольство спекулятивными выкладками, свойственное «переслегинству», то есть, восторженному копированию русской мыслящей элитой стандартов и обыкновений западного философствования, по мнению Адамовича, придает книге двойственный характер. В ней все «и глубоко, и пусто, очень умно и очень поверхностно»40.
Мы не согласны с упреком в «поверхностности» философского романа Степуна; тем не менее, стоит прислушаться к проницательному замечанию Адамовича о том, что «Николай Переслегин» «это не роман идей, а роман разговоров об идеях; не роман страстей, а роман рассуждений о страстях»41. То, что Адамович ставит в вину роману Степуна, с другой стороны медали оказывается основным структурным изобретением романной поэтики, позволившей самую многогранную философскую мысль облечь в наиболее ей подходящую метафорическую и риторическую «упаковку». Любопытны наблюдения Адамовича о произведенных Степуном трансформациях в жанровых устоях эпистолярной формы, позволявшей просвещенческим сатирикам и утопистам бичевать сословную чопорность аристократической манеры общения и вплетать в письмо едкую сентенцию, Степун допускает стилистическое излишество и эффектную фразеологию письма ради создания живого, развивающегося «художественного образа» идеи, а не ее готовой, расчисленной «болванки».
Рецензия Адамовича, пожалуй, в наибольшей степени разоблачает и критикует все представляемые Переслегиным противоречия русского интеллигентского сознания, зависящие от социо-политических и литературно-культурных веяний. Помимо выявленных Адамовичем тургеневских мотивов, в романе Степуна бросаются в глаза аллюзии к многочисленным литературным или публицистическим описаниям исторических путей русской интеллигенции, в том числе, к «идеологическим» романам Гончарова, Толстого, Достоевского, Мережковского, или же к историко-аналитическим изданиям (вроде сборников «Вехи» и «Из глубины»).
С 1930-х по 1960-ые годы Степун занимается преимущественно лекционной деятельностью. С 1926 по 1937 год он преподает на кафедре социологии в Высшем техническом училище в Дрездене, а с 1947-го вплоть до смерти в 1965-ом возглавляет специально под него открытую кафедру истории русской культуры в университете Людвига Максимилиана. В Мюнхене «он читает лекции по «Социологии русской революции», которые разрастаются до россиеведения, и по истории русского символизма, которые, видимо, и послужили основой для его последней книги «Mistische Weltschau. Ftinf Gestalten des russischen Simbolismus» («Мистическое мировоззрение. Пять авторов русского символизма», 1964)»42.
Кроме того, Степун неутомимо публикуется в идейно ему импонирующей периодике русской эмиграции (в журналах «Опыты», «Вестник РСХД», «Грани», в альманахе «Мосты») и т. д.
В этот период политические воззрения Степуна подвергаются резкому консервативному крену «вправо». «Прожитые и опробованные» Степуном идейно-политические веяния и религиозно-метафизические тенденции оказались научно систематизированы и художественно преображены в литературных мемуарах «Бывшее и несбывшееся». Эта книга воспоминаний служит ценнейшим источником автобиографических сведений для понимания романной техники Степуна. Если применять предложенную М. Медарич оппозицию автобиографии и автобиографизма43, данная книга Степуна является именно эталонным образцом литературной биографии в отличие от использующих мотивы и тематические блоки автобиографизма его романов.
Первоначально мемуары Степуна публиковались по-немецки под заголовком «Прошедшее и непреходящее» (с 1947 по 1950 год в Мюнхене были изданы три тома этого монументального замысла44). Русское издание мемуаров Степуна получило заглавие «Бывшее и несбывшееся» и было напечатано в Нью-Йорке в 1956 году45. В отличие от философской беллетристики Степуна, оцененной эмигрантской критикой достаточно сдержано и холодно, мемуарные опыты мыслителя были встречены самой панегирической похвалой , что затруднило для современников компаративный анализ литературных мемуаров философа в контексте его эссеистского и романного наследия.
«Бывшее и несбывшееся», в целом, не является непосредственным предметом тематического анализа в нашем диссертационном исследовании. Тем не менее, эта книга мемуаров оказывается незаменимым кладезем сведений биографического, историко-культурного и религиозно-метафизического типа. Материал философских мемуаров позволяет при конкретном структурном и мотивном анализе ключевых эпизодов в романах
Степуна по новому понять предпосылки тех или иных моментов повествования, сюжетных коллизий или авторских логико-понятийных обобщений.
Из историко-компаративистского очерка философской и литературной биографии Степуна становится очевидно, что изучение его романной поэтики требует куда более широких и разноплановых методологических подходов, нежели имманентный метод текстуального анализа. Поэтому в нашем диссертационном исследовании будет использован понятийный и терминологический аппарат не только традиционных или новейших литературоведческих практик. Также по ходу исследования мы будем прибегать к интерпретационным приемам и познавательному инструментарию смежных с филологией социальных дисциплин (в последнее время нередко попадающих с ней в один ряд в системе гуманитарных наук).
Среди таких вспомогательных дисциплин на первый план в диссертационной работе выходят философская антропология, история русской религиозной философии во взаимосвязи с западной феноменологической традицией, социология личности и государства, а также элементы экономической теории и теории права, играющие немаловажную роль в историософских и социально-утопических концепциях Степуна47. Подсобными дисциплинами, часто доминирующими в эссеистике Степуна, но заретушированными в его романных опытах, выступают современная ему политология, левая марксистская критика и социальная психология, наиболее полноценно выраженные в серии статьей Степуна «Мысли о России». Диапазон применяемых Степуном гуманитарных дисциплин преобразуется в его романах в сложные, парадоксальные и нередко противоречивые мыслительные построения, генезис и конфигурации которых мы и намереваемся отследить в диссертационных изысканиях.
Среди трудностей, возникающих при структурно-семантическом анализе романов Степуна, следует подчеркнуть, во-первых, недостаточную степень изученности поэтической манеры Степуна с применением каких-либо однозначных филологических методологий. Во-вторых, явный дефицит работ, проясняющих идеологические и религиозные взгляды Степуна в контексте его работы с провиденциальными или бытовыми кодами классической русской литературы.
Таким образом, наша диссертационная работа оказывается первопроходческим исследованием, вводящим в научный филологический обиход малоизученный материал из истории русской духовно-религиозной и одновременно философско-аналитической культуры первой трети XX века.
В качестве главной трудности литературоведческого анализа философского романа назовем проблематичную и подчас нереальную задачу отличить в нем элементы, подлежащие филологическому прочтению, от спекулятивных построений, отсылающих уже к иной дисциплинарной системе знания (имеющей дело с метафизическими исследованиями и логико-понятийными категориями). Чтобы частично разрешить эту трудность в дальнейшем ходе диссертационной работы, обратимся к уже ставшим классическими и общеобязательными исследованиям жанровой специфики романа. Причем она изучается не только с точки зрения его имманентных сюжетно-стилевых признаков, но и в ракурсе его историчности, феноменологии и социальной прагматики.
Среди подобных философских описаний романа, в первую очередь, следует отметить такие работы, как «Теория романа» Д. Лукача (1916), «Краткий трактат о романе» (1914), «Мысли о романе» (1925), «Проблемы романа» (1927) X. Ортега-и-Гассета, «Конец романа» О.Э. Мандельштама (1922), «Искусство романа»(1939) и «Вертер Гете» (1938) Т. Манна, «Слово в романе» (1934-35), Эпос и роман» (1941), «Из предыстории романного слова» (1940) и «Роман воспитания и его значение в истории реализма» (1941) М.М. Бахтина.
Как мы видим, интенсивнейшее освоение философско-критического потенциала романа в западной и русской гуманитарной мысли происходило именно в 1910-30-ые годы, когда профессиональной философ и социолог Степун обратился к жанровой форме автобиографического романа. Будто именно она в тот период могла удовлетворить его (и не только его) запросы и взыскания новых гуманистических ценностей, особенно актуальных после диагностированного мыслителями начала века «крушения гуманизма» и «кризиса трансцендентных оснований». Трудно сказать, насколько те или иные философско-критические трактовки романа повлияли на повествовательные техники Степуна; во всяком случае, в нашей диссертации поэтико-стилистические приемы Степуна будут изучаться в комплексе с важнейшими положениями, касающимися рецепции романа в междисциплинарном гуманитарном знании.
Говоря о жанровой принадлежности романов Степуна, следует подчеркнуть их причастность к следующим романным группам: а) роман философский; б) роман любовно-психологический, по тематическому принципу, или а) роман биографический; б) роман эпистолярный, по структурному принципу. Все вышеперечисленные группы не образуют замкнутые и непроницаемые общности, а постоянно вступают в корреляции друг с другом. Философский роман и другие, пограничные или удаленные от него разновидности жанра, сочетаются в архитектонически сложные жанровые массивы. Особенно такое взаимопроникновение различных групп романного жанра всесторонне эксплуатируется в модернистской литературе.
Если мы зададимся целью прояснить принципы сосуществования различных модификаций романа в литературных произведениях Степуна, имеет смысл предварительно рассмотреть распространенные классификационные схемы в теории романа. После чего допустимо без заметных погрешностей определить, насколько та или иная схема пригодна для анализа философского романа Степуна.
Традиционная для академической теории литературы систематизация романных типов представлена в работе Е. Абрамовских. Она предлагает дифференцировать романные формы по их тематическим, внешним показателям, выделяя экстенсивный тип романа, ориентированный на критику социальной реальности, и закрытый интенсивный тип, где «все действие развивается по принципу «углубления» психологии героя»48.
Характеризуя русскую литературную традицию, она замечает, что «синтетичность романа по типу проблематики - устойчивая черта русского классического романа»4 . Хотя философский роман Степуна предполагает множество структурных отклонений от эталона классического реалистического романа, тем не менее, с точки зрения сюжетной семантики, он является синтетическим, многопроблемным текстом.
Абрамовских подробно останавливается на диахронической эволюции романа, перечисляя в хронологической последовательности его основные разновидности от барочной и маньеристской традиции XVII века до модернистской манеры рубежа веков. В частности, она приводит такие исторические типы романа, как роман плутовской, авантюрный, социально-бытовой, психологический, социально-психологический, философский, а также, хотя и без навешивания готовых терминологических ярлыков, романы модернистский, неоромантический и постмодернистский. О модернистских и постмодернистских изводах классического романа автор высказывается в несколько ироничной тональности, видя в них выражение нигилистических тенденций и эстафету саморазрушения субъекта.
В нашем анализе тех камертонов, что определяют жанровую уникальность философского романа Степуна, ценным подсобным материалом послужит наблюдение Абрамовских о причинах метаморфоз русского социально-психологического романа в роман философский.
Подробным или косвенным анализом структуры философского романа, его поэтики, стилистики и прагматической функции, занимались с той или иной степенью привлечения философского лексикона такие исследователи как Э. Ауэрбах, В.В. Кожинов, А.Д. Михайлов, П.А. Гринцер, Е.М. Мелетинский50. Эти ученые крайне редко выделяют философский роман в качестве самостоятельного жанрового образования, чаще всего полагая его ответвлением от нарративной схемы социально-психологического, фантастического или публицистического романа.
В частности, в историко-типологических очерках Е.М. Мелетинского, рассматривающего происхождение европейского романа Нового времени под влиянием мифологических сюжетов или архаического эпоса, указывается на значимость для романного сознания мифологических и лирических архетипов. Благодаря им устанавливается психологический параллелизм между картинами природы и этико-психологическими состояниями персонажа51. Прием психологического параллелизма часто эксплуатирует
Степун в своих философских романах, когда описания природного ландшафта русской усадьбы или итальянских долин (будучи предельно кодифицированным воспроизведением пейзажных зарисовок в классической русской литературе) соответствуют наиболее динамичным мыслительным периодам в самопознании персонажа. Отчего можно заключить, что в философском романе Степуна функциональное значение архаической символики и мифологических аллюзий намного выше, чем в традиционной канве социально-психологического романа.
Кроме того, следует учитывать, что стилистика философского романа соответствует большинству стилистических критериев романа классического и одновременно существенно различается с их традиционным комплексом, поскольку этот роман может быть охарактеризован и как рационально-монологический, нейтральный, и как диалогический, лексически окрашенный тип повествования. Так, в философском романе по особому преломляются две стилистические тенденции, намеченные В.В. Кожиновым в качестве основной предпосылки прозаической речи, - а именно «прямая изобразительность слова и многоголосие»52. Безусловно, говоря о «многоголосии», Кожинов апеллирует к теории «полифонии» и «чужого слова» М.М. Бахтина. Но большой вопрос, насколько бахтинские феноменологические критерии романа как универсальной речевой формы идеологии применимы к изучению философского романа Степуна. По замечанию другого исследователя русского романа В. А. Богданова, философскому роману свойственно идейное «многомирье», предопределившее его знаковые композиционные и жанровые приемы: «эпопейность, спонтанный «внутренний монолог» - у Л. Толстого; полифония и синтез разнообразных жанровых особенностей от мениппеи, карнавала и мистерии до авантюрно-бульварного романа и фельетона у Достоевского»53.
Кроме того, обращаясь к тематическому анализу русского романтического и реалистического романа, проделанному «младоформалистом» Л.Я. Гинзбург в книге «О психологической прозе», философский роман Степуна возможно причислить к утонченному образцу исповедальной, «мемуарной» литературы. Она с разных точек зрения преподносит эпохальный портрет личности, что Л.Я. Гинзбург, вскрывая повышенную «семиотичность» ее поведения, определяет как «обобщенный исторический характеру? .
Согласно Гинзбург, исторический характер проявляется с большей семиотической выраженностью у людей, «сознательно символического поведения, людей, строящих свой исторический образ ... с личными предпосылками, наиболее подходящими для данной исторической модели»55. Гинзбург предлагает дифференцировать эмпирический характер и его идеализированную эпохальную противоположность.
Любопытно, что в философском романе Степуна постоянно доминирующий рассказчик, Николай Переслегин, сочетает черты эмпирического и исторического характера: каждое его суждение обнаруживает духовный разлом или трагический контрапункт между личным и эпохальным, между биографическим и всечеловеческим. Стремление Переслегина сделаться историческим символом завоеваний и кризисов русской мысли начала века (и осознаваемое фиаско этой титанической претензии) заложены в его проекте жизнетворчества. По словам Гинзбург, жизнетворчество «коренилось в романтической философии искусства и стало возможным благодаря расчленению самой жизни на низшую, эмпирическую, и идеальную»56. За жизнетворчеством кроется «задача с заведомо неудавшимся решением»57, поскольку жизнь отчаянно сопротивляется любым попыткам ее организовать следуя эстетической матрице.
Жизнетворческий крах Николая Переслегина, согласно Степуну, вызван его попытками соразмерить конкретный жизненный расклад с метафизическим чертежом реальности (чертежом его собственного изготовления). Если из книги Гинзбург нам удается уяснить некоторые аспекты философского романа на тематическом и смысловом уровне, то из теории романа, предложенной другим «младформалистом» Б.В. Томашевским, следуют его синтагматические особенности.
воедино»58 и классифицируя три типа его синтаксического построения - ступенчатое, кольцевое и параллельное, Томашевский каталогизирует роман с точки зрения системы высказывания. Такая каталогизация позволяет ему подробно остановиться на критериях эпистолярного романа.
Томашевский предлагает выделить эпистолярную форму романа в особый типологический класс, «так как условия эпистолярной формы создают совершенно особые приемы в развитии сюжета и обработке тематики»59. Каковы же эти приемы и в чем особенности сюжетно-фабульной и стилистической проработки эпистолярного романа?
Первый прием - «стесненные формы для развития фабулы, так как переписка происходит между людьми, не живущими вместе или же живущими в исключительных условиях, допускающих возможность переписки»60. Значит, форма эпистолярного романа создает условия для развития прерывистой, пунктирной фабулы. Читатель узнает о сюжетных событиях из писем, адресованных незримому корреспонденту, возможно, более осведомленному, чем обладающий ограниченным кругозором адресант.
Важная часть фабульной информации может быть скрыта от внимания автора письма, и, соответственно, доходить до читателя только в момент финальной развязки, когда все спрятанные пружины интриги становятся публичным достоянием (вспомним концовку одного из авантюрно-психологических «романов в письмах» XVIII в. «Опасные связи» Шодерло де Лакло). Дискретность фабулы в эпистолярном романе Степуна, в частности, в «Николае Переслегине», проявляется в факторе незнания и самим адресантом, и читателем романа, фактической реакции Натальи на метафизические и душевные излияния Переслегина, отчего многие психологические и событийные аспекты сюжета так и остаются не проговоренными непосредственно в тексте.
Другой прием эпистолярного романа, согласно Томашевскому, -«свободная форма для внедрения внелитературного материала, так как форма письма позволяет вводить в роман целые трактаты»61. Действительно, эпистолярная форма изложения позволяет Степуну инкрустировать в художественную ткань романа и философские, и религиозно-нравственные, и социально-исторические трактаты. Причем ответственность за такие публицистические вкрапления в лирический тон письма несет не автор романа, а прибегающий к письму в целях интимизации или самовозвеличивания персонаж.
Очевидно, предложенная Томашевским рубрикация является следствием вызывавшей активные споры на протяжении 20-х годов переоценки роли европейского романа. Он постепенно утрачивал канонические черты и превращался в неомифологическую эпопею или в отображение спонтанного «потока сознания», если использовать психологическую категорию из работы У. Джеймса. Наиболее ожесточенные дискуссии велись по поводу изменения представлений о человеческой биографии в ее романном измерении; иными словами, под вопрос ставилась сама возможность романа адекватно воспроизводить все многообразие биографических поступков и помыслов.
«Кризис романа» в те годы связывался с переносом эстетического внимания с внешнего на внутреннее (то есть, с внешнего жизненного ряда на внутреннюю многомерность человеческой психологии). Главный «водораздел» в теории романа проходит между признанием его выдуманной повествовательной структурой или видением в нем только документальной хроники, делающей традиционные беллетристические элементы необязательными и побочными эффектами повествования. Так, О. Мандельштам в статье «Конец романа» утверждает, что романная композиция измеряется степенью цельности человеческой биографии («Композиционная мера романа - человеческая биография»62). Упразднение в модернистской культуре романтического культа героя-действователя приводит к распаду романной формы.
Война как «великая покорность»: вопрос об онтологической целесообразности войны
Говоря об онтологическом, бытийственном порядке войны, следует указать некоторые кардинальные различия между восприятием войны в софиологии Соловьева, религиозном коммунизме С.Н. Булгакова, «утверждении истины» П.А. Флоренского, других доктринах русского религиозного ренессанса и в романной философии Степуна. Отметим, что онтологический аспект войны становится центральным предметом рассмотрения в метафизических работах B.C. Соловьева («Лекции о Богочеловечестве», «Кризис западной философии» и «Три разговора») и в провидческих или научно-мистических трудах П.А. Флоренского («Столп и утверждение истины»).
В сочинениях B.C. Соловьева онтология войны трактуется как важнейшая составляющая построения Богочеловечества и достижения всеединства, соборно-коллективного слияния человеческих воль и сознаний: «организация войны в государстве есть первый великий шаг на пути к осуществлению мира»т. У Соловьева война оказывается мощнейшим преобразователем традиционной метафизической оптики и превращает европейскую, картезианскую философию субъекта в космическое учение о Мировой душе, Софии. Война в ее онтологическом ракурсе является для Соловьева поворотным, рубежным эпизодом между европейским индивидуализмом и русским соборно-православным самосознанием, обеспечивая переход от феноменологии единичного субъекта к апофеозу всеединства.
В отличие от рационального или мистического обоснования онтологии войны у Соловьева и других мыслителей всеединства, в романной философии Степуна неизбежность войны утверждается с точки зрения философии Жизни (философии конкретного эмоционально-физического переживания). С точки зрения Степуна, онтологическая сущность войны представляет собой «Жизнь жизни, ее последнее и сущностное ядро»107, заслоненное маревом и пеленой бесчисленных походов, батальных мероприятий, обходных маневров и генеральных сражений, разбитых лагерей и транспорта, завязшего на перепутье («Одно орудие завязло в колдобине, другое слетело с мостика в канаву, два зарядных ящика сцепились колесами. Кое-как справившись со всем этим хаосом, мы свернули, наконец, с шоссе и укрылись в глубокой складке местности, где и простояли до двенадцати часов ночи» (С. 30)). Итак, задача романной философии Степуна - обнаружение, раскрытие онтологической сущности войны из-под оболочки случайных и переменчивых жизненных явлений.
Наиболее значимым теоретическим инструментарием Соловьева, определившим онтологическую и гносеологическую образность войны в романе Степуна, являются мистико-метафорические концепты, такие как понятие Софии, Мировой души или Мирового блага108 и доктрина Богочеловечества. В романной философии Степуна эти соловьевские терминологические находки (сделавшиеся миросозерцательными, а иногда и шаблонными, эмблемами эстетики русского символизма) преобразуются в жизненные реалии и коллизии, то есть, абстрактное подвергается материализации.
Отвлеченная лексическая окраска размышлений о войне постепенно насыщается точной конкретикой военных будней: «Батареи он не нашел, но зато зажег наш наблюдательный пункт, выкурив оттуда наблюдателей, да сильно засыпал пулями и горячими осколками пехотные окопы, наскоро вырытые и совершенно никого и ни от чего не защищающие ямки. Непонятно, почему так зря идут на свою погибель русские люди: минутами кажется, что это глупая лень, минутами - что это великая покорность обреченных» (С. 98). Риторический вопрос, задаваемый Степуном: зачем «идут на свою погибель русские люди», иными словами, в чем экзистенциальный и национальный смысл войны, разрешается не менее риторическим ответом: «из-за великой покорности».
Стилистика романной философии войны нередко складывается в результате усиленного наращивания риторических вопросов и фигур. Такая риторика высказывания о войне приводит к экспрессивному и образному изображению войны, а также, к образованию сопутствующего ему логического определения войны. Расшифровывая семантику выше цитированного эпизода, мы увидим, что предельно зримая прорисовка батальной мизансцены предопределяет образование умозрительного понятия. Тем самым, эта мизансцена как бы переводится из плана практического в план трансцендентный и идеально-сущностный.
Подача батального эпизода как выявления одной из сущностных основ войны - «великой покорности» - отсылает к соловьев ским представлениям (особенно в его мистико-католический период) о необходимости экстаза подчинения и послушания ради достижения высшего соборного блага. Пример данного отрывка далеко не единичен. В тексте романа обнаруживаются многочисленные переклички и отсылки, связывающие основные аспекты романной философии войны, систему ее «великих ценностей» (С. 116) с софиологией Соловьева. Один из важнейших ракурсов романной философии войны заключается в рассмотрении онтологической ее природы сквозь призму историко-практического опыта. «Между войною, которую мы переживаем, и нарисованною мною войною, сходства нет» (С. 68), - исходя из этой цитаты, несложно проследить амбивалентность авторского отношения к онтологическим аспектам войны. С одной стороны, романная философия осмысляет онтологический пласт войны, предстающий в самосознании центрального персонажа как «диалог с вечностью» («Как бы страшна ни казалась нам смерть - диалоги, что ее именем ведут с нами немецкие снаряды, все же диалоги с вечностью» (С.116)). С другой стороны, философское отторжение от войны, постепенно нарастающее благодаря приобретению героем экзистенциального опыта милитаристского «безумия», подрывает доверие к онтологической целесообразности войны.
Исповедь актерской души: борьба за философию и возвращение к истоку
Степун пытается отследить в историографическом и в религиозно-нравственном аспекте, насколько война разделяет или сближает русскую народно-религиозную духовность и западный рассудочный прагматизм. Парадокс в том, что установки классического европейского рационализма (особенно мистической доктрины немецкого романтизма) почитаются прапорщиком-артиллеристом, да и самим Степуном, основополагающими для формирования философского сознания.
При этом Степун отчасти разделяет точку зрения славянофильских романтиков, полагающих, что «высочайшие запросы европейского духа и глубочайшие верования русского народа таят в себе безусловно тождественный смысл ... великая культура грядущей России возможна только на основе тех западно-европейских положений, которые созрели в кающемся сознании отходящей Европы и вылились в форму романтического миросозерцания»141. Но Степун следует и профетической историософии О. Шпенглера, постулировавшего гибель и непреодолимый кризис европейской культуры в ситуации наступления цивилизационного прогресса. Вину и ответственность за фиаско западной культуры Шпенглер возлагает на авторитарную и богоборческую европейскую мысль, полагавшую субъективный человеческий разум высшей инстанцией знания, заменившей традиционную теологическую иерархию . европейского духа вызвать к жизни всю полноту Божьего мира, и жутким Ничем кончилась вся вековая культурная работа европейского человечества»143. Таким образом, Степун приводит к выводу о радикальном и непримиримом различии двух духовных типов, представляемых, с одной стороны, географическими Россией и Западом, с другой стороны, историко-метафизическими категориями, прошлым и будущим. Задачу философа на воине Степун видит в «примирении противоречивых начал» , то есть, в выработке новой историософии культуры.
Поэтому для Степуна настолько важно почерпнутое у Шпенглера понятие ландшафта. Оно обыгрывается им в описании карты боевых действий, задающей синхронность географических перемещений прапорщика-артиллериста и эволюцию его религиозно-нравственных воззрений. В понятие ландшафта Степун вкладывает не только его шпенглеровское значение культурной авансцены, но также прочитывает его в духе феноменологии Гуссерля как первичный феномен национального сознания. В частности, он объясняет разницу западной и русской ментальносте и, соответственно, философских систем, через противопоставления соотнесенных с ними ландшафтов: «если попытаться понятийно определить бросающееся в глаза различие между западноевропейским и русским ландшафтами, то можно, однако с некоторыми оговорками, сказать: южно- и западно-европейский ландшафт - это полнота формы на теснейшем пространстве, русский - это в бесконечность излучающаяся бесформенность»145. С точки зрения Степуна, такая бесконечная бесформенность, производящая множество духовных конфигураций, и объясняет мифологическую специфику феномена «русской души и русской культуры».
Война оказывается не только территорией разграничения и выяснения государственных политических интересов, но - а для Степуна даже в первую очередь - метафизической линией стыка западной рациональности и русской спонтанности. Для Степуна в театре военных действий сходятся и враждующие армии, и противоположные философские системы, и различные национально-религиозные поведенческие обычаи.
Война - не только поле ожесточенной схватки двух противоборствующих государственных и социо-культурных систем. В романе Степуна война предстает также средством обоюдного спасения. Спасение запада от нарциссизма и окаменелого самоупоения, России - от внутреннего хаоса. По словам Степуна, «германской совести грозит опасность критического окаменения. Над русским откровением повисает сумрак хаоса и бессовестности. Спасение Германии в России. Спасение России и в Германии ... Обо всем этом я очень много думал на войне» (С. 137). Степун далеко от каких-либо шовинистических взглядов: «Ниже войны Россия всею своею чудовищной эмпирической бессовестностью, выше - всем своим неподкупным и сокрушительным даром правды» (с. 138). В тоже время, он всячески подчеркивает неприспособленность (и метафизическую чуждость) России к европейской концепции войны как рационально безупречной программе математически точных боевых операций146, концепции войны, абсолютно чуждой русским национально-этническим архетипам жалости и совестливости .
Война в романной философии Степуна предстает сражением двух метафизических и нравственных систем, европейской цивилизации и русской духовности, причем обе системы нуждаются друг в друге в целях культурного выживания. В.Ф Эрн предлагает считать Первую мировую войну рубежной ситуацией, разделивший западную феноменологию и русское онтологическое мышление. Степун, занятый поисками онтологических основ Жизни жизни148, склонен присоединиться к этому мнению.
Война в рецепции прапорщика-артиллериста и самого Степуна является стадией совмещения западного и русского, рационального и хаотического, феноменологического и онтологического. Кратковременной стадией, предшествующей их последующему различению. Романная философия Степуна является уникальным опытом авторского самопознания через проекцию метафизических представлений на литературный материал, представляющий собой лирико-исповедальныи дневник военного времени.
Сюжет философского романа, так или иначе, подчинен принципу испытания философско-идеологической доктрины, утверждаемой авторским голосом и обсуждаемой (или проживаемой) различными персонажными масками. Сюжетно-фабульные линии в романе Степуна также служат для изучения идеи войны с позиций христианского гуманизма и мистики религиозного всеединства славянофильского происхождения.
Военный сюжет в романе Степуна символизирует собой, во-первых, борьбу нескольких империалистических держав за мировое господство (и за обладание абсолютной идеологической властью над сознанием современников), с другой, «борьбу за Логос», пользуясь метафорой В. Эрна. Этот внутренний, символико-философский уровень сюжета, где «борьба за философию» разворачивается в плоскости индивидуального (но чрезвычайно отзывчивого на эпохальные катастрофы сознания) оказывается иногда важнее, по крайней мере, концептуально насыщенней внешнего построения сюжета.
Философия любви между антропологией и космизмом: метафизика как преодоление эгоизма
Фундаментальное противоречие в понимании любви у B.C. Соловьева проблематизируется в трактовке любви в «Николае Переслегине». Трагизм любви в представлении Степуна мотивирован тем, что Переслегин заимствует космологическую доктрину любви-Софии из учения Соловьева. Он рассматривает любовь в космической перспективе, при этом не учитывая (или игнорируя) выявленный Бердяевым у Соловьева антропологический аспект любви. Прерогатива космологического видения любви неминуемо приводит к тезису о дематериализации мира в процессе любовного самопостижения.
Любовь приравнивается к сверхмогущественной силе, гарантирующей распад физической реальности: «Страсть тот космический пожар души, в котором в образе любимого тела перегорает во прах бренный тяготеющий земле мир. Всякая страсть — реальная дематериализация мира, и в этом смысле, верховная форма познания. Мир, не освещенный любовью,— темное царство обреченных могиле вещей; мир в свете любви — нетленное царство идей и свободы» (С. 142). Что свидетельствует об апофатике романной гносеологии, то есть, о представлении любви как высшей и творческой мировой души, проявляемой вне телесного, в отсутствии материальных привязок. Любовь оказывается высшей формой познания именно в результате приносимой ею «дематериализации» самого чувства как индивидуальной неповторимой особенности.
Апофатика романной философии любви приводит Николая Переслегина к выводу о непознаваемости или даже неосуществимости любви. В представлении Николая Переслегина любовь осуществляется в виде мессиански-утопического порыва, направленного на освобождения от сковывающих пут земной реальности. Трагической парадокс: чем сильней и неуправляемей этот порыв, тем любящий субъект все более и более увязает в материальной оболочке любви.
Степун дешифрует гносеологическую тайну любви в ощущении ее неосуществимости: «кто знает вечную тайну любви, тот знает и страшную тайну жизни - неосуществимость в жизни любви» (С. 199). Разгадка тайны любви, над которой раздумывает, ломая метафизические копья, Николай Переслегин, заключается в осознании возможности приобщиться к ней только посредством отказа от эгоизма (в терминологии Соловьева) или эгоцентризма.
Таким образом, центральной проблемой романной философии любви делается кардинальное противоречие между антропологическим измерением любви и ее космическими параметрами. Снятие этого противоречия, согласно Соловьеву, возможно через преодоление индивидуального эгоизма. В священной жертве своих эгоистических устремлений Соловьев и обнаруживает высший смысл любви: «Смысл человеческой любви вообще есть оправдание испасение индивидуальности через жертву эгомзлш»253.
Соответственно, истина любви для Соловьева приравнена к нивелировке эгоистического начала в человеке. Любовь сама по себе становится эквивалентной Истине в ее непосредственном проявлении: «Истина, как живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, называется любовью. Любовь, как действительное управления эгоизма, есть действительное оправдание и спасение индивидуальности»254. Но, в отличие от утопического пафоса идеализации любви как безэгоистичного индивидуализма у Соловьева, в романе Степуна (где демонстрируется религиозно-нравственный поиск сентиментальной («актерской») души) космическое и человеческое в любовных отношениях показаны бесповоротно разорванным.
Для Николая Переслегина искоренение в себе эгоизма возможно только в метафизических построениях. В реальной практике он сталкивается с преобладанием в своих воззрениях голоса «сентиментального человека»: «сентиментальный человек всегда живет чувством своего собственного «я» — он эгоист; поскольку его «я» в нем всегда раздвоено — он неизбежно, хотя бы и в самом, тончайшем смысле этого слова, позер» (С. 22). Сентиментальный человек обнаруживает в подлинно любимой женщине безбрежное космическое начало («в подлинной женской любви, подобной океану и всегда устрашающей мужскую душу, больше космического начала, чем во всех гордых творениях сугубо мужской современной науки» (С.20)), а в самом себе момент эгоистичного нарциссизма («Дело быть может совсем не в том, что мои глаза любят на многое смотреть, а в том, что моя душа любит себя постоянно показывать» (С. 14)).
В результате, романная философия любви оказывается и подтверждением, и опровержением софиологии Соловьева. Переслегин разделяет его максиму о том, что божественная любовь достижима только в акте преодоления эгоизма. Но при этом он убежден, что земная любовь невозможна без эгоистичной тяги к безусловному обладанию предметом любви. Обладанию не только физическому, но, в первую очередь, мистико-религиозному.
Неизбежный в реальных сценариях любви эгоизм препятствует восприятию космологических аспектов любви, превращая ее восторженное обожествление Переслегиным в - процитируем цитату из обиженного, но проницательного письма Николаю от Алексея, его друга и соперника -«бескровную риторику черствого сердца» (С. 168).
Таким образом, гносеологическое прочтение любви у Соловьева сводится к преобразованию предмета любви в идеальной образ. В результате возникает идеальное единство (по мнению Соловьева, «оно истинно есть как вечный предмет любви Божией, как Его вечное другое»255). Гносеологическое исследование метафизики любви у Степуна приводит к тезису о разрыве между ее материальными формами и ее идеальными образами.
Космизм, апокалиптичность, трагизм, сентиментальность, позерство и т.п., все эти отмеченные ранее признаки любви в романе Степуна, свидетельствует о расколотости сознания Переслегина на стремление к любви-идеалу и на погруженность в себялюбивую любовь-обладание. Подобный раскол основан на том гносеологическом принципе любви, что в одном из писем Переслегина назван «метафизическим долгом непонимания» («Сейчас вот какая во мне разверзается пропасть. Если жизнь не растворима в этике, то она тем менее растворима в логике. Если есть нравственный долг греха, то очевидно есть и метафизический долг непонимания» (С. 164)).
Сюжетные лейтмотивы и перифразы из классической традиции
Первое, на чем необходимо остановиться при разговоре о сюжетных линиях и фабульных лейтмотивах, это вопрос о внутренней сюжетной динамике, точнее, о синхронии между географическими перемещениями персонажей и временным измерением сюжета. Посмотрим, как выстроена темпоральная ось сюжета. Поскольку в эпистолярном жанре повествование образуется путем циклизации или компиляции писем, отправленных одним или несколькими адресантами, то диахрония внутри этого жанра не только вычитывается из текста, но и жестко устанавливается по точной датировке отправления письма, выставленной на условном «почтовом штемпеле» в левом углу страницы. Поэтому в эпистолярном романе хронологические границы повествования обозначены предельно пунктуально и однозначно.
Итак, благодаря таким точным маркировкам писем, мы узнаем хронологические рамки сюжета: письмо, приводящее в действие фабульные механизмы, отправлено 3-го августа 1910 года из Флоренции, а письмо, являющееся финальным аккордом сюжета, послано из Галиции 22-го декабря 1914 года. Соответственно, сюжетный цикл охватывает примерно четыре с половиной года. За этот период главный отправитель писем, Николай Переслегин, интенсивно путешествует, и прокладываемый им географический маршрут затрагивает места, имеющие повышенную символическую нагрузку в европейской и русской культурных традициях. Из Флоренции, неразрывно связанной с Ренессансом, Переслегин переносится в Гейдельберг, ассоциирующийся с немецким романтизмом. Из Москвы, представляющей символистскую культуру серебряного века, - в Сельцы, пропитанные патриархальной деревенской идиллией. Из Калуги и Корчагина, навевающих провинциальную размеренную дрему, - в имперский, классицистический Петербург. Примечательно, что при описании каждого топоса Переслегин стремится к максимальному соответствию своих психологических состояний и умственных поисков картинам окружающего ландшафта.
Итак, пространственно-временная ось развития сюжета построена на психологическом параллелизме между реальными передвижениями и духовными открытиями персонажа. Буквально на первых же страницах Степун вводит определяющую для сюжетных коллизий оппозицию любви и брака, причем рассматриваемую с различных историко-культурных точек зрения. Устами жены известного мюнхенского писателя, пресыщенной и стареющей светской львицы, женщины, по мнению Переслегина, «глубоко современной и малоинтересной», Степун предлагает саркастическую критику декадентской концепции брака, когда «верность не должна, видите ли, лишать супругов многообразия эротического опыта, а должна всего только вносить в богатство этого опыта начало цельности и закономерности» (С. 7). Такому якобы свободомыслию, а на деле ханжеству в понимании брачных отношений, Переслегин противопоставляет «осанну» внетелесной, вечной любви-полноте, наблюдаемой им в идеальных пропорциях ренессансной живописи.
Комментируя картины Боттичелли, он говорит: «плененному духу душно и тесно даже в прекраснейших женских телах, и потому, нарушая их идеально земные пропорции, он так страстно вытягивает их в певучей тоске» (С. 9). Переслегин видит антитезу приземленной, договорной системе матримониальных уз в культе любви, реализуемой в свободном, совместном движении духа и не скованной социальными обязательствами или сословными условностями. Парадоксально, тот софистический «фимиам», что он воскуряет теории духовной любви вне брачных или публичных пут, отталкивается от «скорбной красоты артистической мысли Ницше» (С. 6) и сам является типичным проявлением декадентских умонастроений.
Помимо чисто внешней, фактографической линии сюжетной эволюции, в романе прослеживается внутренняя траектория формирования авторской метафизики любви; эта траектория и составляет смысловой каркас романа. Вначале Переслегин утверждает апофеоз любви-познания, освобожденной от стесняющих ее лживых социальных факторов. В заключительном письме Переслегин разражается горестными ламентациями, неутешительный повод к которым - осознание того, что «любовь нигде не вся и потому всегда не та» (С. 223), полнейшее разочарование в познавательной функции любви.
Разочарование это, безусловно, обладает негативными характеристиками, оно знаменует непреодолимый тупик в поисках Николаем Переслегиным абсолютной истины любви в материальных объектах. Но, в целом, оно конструктивно: посредством его Переслегин переживает своеобразное озарение, суть которого он облекает в форму четкого, стоического вердикта: «если вознесение любви в полноту и исполнение и возможно, то, во всяком случае не на туманных тропах жадной мечтательности, а на великом, страдном пути, восходящем к вершине жизни, - к вере в бессмертие души» (С. 224). Обе преобладающие в романе сюжетные линии, линия передвижения персонажа в пространстве-времени и линия становления его индивидуальной метафизики любви, закольцованы; в построение сюжета «точка омега» символически совпадает с «моментом альфа», финал с началом. Объясним семантическое назначение подобной сюжетной циклизации чуть подробнее.
Отметим, что и вступительное, и завершающее роман письма отправлены с чужбины (одно - из Флоренции, другое - с Галиции). Оба письма референтны тем моментом в биографии центрального персонажа, когда его отношения с возлюбленной возможно определить как состояние разлуки. Разлуки от неведения своей страсти в начале повествования и от ее исчерпанности и фиаско в концовке. Если на внешне событийном уровне реализации сюжета любовная интрига остается как бы провальным и неудачным жизненным экспериментом, то и на уровне духовного совершенствования персонажа истина любви предстает в финале не более понятной и проявленной, нежели она была заявлена в зачине. С чем связано подобное нарочитое недоверие к прогрессу и ступенчатой эволюции в метафизическом конструировании личности?
Видимо, сразу с несколькими моментами. Во-первых, сюжет романа только на первый взгляд имеет циклическую форму; на самом деле, сюжет не столько цикличен, сколько состоит из нескольких концентрических кругов. В сюжетном пространстве Переслегин как бы несколько раз описывает полный познавательный круг, приводящий его от смиренного незнания истины любви к гордому озарению, проникновению в ее трансцендентную тайну, а..затем снова к опустошенному неведению и разуверению в ней. Структура сюжета доказывает, что познание идеи любви осуществляется концентрическими кругами, причем ни один из них не самодостаточен, а является скорее дополнением и разъяснением к другим. Каждый концентрический круг мотивирован кардинальной сменой географического ландшафта и социальных привязок, препятствующих или потворствующих влюбленным в осуществлении их связи. Этот первый момент, видимо, продиктован не только индивидуальной мыслительной манерой Степуна, но также и антиэволюционистским импульсом, вообще свойственным эстетике модернизма.