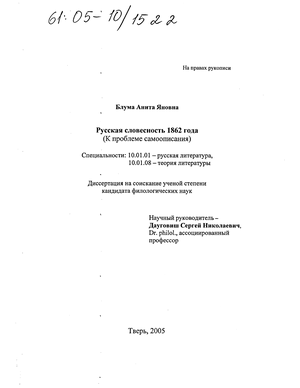Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Автор и читатель как участники литературной конвенции 26
1 Литературность авторства 26
2 Читатель как участник жанровой конвенции 31
3 Примечания 49
Глава II. Дискурс пожара 51
1 «Образы» периодики и бытование «пожарного» текста 54
2 Структурирование событийности 65
3 «Устность» как самоописание текста 119
4 Примечания 129
Глава III. Время и событие тысячелетия 131
1 Субъективации времени в тексте тысячелетия 139
2 Юбилей и овладение 159
3 Памятник тысячелетия как пространственно-пластический эквивалент субъективированного времени 180
4 Авторская функция в тексте «празднества» 212
5 Примечания 231
Заключение 234
Приложения
- Литературность авторства
- Читатель как участник жанровой конвенции
- «Образы» периодики и бытование «пожарного» текста
- Субъективации времени в тексте тысячелетия
Введение к работе
Актуальность темы. В гуманитарных науках, которые, в отличие от точных и естественных, ориентированы преимущественно на понимание как таковое, нежели на прикладное освоение опытных данных, актуальность темы всегда относительна. С одной стороны, она определяется «историческим моментом» и «общественным настроением», повышающими интерес к тем или иным текстам, с другой - естественной сменой научных парадигм. Таким образом, сегодня актуализируется переосознание казалось бы всесторонне изученной и вполне «хрестоматийной» литературной ситуации 1862 года, позволяющей провести параллели с недавним еще периодом истории России, что представляет и несомненный типологический интерес. 1862 год весьма знаменателен в истории России. Это год породивших мифы петербургских пожаров, сотносимых со сменой правительственных политических ориентации; год появления «Отцов и детей» И.С.Тургенева, вызвавших острую полемику в печати; год празднования тысячелетия России, связанного с осмыслением в русской периодике пройденного исторического пути. Литературное отражение главных событий 1862 года представляет значительный историко-литературный и герменевтический интерес.1
Объект, предмет и методологическая основа исследования. В представленной к защите работе исследование объекта осуществляется как ме-таописательная процедура, обращенная к «дискурсивной формации» (М.Фуко2). Предмет понимается нами как «языковое пространство» сосуществующих высказываний, имеющих функцию самоописания. Как явление языковое, литература обладает атрибутивным свойством саморефлексии, и в литературной картине года присутствует ее «автопортрет». Мета-
описание словесности может быть адекватным только при учете ее самоописания.
Исследование такого рода допускает присутствие «технического субъекта», наделенного лишь терминологической компетенцией и правом соблюдать установку на невмешательство в «ценностно-прагматическую реальность» русской литературы «исторического 1862 года».
«Знание», которое позволяет извлечь из себя такого рода «объект», всегда относительно и может приобретать значимость и быть обсуждаемым лишь в различных по сложности техниках «преломления материала».
Технически корректными здесь представляются:
обособление высказываний, вошедших в текстовую практику;
соположение I иерархизация обособленных фрагментов;
формализация наблюдаемых признаков;
приведение формальной конструкции в порядок, позволяющий выстраивать «научный текст»3.
Помня о том, что «текст» не то же, что «явление», но сочетаемость «условий порождения», обнаруживаемых в нем самом, мы исходим из акцидентной заданности категорий «времени» и «субъекта».
Текст - это многолинейный процесс «переоформления языка» и «привнесения в язык событий, разыгрывающихся в социуме», т.е. «стратифицированная история означений». Двоякочитаемость (язык / социум) текста и заставляет обращаться к «означениям» как таковым, рассматриваемым «вне субъектности».4
Цель и задачи исследования. Целью работы является обнаружение («прочтение») в самом годовом метатексте условий порождения его «литературности». Реконструкция такого «самоописания литературы» предполагает решение следующих задач:
учет максимального возможного числа печатных текстов 1862 года;
обработка материала при помощи статистических методов для выявле-ния частотности тем, авторских имен, жанровых определений и других признаков литературного «генотекста»;
рассмотрение основных концептов литературности: автора, читателя, жанра, темы, заглавия текста, определяющих поэтику словесности 1862 года;
исследование наименее изученных дискурсов событийности (петербургских пожаров, празднования тысячелетия России);
схематизация материала в виде справочных таблиц и графиков, помогающих читателю ориентироваться в результатах исследования, а также по-лучить представление о тех фрагментах «текста 1862 года», которые не отражены в метаописании.
Хронологические рамки исследования. Материал исследования ограничен хронологическими рамками одного года, что позволяет провести наблюдения над значительным числом текстов, в достаточной степени учитывая набор тем, сюжетов и имен, чтобы сделать возможным определение частотности литературных реалий, избегая случайности их отбора.
Поскольку целью исследования не является диахронное рассмотрение литературы в сопоставлении с ее предшествующей и последующей фаза-ми развития, выбор года должен считаться произвольным. Однако ситуация «взрыва» в общественной и литературной жизни начала 60-х годов (всеобщая установка на «гласность» и проч.) позволяют предположить более разнообразное обнаружение искомых «признаков литературности».
Источниковую базу исследования составляют печатные тексты, опубликованные-в 1862 году на русском языке. Исходя из гипотезы о множественности определений «литературы», о размытости границ между
«литературой» и.«не-литературой» в 1862 году, представлялось невозможным и недопустимым априорное выдвижение критериев литературности для ограничения материала исследования, поэтому учтены все печатные тексты: опубликованные в русских периодических изданиях, вышедшие отдельными книгами, брошюрами, листками, а также - в «Сборнике статей, не дозволенных цензурою в 1862 году», напечатанном в конце того же 1862 года. Исключение составляют тексты, опубликованные в губернских и епархиальных ведомостях, которые по большей части имеют сугубо информативно-прикладной характер. Таким образом, источниковую базу исследования, составляют более 15 000 текстов русской словесности. Подробно анализируются тексты, отражающие основные события 1862 года - петербургские пожары (221 публикация) и празднование тысячелетия России (238).
Материалом исследования не являются рукописные тексты 1862 года, поэтому письма, дневники, воспоминания, относящиеся к рассматриваемому периоду и опубликованные уже после 1862 года, а также некоторые неопубликованные архивные материалы использованы в работе преимущественно в качеств справочных источников.
Степень разработанности проблемы и научная новизна исследования. Литературной и общественной жизни 60-х годов XIX века посвящены многочисленные работы русских и зарубежных литературоведов и историков. Многоаспектно изучены произведения крупнейших писателей этого периода (см. труды Э.Г.Бабаева, А.И.Батюто, Н.Ф.Будановой, Г.А. Бялого, В.В.Гиппиуса, В.С.Дороватовской-Любимовой, Г.Б. Курляндской, Л.М.Лотман, А.Мазона, В.М.Марковича, В.А.Твардовской, В.Н.Топорова, В.Ю.Троицкого, В.А.Туниманова, Г.М.Фридлендера, А.Г.Цейтлина), общественно-политический и литературный контекст времени (исследова-
ния Дж.Брукса, Б.Ф.Егорова, К.Келли, И.А.Паперно, А.И.Рейтблата, П.С. Рейфмана, И.ГЛмпольского), история цензуры (Н.А.Гринченко, В.С.Из-мозик, Н.Г.Патрушева, В.А.Сомов, И.П.Фут, Д.А.Эльяшевич), издательская и книгопродавческая деятельность (И.Е.Баренбаум, А.И.Рейтблат), описаны и частично опубликованы архивные материалы, относящиеся к этому периоду. Однако представление о литературной ситуации 60-х годов не может быть полным без учета текстов, не вошедших в «золотой фонд русской классики», но отражающих характерную для эпохи демократизацию литературы, ее выраженные политематичность и полифункциональность, подвижность (расшатывание) литературных норм, активный поиск средств публичного самовыражения.
Многочисленные исследования посвящены основным событиям 1862 года. Особо следует отметить труды М.К.Лемке, Б.П.Козьмина, С.А.Рей-сера, Н.Г.Розенблюма о петербургских пожарах и О.Майоровой о праздновании тысячелетия России, в которых события представлены главным образом как исторические факты. Тем не менее обилие текстовых манифестаций «петербургских бедствий», а также юбилея России, требует рассмотрения этих событий и как фактов литературы.
Монопроблемность, а равно - солидарность vs. «критическое» истолкование литературных фактов их интерпретаторами в ряде предшествующих исследований могут быть скорректированы путем максимального расширения корпуса изучаемых текстов (в идеале - всех публикаций рассматриваемого периода) и применении таких нейтральных способов описания, как отбор текстов по принципу частотности и экспозиция в «самоописании литературы». В разработке и применении методики «самоописания литературы» и заключается новизна предпринятого исследования.
Научно-практическая значимость исследования. Сделанные в работе выводы могут представлять интерес для специалистов в области литературоведения, фольклористики, культурологии, истории, социологии и могут быть использованы при подготовке лекций, спецкурсов, в дальнейших типологических исследованиях дискурса русской литературы XIX века. Списки источников, а также статистические данные, представленные в Приложениях к работе, являются справочным материалом для изучения литературной и общественной жизни 1862 года.
***
Обозначенные в заглавии хронологические рамки - 1862 год -, которыми ограничен материал исследования, конвенциональны и, вместе с тем, «естественны». Характерное для середины века «господство периодической литературы» над «литературой отдельных изданий» означает ориентацию на читателя не идеального, а реального, живущего «по законам природы» («с наступлением теплой погоды» он «перебирается на дачу», где нужно чтение, «разгоняющее скуку») и по календарю (ему «хочется в великий пост почитать святое», а к Елке иметь широкий выбор подарочных книжек). Таким образом, полный годовой комплект периодики и «праздничной литературы» предоставляет и «полный» (циклизованный) набор тем, жанровых форм, авторских ролей, возобновляющихся из года в год.
Если учесть неизменно сохраняющуюся в культуре в целом (хотя и ослабевающую после «времени Белинского» в литературе) традицию «годовой отчетности», то можно говорить и об осознанно деятельном (не только «естественно» ощущаемом) завершении годового цикла, ведь в
«литературной и' общественной жизни» (все-таки строго не зависящей от
погоды) конец старого и наступление нового года не что иное как семио-тическая процедура актуализации знаков прошедшего и будущего времени, которые могут взаимодействовать по-разному. Так, можно говорить, что «Русь в январе Рубикон перейдет» и «все в нашем отечестве потечет по-новому» (передразнивание увлекающихся «прогрессистов» Д.Минаевым) или же уверять, как это делают преимущественно редакторы периодических изданий (в конце 1861, 1862 и 1863 года), что «в будущем году редакция будет преследовать те же цели, которым она посвятила себя в этом году» и «направление журнала не изменится». Т.е., в такие моменты не столь важно, что именно сказать, но важно говорить, поэтому даже вполне естественно предполагать (подобно одному из «лингвистов-этимологов», обнародовавшему свои соображения как раз по поводу наступления 1862 года), что «год коренное слово, от которого, вероятно, происходит и глагол гадать, т.е., говорить».5 Следовательно, моменты смены лет подходят и для «вклинивания» взгляда «стороннего наблюдателя», так как сами по себе они говорящего ни к чему не обязывают и ничего ему не предписывают, но предоставляют удобную точку видения и отсчета. Как писал один из публицистов, «по частям явления бывают как-то невидны,
да и судить о них как-то неудобно в то время, когда они только что совер-
6 шаются; но иное дело, когда начинаешь подводить им итог».
Итак, год маркирван, выделен в ходе времени прежде всего событиями, поэтому любопытно проследить, каким в последние дни декабря виделся современнику уходящий 1862 год. «Мы прощаемся с 1862 годом, - писал сотрудник «Сына отечества», — прежде всего как с годом, в который Россия закончила свое тысячелетнее существование и вступила в новую тысячу лет. <...> Мы прощаемся далее с 1862 годом, как с годом великих реформ. Монаршей волей в этот год много доброго сделано для России <...>. <...> обнародованы положения нового судопроизводства и судоустройства - гласного, того, чем хвалится Европа, как лучшим
своим учреждением. <.„> судебная реформа станет рядом в истории с освобождением крестьян. Этими реформами Россия догоняет Европу и становится в уровень с ней. Важное преобразование готовится также и в заявленном преобразовании земских, губернских и уездных учреждений <...>. Не забудем работ и трудов комиссий по состав-лению нового устава русских университетов и устава цензурного; не забудем хода крестьянского вопроса, наконец вспомним и то, что настоящий год - последний год владычества откупов. <...>
Литература, например, приобрела довольно хороших произведений. Так в течение этого года явилась драма г. Островского «Козьма Минин», рассказ г. Писемского «Батька», «Записки из Мертвого Дома» г. Достоевского; явилось довольно и произведений второстепенных талантов; явилось довольно и дельных книг. <...> Во всяком случае в течение этого года литературой сделаны некоторые приобретения. Можно-бы сказать то же и о народном просвещении. <...>
Но обертываем медаль, и каким тяжелым и трудным тот же год является перед нами. Каким страшным и грустным становится воспоминание о нем. С одной стороны мы видим постоянные волнения и неурядицы в Варшаве, частые в ней демонстрации, заговоры, даже покушения на убийство таких лиц, как Великий Князь Наместник, вызывающие как наказание виселицу и расстреливание, с другой - слышим о голоде в Финляндии, о нужде наших ближних в числе более трехсот тысяч в куске насущного хлеба. В то же время в Петербурге следует несколько страшных один за другим пожаров, которые наводят ужас на всех жителей. Не избегла этого бедствия и провинция <...>. Ко всему-то этому присоединилась еще подпольная литература - плод несчастного увлечения; стали являться какие-то листки - пустого, но запрещенного содержания. Все это вызвало со стороны правительства строгости, особенные меры, аресты, заключения. <„.>
Обращаясь к литературе, видим, что и ей не совсем-то посчастливилось. Три журнала были запрещены и два из них безмолвствуют еще до-сих-пор. Да и вообще она как-то стала менее оживлена, некоторые писатели круто повернули назад и стали явно восставать против того, что говорили и утверждали сами же. Мы видели в этой литературе несколько таких скандалов, каких мы не желали видеть в ней. Наконец, в этом же году закрыты народные читальни, закрыты некоторые воскресные школы, стоял закрытым здешний университет, умолкли публичные лекции, нет пока и помину о пуб-
личных чтениях. Все это и заставляет нас, прощаясь с 1862 годом, как годом важным в жизни России, проститься с другой стороны с ним и как с годом трудным и не без болезни прожитым, и пожелать, чтобы он в этом отношении не повторялся.»7
Для литературоведческого исследования все эти события, конечно же, имеют значение лишь постольку, поскольку они могут становиться знаками литературности, например, темами словесных текстов, и в этом отношении год 1862 ничем не примечательнее любого другого, ведь, как известно, события общественные и литературные не находятся в прямой зависимости. Однако отличительной особенностью словесности 1862 года является ощущение «историчности переживаемого момента», осознание самих себя - пишущих и читающих - «историческими лицами», деяния
которых «рассмотрит» и «оценит» «будущее племя» .
В течение нескольких лет это ощущение времени перерастает в потребность синхронизации фактов, весьма существенно отличающейся от традиционных способов, основанных на заранее сформированном представлении о характере и значимости событий, требующем строгой систематизации фактов. Так, в 1862 году С.Полторацким было предпринято издание «Синхронистических таблиц русской литературы», полезных, по мнению составителя, для того, чтобы иметь «возможность сравнивать настоящее с прошедшим и сближать литературные и общественные события одной эпохи с другою»9, т.е. читателю предлагалось проследить не за синхронией событий и явлений, а за синхронизацией представлений об их сходстве и различиях, об их связях и, следовательно, о месте в «истории», точно обозначенном «клеточками» таблиц. Отсюда должен был следовать тот или иной вывод об «эволюции» литературы, который, по сути, тоже моделировался составителем посредством предпосланных таблицам эпиграфов: цитатой из Чосера «II n'y a de nouveau que се qui a vielli» и более пространным изложением той же мысли уже в другую эпоху: «Заниматель-
но, а иногда и очень полезно, разбирать старое, и особливо, рассматривать предметы, которые многим казались уже давно решенными, и о которых, как полагают, нельзя и сказать ничего нового. Но давно уже один философ написал у себя на стене: нет ничего нового под солнцем, а другой к его надписи прибавил слова: исключая того, что было забыто.» (Николай Полевой, 1837).11
Принцип циклической синхронизации представлений о событиях лежит в основе и традиционных месяцесловов, составляемых с целью обратить внимание на события, которые следует отметить и с которыми «имеет смысл» синхронизировать те или иные факты повседневной жизни.
Параллельно с подобными способами описания года «каким он должен быть» к концу 60-х появляется желание осознать и показать год «каков он есть». Так например, в 1869 году Ф.М.Достоевским было задумано издание «ежегодной огромной и полезной и необходимой для всех книги, листов в шестьдесят печатных мелкой печати», которая «должна <...> появляться каждый год в январе месяце».12 В романе «Бесы» этот замысел передоверен Лизе Тушиной, которая рассказывает Шатову о задуманном ею «литературном предприятии»: «Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия? А между тем, если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся.
- Вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и все, - заметил Шатов.
Но Лизавета Николаевна горячо отстаивала свой замысел <...>. Книга должна быть одна, даже не очень толстая, - уверяла она. Но, положим, хоть и толстая, но ясная, потому что главное в плане и в характере представления фактов. Конечно, не все собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы, все это хоть и слишком важные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить. Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, все может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху; все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающею все целое, всю совокупность. И наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходима для справок! Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год. <.„> Шатов стал понимать.
Значит, выйдет нечто с направлением, подбор фактов под известное направление, — пробормотал он <...>.
Отнюдь нет, не надо подбирать под направление, и никакого направления не надо. Одно беспристрастие - вот направление.
Да направление и не беда, - зашевелился Шатов, - да и нельзя его избежать, чуть лишь обнаружится хоть какой-нибудь подбор. В подборе фактов и будет указание, как их понимать. <...> Дело это - огромное. Сразу ничего не выдумаешь. Опыт нужен. Да и когда издадим книгу, вряд ли еще научимся, как ее издавать. Разве после многих опытов; но мысль наклевывается. Мысль полезная.»
Любопытно, что в самом сюжете романа, как уже многократно отмечено исследователями, нашли преломление реальные события целого десятилетия, которые в романе совершаются в течение нескольких недель и не могут быть соотнесены с исторической хронологией. Так например, события и тексты 1862 года отражаются в романе на разных этапах развития сюжета. Ограбление «иконы богоматери», с которого начинаются явные проявления «бесовства», по всей вероятности, отсылает к аналогичному
происшествию в Твери весной 1862 года , литературное утро «в пользу гувернанток» - к литературному вечеру 2 марта 1862 года в Петербурге, пожар в «заречьи» - к петербургским пожарам 1862 года.15 Здесь, по всей вероятности, можно говорить не только о специфике художественного времени, но и о таком восприятии времени реального, при котором происходит абстрагирование от взаимообусловленности событий, и они «делаются» не последовательными, а одновременными в тексте литературы (у Достоевского - в его «большом тексте»).
Таким образом обнаруживается существенное отличие времени литературного от времени исторического, по-своему объединяющего и разъединяющего события. С точки зрения исторической хронологии 1862 год -единица условная, поскольку, например, согласно установившемуся мнению об «эпохе р'еформ», «майскими пожарами» 1862 года заканчивается «период либеральных» преобразований» и наступает «время правительственной реакции». В самом же годовом тексте «поворотное» событие отнюдь не связывается с коренными изменениями общественной и литературной жизни. Здесь, напротив, создается единый сюжет и образ года16, год как мифологическая персонализация времени17. Это год «тысячелетия России», год «страшных бедствий столицы», год издания «Отцов и детей» и разгула «базаровщины», год «небывалых холодов в июне» («зеленая зима») и т.д. Хотя в предновогодних обзорах присутствует известная иерархия событий (глббальных и локальных, общественно и личностно значимых), все они перечисляются «через запятую», составляют ряд «совершившихся фактов», в котором любой из них (как автономный и невзаимосвязанный с другими) может быть актуализирован в зависимости от хода развертывания самого текста.
Подобно годовым обзорам модель синхронного описания событий за несколько дней, за неделю, за месяц представляют так называемые современные обозрения и фельетоны, которые в это время, как правило, и начинаются с простого перечня описываемых фактов. Постулированный фельетонистом «Отечественных записок» принцип построения такого рода текстов - «вали все в кучу - после разберем» - является, с одной стороны, характеристикой времени, которое движется «с ускорением» и требует уловления фактов, позволяя оставить их анализ на будущее, но с другой — говорит о невозможности иного текста для фельетониста, авторская роль которого предполагает «погруженность в материал». Здесь нет «объективно» (общепризнанно) важных и маловажных фактов (например, грандиозному празднованию тысячелетия России фельетонист «Сына отечества» посвящает несколько печатных листов, фельетонист «Времени» -несколько строчек), нет общепризнанной иерархичности, а зачастую и хронологии факсов в ряду других - факт не готовая данность, а отношение, устанавливаемое только в тексте.
В синхронном описании и литература года представляет собой корпус текстов18, рядоположенность которых устанавливается «повременностью» изданий, а в их составе - жанром, объемом, зачастую просто случаем.
Таким образом, отбор материала для описания литературы определяется не принципом «значимости», а «характерности», который, разумеется, может пониматься и осуществляться по-разному. Так например, К.Скальковский, автор обзорного издания о женщинах-писательницах прошедшей половины XIX века, выражает согласие с правилом, по которому «для изучения какой-нибудь эпохи необходимо обращаться преимущественно к писателям второкласным», ибо «первокласные гении парят над обществом и указывают ему пути к развитию; писатели второстепен-
ные идут с ним всегда рядом и сочинения их служат полным отражением его жизни» . Несомненно, в любое время существует некий «священный список» авторских имен, представление о котором находит отражение в текстах этого периода. Однако, если можно говорить о писателях «первостепенных» и «второстепенных», как о реализации мифа, сложившегося на протяжении некоторого времени, то нет оснований для подобной градации текстов, обозначенных этими именами, поскольку они и печатаются, и читаются «сейчас». Синхронное описание литературы условно определенного «отрезка времени» и предполагает абстрагирование от каких-либо оценок, данных «историей», и становление на «позицию самого текста», делающего современника «автором», «читателем», «героем», «издателем», «критиком» или «цензором». При таком подходе основными и фактически единственными критериями «характерности» становятся частотность и сочетаемость литературных публикаций.
Различная сочетаемость текстов (количественная и качественная) указывает на полилитературность печатного дискурса 1862 года, что подтверждается и множественностью представлений о тексте как «литературе».
Следует отметить, что условность понятия «литература» вполне осознается современниками. Когда, например, один из корреспондентов журнала «Чтение для солдат» обращается «к товарищам» с призывом принять участие в создании «Сборника солдатских сочинений», он, кроме прочего, делится с ними мыслью о том, «какой простор» ныне «открывается для <...> солдатской,переписки, которую, пожалуй, назовем хоть и литературной»20. (Курсив мой. - А.Б.) Т.е., литература - это то, что кем-то может быть названо литературой, и, поскольку определение «литература», как правило, является оценочным (литература <- не-литература = положительное <-» отрицательное), то попытку отнести те или иные тексты к «ли-
тературе» можно оспорить, но нельзя отвергнуть, так как единых критериев литературности не существует, их «многое множество», а значит - против аргумента всегда может быть найден контраргумент.
Итак, цитированное выше солдатское письмо «к товарищам» обнаруживает ставшее уже общепринятым отождествление «литературы» и «печатного слова». Поскольку распространение грамотности, следовательно, написание разного рода текстов, относится к тому, «что в последнее время считается полезным ввести в круг занятий солдат», то можно предположить, что, например, «письма к родным», «к товарищам-солдатам», «солдатские дневники», составляющие важную часть армейского быта, будучи напечатанными, t приобретают иной статус. Таким образом, литература противостоит не только устному слову (что общепризнанно), но и рукописному, писанному «для себя», для персональной коммуникации. Когда же посредством печати слово становится «общим достоянием», оно тем самым из быта переходит в «литературу».
Отсюда вывод, ставший уже «общим местом» текста «эпохи реформ» -«литература должна служить обществу», отражать его настроения и потребности, сообразовываться с его запросами. С этой точки зрения та же «солдатская переписка» или хотя бы «сообщения о разливах рек» явяля-ются литературой, тогда как «эротические стишки Крестовского» или «соловьиные трели Фета» - не вполне литература, а «ненужное марание бумаги», «занятие праздного ума и воображения».
Существенно при этом, что литература должна служить именно «обществу», а не «кружку» или «партии». Эта мысль полемически актуализируется, например, при обсуждении новейшего сочинения В.Гюго. «"Les Mi-serables" <...> собственно не роман, - пишет сотрудник «Сына отечества», - как о романе, служащем изображением жизни, верном жизненной правде, захватывающем стороны народного быта, Виктор Гюго и не думал о своем произведении. Он имел
иное на уме. Член известной политической партии, оставшийся, так сказать, за штатом, но с чувством крайнего неудовольствия, с пеной у рта, поклонник затем известной теории социализма и коммунизма, принужденный видеть и здесь вместо ожидаемого успеха неудачу, Виктор Гюго в романе своем просто на просто делает новую попытку послужить и своей партии, и своей теории.»21
«Служение обществу», однако, не означает и служение так называемому «большинству», которое, в отличие от «мыслящего меньшинства», весьма мало подвержено влиянию «прогрессивного духа времени» и ждет от литературы всегда почти одного и того же. «Массы народные и большинство живет более чувством и воображением, чем рассудком, - отмечается в рецензии на «Les Miserables». - <...> Отсюда большинству нравится все фантастическое, идеальное. Над чем человек мыслящий стал бы хохотать, то забавляет и тешит большинство. Мир недействительный здесь не различается от действительного. Пишут, значит так бывает и может быть и на самом деле - вот заключение. Да большинство и не видит причины отвергать эти фантастические представления, напротив, оно радо им; и ему горько, когда его разочаровывают. Причина опять проста. Большинство -всегда и везде в загоне, в застое, в нужде; счастливцев всегда было и будет меньше, чем страдальцев. Таким образом большая часть смертных имеет всегда право смотреть на действительность как на горькую действительность, скорее жаловаться на нее, чем восхищаться ею, бегать, чем желать ее. Она тяжела, скучна, приторна. Поэтому большинству и очень приятно, когда его отрывают от этой страшной для него почвы, от этой безотрадной среды и уносят в иной мир, говорят о лучших днях, рисуют перед ним возможность счастия. В таких представлениях человек бедный и угнетенный или уже наскучивший настоящим находит для себя отраду, средство забыться. Как же тут требовать, чтобы он не кидался на подобные представления? <...> «Les Miserables» не могут не нравиться. В них нет правды, но большинство этого и не хочет знать; - в них
все фантазерство и эффект, - но он-то и нужен неразвитым массам.»
Таким образом, существует «литература большинства» и «литература меньшинства», и критерием оценки произведения не может служить «читаемость», «покупаемость» книги. «Публика может говорить свое, критика -
свое. Иначе писать критику и не стоило бы и было бы не зачем, а следовало бы просто
наводить справки в книжных магазинах и сообщать затем цифру проданных экземпляров. Чего больше продано, то, значит, и лучше.»23
Однако, согласно «социологическим» наблюдениям «просветителей народа», воспитателей, самих литературных критиков, так называемая «литература большинства» «положительно вредна». Речь идет здесь не о распространенном еще мнении, что вообще «учиться вредно» и «читать вредно», а о том, как текстовая реальность соотносима в сознании читате-ля с действительностью. В частности, один из обозревателей «народного чтения» приводит пример с книжкой «О солдате Яшке», «в которой с таким сочувствием рассказывается о плутнях солдата Яшки, что читатель, мало развитый нравственно, после этого чтения пожалуй сочтет для себя приятным и возможным подражать солдату Яшке. <...> К сожалению, подобных книг очень много обращается в народе; и, может, тут частию нужно искать причину того факта, который заявил г. Даль, что грамотные крестьяне, сравнительно, гораздо чаще попадали в острог за преступления.»24 Некоторые, напротив, оказавшись во власти «романтизма», «отуманивающего» «мечтательными картинами небывалой жизни и пустыми вопросами, вводящими мысль в чад и мрак таинственной неестественности», «склоняются перед силой судьбы»; в народе «ослабевает предприимчивость и решительность», продолжается «дремота мысли» и «апатическое обленение воли».25 Более опасно, однако, «романтическое увлечение» разными «идеями», в частности, теми, которые «проповедует» Гюго в своем новом романе. «В то время, как другие с радостью смотрят на успех его и восхищаются огромной цифрой читающих его, - мы встречаем подобные известия с грустью в сердце, со страхом в душе, - пишет критик. - Нам чудится мошенничество, поднимающее голову, торжествующий порок, затоптанная добродетель, кичливая развратность, восстающие Гавроши, баррикады, кровь, позор правды и честности».26
Выход из «опасной» ситуации видится в это время в намеренном создании разных «социальных» литератур. Поскольку «читающая публика»
разнородна, а в зависимости от сословия, рода занятий, пола, возраста отличается и «быт» людей, то нужно предлагать такие тексты, в которых конкретный читатель видел бы подобие окружающей его действительности. Поддержание социального status quo (чтобы дети не увлекались «взрослыми» интересами, женщины - «мужскими» занятиями, «простой народ» не мечтал о том, что ему не доступно и т.п.) и является особой целью «множення» литератур. Нужно, правда, сделать оговорку: «литературами» они, как правило, все-таки не называются, это «чтения» - «народное», «детское», «женское», «для девиц», «для солдат», «для мастеровых»
и т.п.
«Литература» же («настоящая») все-таки одна, и «служит» она «обществу» не как совокупности «индивидуумов», а как идее - «вводит разумные убеждения в общественное сознание», «проповедует добродетель», «пробуждает благородные чувствования». В таком контексте актуализируется противопоставление «беллетристики» и «публицистики».
Термин «публицистика» в это время включается пишущими в один ряд с такими функциональными синонимами, как «журналистика», «журнальная деятельность», «печать», свободно взаимозамещающимися в контек-сте «литературы». Например: «Печать не есть какая-нибудь отдельная сфера, с которою можно распорядиться так или иначе, не касаясь окружающей жизни. Что такое печать? В ней сходятся все стороны жизни, развившиеся до сознания и получившие голос; в ней заинтересовано все, и с нею все связано. <...> отнять у печати какие-либо предметы значило бы отнять их у общественного сознания; стеснить литературу значило бы стеснить общественное мнение; уничтожить ее значило бы уничтожить ту нравственную жизнь в обществе, которая находит себе в ней выражение».28 О «журналистике» и «журнальной деятельности», претендующих на статус универсальной, всеобъемлющей формы «общественной и литературной деятельности», нередко говорится даже с явной иронией - они оцениваются в
категориях «все» и «ничего». «Вся наша журнальная деятельность, т.е. почти вся литература, по мнению «Сына отечества», не представляет ровно ничего и лежит перед ним как пустынное поле».29 Или же: «Ужасно-много журналов у нас, а печатается хорошего - еще больше. Я затрудняюсь даже пробегать все журналы, не только прочитывать, и вижу, что многое перезабываю, многое путаю. Не могу хорошенько вникнуть в дух и направление разных писателей и чувствую, что отстаю от литературы, которая кишит хорошими мыслями. По этому поводу я и спрашиваю самого себя: «Что же делается с другими подписчиками, которые не могут читать всех журналов?» Эти несчастные просто не знают русской литературы; по-крайней-мере, они выхватывают из нее одни отрывки, составляют ложные мнения и своим действием на литературу, в виде общественного мнения, еще больше путают дело.»
«Связь литературы и жизни» в это время считается основным принципом, которому должны следовать «пишущие перья». Жизнь сама по себе «литературна» , и нет смысла «тешить публику вымышленными картинами», темы и сюжеты следует брать из «окружающей действительности». Так, один из «современных поэтов», несколько утрируя эту мысль, заявляет:
«Я пишу произвольно о чем захочу,
Что не встречу - все будет мне тэмой,
Хоть на зло всем риторикам песни мои
Я и назвал капризно поэмой.
Мне завязкой послужит сегодняшний день,
, Мысль навеет - последняя книга,
Для охотников даже - ручаться нельзя -
И любовная будет интрига.»32 Сближение «литературы» с «жизнью», как видно даже по этому «программному заявлению», порождает множество «формообразующих» жанровых имен, раздвигающих пространство «литературы». Происходит намеренное «олитературивание» бытового устного слова, даже «вещей» и «явлений», ранее к литературе не относимых.
Таким образом, обновляется делимитация границ между публицистикой и беллетристикой, что сразу же начинает ощущаться носителями «нормативности». Беллетризация газетных текстов, выражаясь словами одного «нового литератора» (персонажа «Искры»), «мешает тому, чтобы их значение было как бы деловое». Будучи «слишком литературными», они «лишены как системы, так и жизненности, ибо как жизнь сложилась, так ее и должно понимать».33 В то же время стремление беллетристов писать «в современном духе» и «на злобу дня» вовсе не находит поддержки у читателей. Если, например, издатели «Современника» полагают, что «упадок подписки на журналы и упадок всей книжной торговли, заметно обнаружившийся в прошлом году и усиливающийся в нынешнем», объясняется «недостатком влияния литературы на жизнь»34, то люди, занимающиеся непосредственно «экономической стороной» журнальной подписки и книжной торговли, отмечают, что «литература в настоящее время далеко не так близка народу и не так близко совпадает с его интересами, и не так существенно необходимо ее значение для большинства, как прежде во времена оракулов и письмовников»35. Т.е., «публика» желает иметь не вообще «литературу», отражающую «жизнь как она сложилась» (некий новый «идеальный» текст), а тексты, соответствующие различным потребностям отдельных читателей и разнообразным интересам и ролям каждого из них. Так, например, изображенная в «Гудке» «модная» барышня (не только по «покрою платья», но и «по воззрениям») гуляет по саду «с Современником в руках», «жадно пробегая» «не Полонского стихи», а «Чер-нышевского статью».36 Другая, а может быть, она же, только вне роли «современной девицы», рассуждает:
«Дай-ка возьму я «Письмовник Курганова» Или стихи Зорина, Иль «Воеводу», пожалуй, Иванова...
Критики ж скука одна.»
Столкновение различных представлений о литературе остроумно обыграно в журнале «Светоч» в сценке встречи «начинающего поэта» с купцом, к которому он является с намерением недешево продать мнимому «покровителю литературы» свои стихи в виде «небольшой книжечки в светло-розовой обертке»(«товарный знак» литературности). Молодой человек, для которого «литература» - это как «стихи» (собственного сочине-ния), так и легкий заработок, а равно и купец («у которого вся библиотека, кроме счетных книг, состоит из календаря и святцев, а занятия литературою ограничиваются чтением Полицейских Ведомостей» и который вовсе не намерен тратить деньги на поощрение «сочинителей»), сходятся, на внелитературной «ценности» литературной «нормы». Когда купец замечает, что он «таких книжек, признаться, не читает», «содержание-то-с...», проситель возмущенно восклицает:
«- Так-вам-не-нра-вится - содержание? Вот это:
В душе усердием и ревностью горя, 1 Стремлюся я воспеть российского царя... Так подобное содержание вам, милостивый государь, не-нра-вится? Вы таких патриотических сочинений, писанных с любовью к отечеству и престолу, читать не-из-во-ли-те?
Бедный Иван Калиныч почуял инстинктивно беду. Его бросило в пот. Торопливо полез он в карман, достал красненькую бумажку и, подавая ее талантливому поэту, проговорил заикаясь: -Нет-с... я с большим удовольствием-с!... очень рад-с!»
В каждой ситуации могут быть востребованы различные, иные, но сосуществующие «абсолютные» критерии литературности, хотя «литературность» эта может быть как со знаком «плюс», так и «минус».
Таким образом, в русской словесности 1862 года не существует единого, безальтернативного понимания литературы. В ситуации, когда норма постоянно пересматривается, обыгрывается, отменяется, все становится
потенциально литературным. Нормативна только самоизменчивость литературной практики.
Примечания
1 См.: Гумбольдт В. фон. О задаче историка // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. - М:
Прогресс, 1985. - С.292-306.
2 Foucault М. L'archeologie du savoir. Paris, 1969. P.65.
3 Foucault M. PP. 243-244.
4 Kristeva I. Semeiotike. Recherches pour semanalyse. Paris, 1969. PP.10, 349.
КСтрашкевич. Старый и новый год // Киевский телеграф. - № 1 (4 I). - С.1. Здесь и далее ссылки на тексты, опубликованные в 1862 году, делаются без указания года.
6 Листок // Сын отечества. Воскресные нумера. - № 52 (30 XII). - С. 1245.
7 Там же-С. 1245-1247.,
8 См. там же. - С. 1245.
9 С.Полторацкий. Синхронистические таблицы русской литературы. - М.: тип. газ. «Наше время». -
С. 1-2.
10 «Нет ничего нового, что не устарело бы».
11 С.Полторацкий. Указ. соч.-С.1.
12 См. об этом в комментарии к роману «Бесы»: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в
тридцати томах. -Т.12. -Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1975.-С.292.
^Достоевский Ф.М. Указ. изд. - Т.10. - С.103-104.
14 «Современная летопись» (1862. - № 27. - С.25) сообщала: «В Твери, 28 апреля, из церкви Покрова
Пресвятыя-Богородицы, похищены, неизвестно кем, жемчужная риза с иконы Тихвинския Божия Мате
ри и серебряный, вызолоченный венец, весом в 48 Уг золотников». Ср.: «В одно утро пронеслась по все
му городу весть об одн'ом безобразном и возмутительном кощунстве. При входе в нашу огромную ры
ночную площадь находится ветхая церковь Рождества богородицы, составляющая замечательную древ
ность в нашем древнем городе. У врат ограды издавна помещалась большая икона богоматери, вделан
ная за решеткой в стену. И вот икона была в одну ночь ограблена, стекло киота выбито, решетка из
ломана и из венца и ризы было вынуто несколько камней и жемчужин <...>.» {Достоевский Ф.М. Указ.
ИЗД.-Т.10.-С.252).
15 См. комментарий к роману. - Т. 12. - С.310,312,314,315.
Следует отметить также известное сходство описания убийства Лизы разъяренной толпой присутствующих на пожаре «зрителей» со «случаем на пожаре в Торжке» (Тверской губ.), ставшим одной из актуальных тем журналистики 1862 года. (См. об этом в гл. II наст, работы).
16 Ср.: иллюстрированный диалог 1861 и 1862 гг. в первом за 1862 год номере «Искры». (С.2).
17 В сатирической литературе он, кстати сказать, наиболее часто связан с различными проявлениями
«чертовщины» - от масленичных беснований танцоров канкана до происков «темной силы», заявившей
о себе «подпольной литературой» и поджогами столицы.
18 Взаимозависимость текстов даже при выраженной диалогичное и полемичности литературы на
чала 60-х годов, по сути, формальна, так как текст, на который делается отзыв («ответ», «вопрос», «не
сколько слов на...» и т.п.), является, как правило, лишь поводом для высказываний. Показательны, на
пример, критические статьи об «Отцах и детях», в которых разбору произведения отводится весьма не
значительное место по сравнению с рассуждениями о «базаровщине» как общественном явлении, о Тур
геневе как великом пис'ателе, который на сей раз оказался «не на высоте», о читателях «литературы» и
т.д. и т.п.
19 К.Скальковский. Предисловие // Женщины-писательницы XIX столетия. К.Скальковского. T.I. - Спб.:
тип. Н.Рейхельта, 1865.-C.I-II.
20 А.Гаркушов (Страший вахмистр Ольвиопольского уланского полка). К товарищам // Сборник сол
датских сочинений. Кн.1. Изд. редакции журнала «Чтение для солдат». - Спб.: Тиблен и К0, 1863. - С.2.
21 А.-ров. Бездольные. (Les Miserables). Роман Виктора Гюго // Сын отечества. Воскресные нумера. -
№30(29VII).-C710.,
22 Там же. -С.710-711. ,
23 Х-ров. Бездольные (Miserables). Роман Виктора Гюго // Сын отечества. Воскресные нумера - № 26
(1 VII).-С.616.
24 К.Охочекомонный <Щеглов Д.Ф.>. Ближайшие средства для распространения образования в народе //
Библиотека для чтения. - Т. 169. - № 2. - С. 18 (Совр. летопись).
25 А.С-ин. Несколько слов о народной литературе. (Два сорока бывальщинок. С.-Петербург. 1862) // Биб
лиотека для чтения. - Т. 173. - № 10. - С.55-56 (Совр. летопись).
26 А.-ров. Бездольные. (Les Miserables). - С.711.
27 Корреспондент «Кронштадтского вестника», например, сетует на то, что «нет у нас морских поэтов»,
а сотрудник «Сына отечеста» с удовольствием отмечает, что наконец-то в литературе нашел отражение
«быт прикащиков» и что А.Ушаков печатает очерки «Из купеческого быта».
28 Заметка // Русский вестник. - № 10. - С.873.
29 ~дъ <Эвальд А.В.>. О"чем-нибудь // С.-петербургские ведомости. - № 17 (23 I). - С.75.
30 АДенивцев <Эвальд А.В. ?>. Из моего дневника // Отечественные записки. - № 2. - С. 11.
О том, что журналы действительно пытаются «охватить собой» «всю литературу», свидетельствует, например, «программная» статья «Петербургского вестника», в которой говорится: «<„.> получающие наш журнал будут также ознакомлены и с другими журналами <...>. Чтобы сделать не скучнодлинные отзывы, для этого будут отзывы писаться кратко и с кратким описанием содержаний замечательных статей всех русских периодических изданий. Что же касается до вновь выходящих книг, то ни одна не будет забыта Петербургским вестником, так что публика всегда будет иметь список всех вновь выходящих книг с кратчайшим отзывом о достоинстве книги. Мы осмеливаемся думать, что наш журнал чрез это может служить хотя несколько каждому для сведения о общем ходе нашей отечественной журналистики.» (<Ред.>. Библиография // Петербургский вестник. - № 1. (1 I). - С.19). В данном случае «журналистика» объемлет собою «литературу», располагая тексты о ней в зоне потенциального внимания к письменному слову как таковому.
31 Например, «тяжба, суд - это важный акт той драмы или комедии, которой действующие лица жили и
живут не вымышленною общею с нами жизнию». (В.Ф. Процессы как выражение нравов // Северная
почта. - № 2 (3 I). - С.5). «Иллюстрированный листок» даже публикует сообщения о происшествиях, на
званные «Драматическими материалами из полицейских летописей», которые, по мнению издателя, «за
служивают» литературного осмысления, ибо именно «воссоздание картины нравов известной эпохи есть
отрасль литературы, пользующаяся ныне особенным сочувствием всех классов общества».
32 Обличительный поэт <Минаев Д.Д.>. Будни. Отрывки из современной поэмы // Гудок. - № 13.-С.98.
33 Илья Чичервикин. Заграничные письма Ильи Чичервикина. Письмо I // Искра. - № 9 (9 III). - С. 127.
34 Сведения о числе подписчиков на «Современник» 1861 года по губерниям и городам // Современ
ник. -Т.91.-№ 1.-C.I69.
35 По поводу акционерно-литературных предприятий // Экономист. - № 5/6. - Отд.Ш. - С.25.
36 Я С. На даче // Гудок. - № 20. - С. 158.
37 <Минаев Д.Д>. Дневник Темного человека // Русское слово. - № 2. - Отд.Ш. - С.21.
38 Петербургская летопись // Светоч. - № 2. - С.43-44.
Литературность авторства
В литературной ситуации начала 1860-х годов проблема субъекта решается главным образом «непосредственно», изнутри словесной практики. Делаются, правда, некоторые попытки метаязыкового описания пределов авторской субъектности и способов ее манифестации в тексте, однако нигилистический пафос, проявляемый в подходе к этому вопросу в «опытах художественной критики» (пользующейся литературными же приемами) узаконивается, скорее, на уровне социокультурных моделей. Представления о безличном текстопорождении в самой литературной практике выражаются и обосновываются с помощью явных и неявных персонификаций «времени», «эпохи», «рьяно прогрессивного 1862 года», которые определяют «настроение умов» и создают условия появления литературных текстов. Игриво настроенные современники представляют литературу как порождение инфернальных субъектов (напр., Черта словесности и Черта журналистики). И в то же время делаются наблюдения, приводящие к выводу (сформулированному, правда, не вполне отчетливо), что условия порождения текстов следует искать в самом языке. Характерный пример - неоднократно отмечавшаяся современниками история превращения фразы «в настоящее время, когда...» в литературную формулу, не только обозначающую, но и прямо инициирующую «текст реформ». В целом 60-е годы характеризуются сосредоточением интереса именно на отношениях, возникающих между пишущим и его сочинением. Актуализируется вопрос «кто автор?», но при этом устраняется ряд причин, способствующих мифологизации литературной личности. Заметную роль играют вошедшие в моду литературные чтения, на которых писатель выступает как артикулятор текста (чаще собственного, но иногда и чужого), создавая и распространяя представление о служебно-коммуникативном характере авторской функции. Кроме того, на литературных чтениях «уничтожаются кумиры» (в невыгодном свете предстают перед читателями Чернышевский, Тургенев, профессор Павлов), в публике создается ощущение десакрализации творческого процесса (когда на ходу делаются изменения в программе чтений, отводится место импровизации) и даже непосредственного соучастия в нем (вплоть до указаний чтецу, что «пора уже кончать»). Все это ставит автора в отношения не властвования, а зависимости - от публики и от текста. Оживление литературной жизни в начале 60-х годов было тесно связано с расширением круга авторов и повышением статуса литературного труда, который теперь понимался как «служение обществу»; более того -смысл человеческого существования стал определяться формулой: «жить значит высказываться»1. Вместе с тем, ценность писательского имени продолжала оставаться невысокой, о чем свидетельствует 35 % неподписанных текстов, большая часть которых не является умышленно анонимными, а всего лишь обнаруживает факультативность фиксации авторского имени. Не самая существенная, но зато наиболее часто ощущаемая самими пишущими причина «безымянности» - это низкий социальный статус профессии литератора. Косвенным свидетельством тому является анонимная публикация в «Искре» (в составе апрельской «Хроники прогресса») стихотворения Некрасова: «Я пошел по кладбищу гулять; Там одной незаметной могилы, Где уснули великие силы, Мне хотелось давно поискать. Сделав даром три добрые круга, Я у сторожа вздумал спросить - Имя, званье, все признаки друга Он заставил пять раз повторить И сказал: «Нет, такого не знаю. А, пожалуй, примету скажу, Как искать: ты ищи его с краю, Перешедши вон эту межу И смотри: где кресты - там мещане, Офицеры, простые дворяне; Над чиновником больше плита, Под плитой же бывает учитель, А где нет ни плиты, ни креста, Там должно быть и есть сочинитель.»2 Незамеченностъ и необозначенность «сочинителя» (и при жизни, и после смерти) - следствие все еще сохраняющихся представлений о читаемости содержания, по отношению к которому так называемый «автор» является лишь артикулятором. Коль скоро «у мысли нет отдельного хозяина, как нет хозяина у воздуха, и ... решительно несправедливо говорить, что "такая-то" мысль принадлежит "такому-то"», не может быть и авторской собственности на текст. Так считает человек, который сам занимается «писанием статей».3 Основная же масса грамотного народа «положительно не знает о существовании сочинителей»4, по мнению простолюдинов, «книжек никто не пишет, их просто купцы привозят», а в тех «обществах, которые имеют уже понятие о сочинителях», «каждый россиянин, состоящий на службе, какого бы чина он ни был, совершенно уверен, что если он не сочинитель, то потому только, что не хочет терять времени на подобные глупости». «Одним словом, - заключает фельетонист «Искры», - сочинительство в нашем обществе, за немногими исключениями, пользуется весьма незавидною репутациею. И мы советуем всем нашим собратиям, имена которых не оглашены еще в публике, никак не сказывать о себе, что они сочинители, когда они вступают в какое нибудь новое общество, и тем более - Боже сохрани и упаси! - не сказывать об этом, когда они ищут невесты или просятся на службу куда бы то ни было.»
Читатель как участник жанровой конвенции
Характерной особенностью литературы 60-х годов является совмещение реального читателя и идеального лица - «представителя эпохи». Наиболее широкие возможности отождествления собственных и литературно санкционированных потребностей «современного человека» предоставляет читателю «журнал», понимаемый в это время отнюдь не только как «место» для публикации текста и не только как самостоятельное литера турное целое, но и как особый «мир», регулярно открываемый за журнальной обложкой. Отчасти это справедливо и в отношении «газет», также имеющих «лицо» и «характер». Однако назначение газеты «сообщать», быть «курьером», «почтой», «телеграфом» (что весьма последовательно отражают заголовки периодики) все же делает ее атрибутом повседневного быта.
Журналы же читаются с целью приобщиться к иной, более глубоко структурированной реальности. Характерно, что та часть публики, которая живет по «календарному» укладу, как правило, не нуждается в чтении журналов. Библиотека купца, например, состоит «из календаря и святцев, а занятия литературою ограничиваются чтением "Полицейских Ведомостей"»6; то же самое читатет «старосветский помещик» (только «полицейские» ведомости заменяются у него «губернскими»). Тот факт, что «незамысловатый календарь расходится в большем числе, нежели все журналы вместе» , говорит о распространенности подобного типа чтения, не игнорирующего журнал лишь в том случае, если он последовательно воспроизводит уже сложившуюся для читателя картину мира. Этому требованию отвечают «духовные» журналы. Весьма многочисленны, по свидетельствам современников, и те, кто не читают ничего кроме «Домашней беседы».
Однако нтерес к журналу по преимуществу обусловлен именно ситуацией преобразования общественной и частной жизни, заставляющей читателя искать в литературе новую модель миросозерцания и поведения. Журнал как регулярно возобновляющийся текст удовлетворяет этому требованию вполне успешно. Показательно, что ревностное охранение «устоев» и «порядков» предполагает даже запрет на чтение журналов. Так, воспитанница «частной женской школы» (персонаж «Гудка») рассказывает: «Maman» (т.е., начальница - А.Б.) «не любит русских журналов, без содрогания видеть их не может и никому из нас даже дотрогиваться до них не позволяет. ... Но maman нас все-таки не забыла, не оставила совершенно без книг: она дает нам читать Странник и Домашнюю беседу.» Подобные «факты» отнюдь не являются изобретением сатириков, а имеют место и в действительности. Запреты санкционируются на разных уровнях, в том числе и на государственном. Как известно, в июне 1862 года было приостановлено издание «Современника» и «Русского слова», обоснованное не какими-либо конкретными возражениями цензуры, а только опасениями, что создаваемый журналами образец «демократического» мышления во время петербургских пожаров может вызвать сильное «брожение умов».
Строго говоря, чтение журнала в ожидании прямого «влияния литературы на жизнь» уже к началу 1862 года заметно теряет актуальность. «Мы имеем основание предполагать, - отмечает редакция «Современника», - что общее число печатаемых экземпляров всех журналов и газет в сложности в 1861 г. не возросло сравнительно с 1860 г., напротив, довольно значительно уменьшилось. Возрастание, постоянно шедшее с 1855 г. до 1860, остановилось и даже произошел очень заметный упадок общей суммы. ... с прошлого года перестала публика находить, что литература становится все более и более достойною ее внимания, публика нашла противное и вследствие того стала меньше прежнего читать журналы. Действительно, каждый из наших сотоварищей по литературе и каждый из читателей замечал по разговорам в обществе в два последние года, что публике начинает надоедать бесплодность хлопот нашей литературы. Прежде, читая журналы, она ждала, что выйдет какая-нибудь польза для жизни из того, что пишут журналы. Обманувшись в своем предположении, справедливо начала терять охоту к занятию этой напрасной болтовней.»9 Тем не менее литературный статус журнала остается достаточно высоким. Журналами «поглощается почти вся текущая литература», создается «монополия журналов в литературе», общество переживает «журналома-нию».10 И это объясняется именно переменой отношения к журналу. Если прежде читатель искал «ответов на вопросы» и поэтому читал всю доступ ную ему литературную продукцию, то теперь - стремится обнаружить журнальный образ «современника», с которым можно отождествить самого себя. Чтение периодики становится более избирательным.
О популярности того или иного журнала можно судить, например, по отчету одной из московских библиотек, имеющей 380 «подписчиков» и приобретающей «книжную фабрикацию только по необходимости», т.е. согласно читательскому спросу. Здесь «журналы, более требуемые, получались в числе сдедующих экземпляров: «Современник» 13 экз., «Отечественные записки» 11, «Время» 10, «Русский вестник» и «Современная летопись» 9, «Библиотека для чтения» 8, «Русское слово» 8, «Искра» 5 экз. Остальные за тем журналы и газеты получались по 3, по 2 и по 1 экз.».
«Образы» периодики и бытование «пожарного» текста
Рассматривая петербургские пожары как литературный феномен, необходимо выявить систему отношений, возникающих между субъектами пожарного текста. Учитывая публицистичность исследуемого материала, его связь с определенными периодическими изданиями (см. прилож. № 1), под субъектом в большинстве случаев следует понимать не отдельное лицо - инициатора текста, а само издание - инициатора публикации.
Ситуация в русской публицистике середины века характеризуется снижением роли личностного начала. Большинство периодических изданий, имея ярко выраженные политические симпатии и следуя определенным эстетическим установкам, создали в сознании читателей устойчивые образы «литературных органов», а деятельность известных публицистов связна с определенным изданием, реже - с типом изданий. Образ публициста (редактора, постоянного сотрудника) сливается с образом периодического издания, его имя становится в известном смысле синонимом журнала или газеты (напр., В.Й.Аскоченский и «Домашняя беседа»). Имена же, не известные широкой публике, появляясь на страницах газет, не вызывают устойчивых ассоциаций и, как правило, не остаются в активной литературной памяти. Таким образом, большинство текстов «узнаются» современниками не по имени автора, а по изданию, в котором они опубликованы.
Активность периодических изданий в обсуждении петербургских пожаров существенно различается (см. прилож. № 2). С мыслью современника о том, что «нужно было бы издавать особую газету для того, чтобы не пропустить ни одного из этих бедственных происшествий», согласовывается деятельность «Северной пчелы», заполнившей несколько номеров исключительно сообщениями о пожарах и продолжавшей эту тему в течение всего лета; «Современное слово», подключившееся к вопросу о пожарах лишь 3 июня, приобретает, однако, репутацию «пожарной» газеты; усиленно интересуется пожарами «Сын отечества»; руководствуясь идеей «общественной пользы», пишет «Домашняя беседа»; по активности не отстают от нее «Наше время» и «Русский листок»; значительные тексты печатают «С.-петербургские ведомости», «Искра», «Время», «Иллюстрированный листок», «Одесский вестник», «Современная летопись». Однако такие «злободневные» газеты как «Северная почта», «Гудок», также «Русский мир» оказываются в одном ряду с «толстыми журналами» и специальными изданиями, которые темы пожара касаются в двух-трех статьях.
Публицистическая активность является важным, но не единственным фактором, определяющим место издания в литературном дискурсе. Помимо субъектной роли, которую выполняет газета (журнал) как носитель текста, она становится объектом в полилоге периодических изданий, когда обсуждаются не только внешние реалии, но и текст, их отображающий. Рассматривая эту вторичную рефлексию, возникающую из анализа текста текстом, следует остановиться на субъектно-объектных связях отдельных изданий.
Кажется естественным, что значительное количество публикаций предполагает активное включение в полемику. «Северная пчела», напечатавшая 41 статью о пожарах, вызывает множество откликов со стороны публицистов (см. прилож. № 3). «Домашняя беседа» и «Современное слово» сами являются деятельными критиками, «Иллюстрированный листок», «Время», «Библиотека для чтения» неоднократно перепечатывают публикации из других изданий, что также является существенным моментом саморефлексии. Однако, например, «Сын отечества», опубликовавший 9 статей на тему пожаров, оказывается полностью выключенным из внутри-литературного общения. Он не интересуется чужим текстом и принципиально настроен на монолог. Ту же позицию незамечающего и незамечаемого занимает в пожарной полемике «Русский листок» (8 текстов). Представляется любопытным рассмотреть причины высокой полемической активности одних изданий и инертности других.
Наиболее наглядными примерами газет первого типа являются «Северная пчела» и «Домашняя беседа». Они составляют своеобразную пару: выполняя противоположные функции в создании «текста о тексте» («Северная пчела» является преимущественно объектом, «Домашняя беседа» — субъектом), они тем не менее воспринимаются как явления одного порядка. «Домашняя беседа» видит в «Северной пчеле» «благородного» единомышленника и, упрекая русских публицистов в апатии и «умственном развращении» народа, ей одной посвящает слова благодарности и похвалы.
В один ряд «Северную пчелу» с «Домашней беседой» ставит сатирическая журналистика: «для умственного прояснения» молодому купчику, развратнику и пьянице, «тятенька» выписывает «Домашнюю беседу да Пчелку» (см.: 77; 267-270); «Гудок», изобразивший «пожарных волонтеров» (членов редакции «Северной пчелы») сидящими в колеснице, запряженной тройкой ослов, и Арлекина (Аскоченского), едущего на четвертом осле, следующим образом «разъясняет» «недоумение "Северной пчелы"»: «Почтенная газета, узнавшая в нашей карикатуре „. портреты своих сотрудников и обер и унтерредакторов, выразила лишь свое недоумение о фигурах трех животных, которые запряжены в пожарную колесницу, и нашла, что эти фигуры также направлены на личности редакции другой газеты.
Субъективации времени в тексте тысячелетия
« ... день русского тысячелетия был для нас действительным праздником ... , -пишет в своих сатирических «заметках» один из сотрудников «Гудка». -Посмотрите, например, какие вести доносятся из провинции. «Ярославские губернские ведомости» говорят, что они получили письмо из Мышкина, в котором сообщается, что мышкинцы, празднуя день тысячелетия России, в пылу благородного чувства пили... за здоровье тысячелетия. Какой-нибудь завзятый метафизик увидит в этом нелепость, на том основании, что «тысячелетие» есть только идея, а не какое-нибудь существо или насекомое, за здравие которого можно предлагать тосты, что такой тост так же возможен, как возможно предположение, что у тысячелетия расстроился желудок или сделался припадок лунатизма. Но кто же станет делать такие риторические придирки, кто будет винить несравненных мышкинцев (а такими мышкинцами наполнена вся Россия) за проявление их высокого лиризма?» (47; 291-292). Несмотря на то, что «область высокого лиризма», как полагает автор, находится «за границей здравого смысла», праздничное «увлечение россиян» весьма целемерно воплощается в соответствующих текстах, где отсутствие строгой границы между «живой» образностью и метафорическими формулами («река времен», «путь прогресса», «ветер перемен») служит самообнаружению «субъекта времени». Существенную роль здесь играет наиболее частотный знак времени -река. При этом в традиционном смысле (как метафора непрерывного движения и постоянного обновления) «река времен» представлена единичными случаями, главным образом в лубочных текстах. Так, рассуждая об «ретроградах-отцах», один из «поэтов» пишет: «Ужели старцы те желают Теченье времени прервать? Оплоты реку заставляют Из берегов не выступать; Но страшны поперек теченья Плотины; если их прорвет Река, то в яростном стремленьи Деревни, грады, - все зальет.» (157; 5). Достаточно распространены в тексте упоминания «реки забвенья» Ле-ты, однако не иначе, как в идиоматическом выражении «кануть в Лету», имеющем несколько параллельных по стертости образа аналогов - «погрузиться в пропасть забвения», «затеряться в бездне вечности» и проч. Тем не менее привычные штампы «оживляются» субъективным переносом на «образ Волхова» («судьбоносной», «самой гражданской реки», слава которой «современна основанию Русского государства») и служат знаком связи времени настоящего с прошедшим и будущим. Волхов представлен в тексте тысячелетия и как свидетель истории («только Волхов смело о былом шумит»; такого происшествия «не видывал мутный, глинистый Волхов с того дня, когда он начал катить свои воды»), и как река памяти: фельетонист, рассказывающий своим читателям о поездке в Новгород «на торжество», предается «воспоминаниям» о прошлом - историческом и мифологическом - как правило, стоя на волховском мосту, или же на «том самом» берегу, куда «вступал первый русский князь Рюрик». В таких значениях образ Волхова ассоциируется с Мнемосиной - мифической рекой памяти (семантической противоположностью Леты), актуализируя тем самым взаимозначность жизни (памяти) и смерти (разрушения и забвения). Образ Волхова строится на «характерологической» аналогии реки и новгородцев. В предании о том, как псковскому механику Невеже не удалось построить на Волхове мельницу и заставить реку работать, отражается своенравность новгородской вольницы; «смешавшись с кровью новгородских воинов, с кровью невинных жен и детей, потопленных при- снопамятным Иваном Грозным», вода в Волхове окрашивается в красный цвет, гибель новгородцев грозит смертью и Волхову, запруженному телами убитых; а «полудремотное состояние» «патриарха русских городов», уснувшего к концу тысячелетия, оберегает «седой Волхов», который «тихо катит свои воды». Таким образом, река может пониматься не только как «течение» времени, но и как субъект, пребывающий во времени. Иначе образ реки представлен в фельетоне журнала «Время», где прошедшее ассоциируется с одним берегом, а будущее - с другим. Сама же река разделяет и связывает их. Здесь можно говорить о контаминации двух образов времени - реки и пути. Еще одна вариация осуществляется в Другом тексте: «Получив толчок, все живущее и смыслящее двинулось в путь по дороге к улучшению и усовершенствованию; ... и нужна крепкая плотина со стороны правительства, чтобы сдерживать поток общего стремления и рвения усердных народных деятелей, пробующих свои молодые силы на новом для них поприще.» (72; 693). Путь-дорога как метафора времени чрезвычайно частотна и, вместе, однообразна. В отличие от «реки», символизирующей исчезновение «человеческих деяний» в «бездне вечности», дорога - суть «развитие», «прогресс» - всегда активное, целенаправленное движение: «Уже семь лет идем мы по пути прогресса и никто, конечно, не скажет, чтобы не подвинулись значительно на этом пути ... . И все борцы за правое дело, молодые и старые, искушенные опытом, или полные кипучих надежд, все идут тем же путем: одни скорее, другие тише, одни обходя старые пни, напрасно цепляющиеся иссохшими корнями за почву, в которой не находят более для себя опоры.» (213; 1-2). Дорога символизирует движение, допускающее ускорение или замедление, означающее количественную утрату или качественное обретение. Как пишет публицист, «сдерживая, в продолжение тридцати лет, русскую колесницу на пути западно-европейского развития, Император Николай дал нам время приготовиться и выступить на тот широкий путь, который открывает теперь нашей жизни его преемник» (85; 14. Курсив мой — А.Б.); «но во многом мы поотстали» от «главных европейских держав», «и теперь придется нам догонять их быстрыми шагами на пути цивилизации» (215; 185). Неоднократно в тексте тысячелетия развитие России олицетворяется Ильей Муромцем, который «тридцать лет и три года сиднем сидел на печи ... , пока не ударил час его жизни. Тогда он встал и земля задрожала под его ногами». Как говорит один из авторов, создающих в воображении «предлежащий России исторический путь», «простыми шагами не уйдешь так далеко, так шагать может только наш Илья-муромец родной, которому горы ни по чем, и крики Соловья-разбойника ничего не значат, и перед которьш все дрожит и уступает дорогу. Он крикнул - и все сторонись, держи около.» (163; 833). Наиболее распространенными знаками движения в тексте тысячелетия являются колесо и колесница. «Колесо Русской истории оборачивается в 150 лет», - пишет К.С.Аксаков, акцентируя периодичность изменений, поэтапность развития. «Как зорко обязаны мы наблюдать за колесом своей временной жизни и смотреть, чтоб оно не вертелось у нас беспорядочно, как, где и куда ни попало, а катилось бы себе, при помощи Божией, по дороге, ведущей к блаженной вечности!» — говорит один из проповедников. А персонаж фельетонного текста, помещик, желающий возвращения «старых порядков», утверждает, что «Россия распадается», что «наше любезное отечество трещит на своей тысяще-летней оси». Образ колесницы вводит тему тысячелетия в текст «реформ», эксплуатирующий эту метафору чрезвычайно активно. Для самого же «тысячелетия» колесница предстает скорее как общекультурный символ времени и не имеет никаких дополнительных коннотаций.