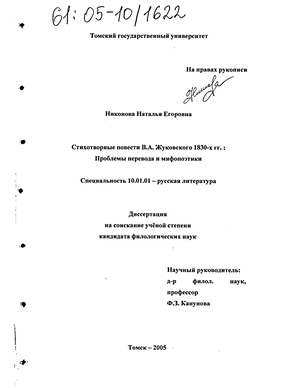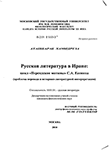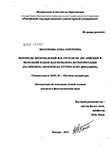Содержание к диссертации
Введение
1. Принципы перевода В.А. Жуковским стихотворных повестей 1830-х гг 28
1.1. Особенности сюжетно-композиционного строения стихотворных повестей 1830-х гг 29
1.2. Образная система повестей 55
1.3. Рыцарская тема в поэтическом творчестве первого русского романтика 70
1.4. Авторское начало в стихотворных повестях В.А. Жуковского 1830-х гг 84
2. Мифопоэтические основы жанровой организации повестей 96
2.1. Мифопоэтика мотивной структуры повестей 96
2.1.1. Мотив сердца и мифологема души 97
2.1.2. Мотив ундины 107
2.1.3. Морской мотив 112
2.1.4. Мотив суда и мифологема судьбы 123
2.2. Мифопоэтика художественного пространства 141
2.3.О мифофункции нарратива стихотворных повестей В.А. Жуковского 1830-х гг 155
2.4. Стихотворные повести В.А. Жуковского в контексте литературной эпохи 1830-х гг 166
Заключение 178
Литература 184
- Особенности сюжетно-композиционного строения стихотворных повестей 1830-х гг
- Образная система повестей
- Мифопоэтика мотивной структуры повестей
- Мифопоэтика художественного пространства
Введение к работе
Постановка проблемы
Создав «поэтический перевод как равноправный литературный жанр1», В.А. Жуковский принёс русской литературе и культуре «больше пользы, чем множество других поэтов, хотевших стать "оригинальными"»2.
Мастерство Жуковского-переводчика открыло для русской культуры принципиальную неоднозначность и объёмность чужого слова. Установка на «преображение» идеи оригинала «в создание собственного воображения», требование повторить за автором оригинальным «с начала до конца работу его гения» провозглашаются романтиком в ранних статьях и сохраняются в позднем творчестве. Основные воззрения на перевод были сформулированы, главным образом, в статьях «О басне и баснях Крылова» (1809), «О переводах вообще, и в особенности о переводах стихов» (1810), «"Радамист и Зенобия"» (1810). Требование от переводчика воссоздания «идеала, представляющегося ему в творении переводимого им поэта» и «перевода характера»3 находится в русле собственных поисков и метода романтического перевода, выдвинувшего теорию идеала как данного художнику субъективного духовного откровения.
Романтическая теория перевода сформулирована Новалисом, он определил три переводческие стратегии: «грамматическую», «изменяющую» и «мифотворческую», отдавая предпочтение последней. «Мифотворческий» перевод (истинный, «в самом высоком смысле») «передаёт чистую идеальную сущность индивидуального художественного произведения», «предлагает нам не реальное произведение, но идеал его»4. «Изменяющая» или «грамматическая» переводческие стратегии, альтернативные «претворению в миф», имеют дело, в первую очередь, с языковым выражением, а не с «духом» подлинника. В истории изучения преимущественно переводного наследия поэта можно встретить указания на близость переводческих принципов русского романтика принципам
Ратгауз Г.И. Немецкая поэзия в России // Золотое перо: Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах, 1812—1870. М., 1974. С. 14. Лазурский В.Р. Западноевропейский романтизм Жуковского. Одесса, 1902. С. 16
3 Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 256—257.
4 Новалис. Фрагменты // Зарубежная литература XIX века. Романтизм. Хрестоматии историко-литературных
материалов. М., 1990. С. 70—71.
4 «мифотворческого перевода»5, однако такая постановка проблемы не получила должного внимания, в то время как общность эта очевидна и позволяет сделать заключение о том, что исследование в системе «оригинал - перевод Жуковского» должно включать в себя в качестве самостоятельного пласта анализа разбор мифотектоники обоих текстов.
Художественные тексты Ф. Шиллера, Л. Уланда и Ф. де ла Мотт Фуке, переводы которых В.А. Жуковский относит в 1830-е гг. к жанру повести, репрезентативны в плане эстетики и индивидуальной мифологии художников.
Наиболее изучены шиллеровские переводы поэта, поскольку «поэтическое творчество Жуковского и формирование эстетики русского романтизма стали наиболее сильными побудительными причинами» интереса к лирике Шиллера в России . Его переводы на много лет определили отношение широких читательских кругов к Шиллеру и вообще немецкой литературе7.
Сюжеты трёх интересующих нас стихотворений Шиллера построены принципу противостояния - организующей является идея драматического движения, контрастное представление которой дисактуализирует даже соприкосновение христианства и язычества. При этом в "Der Kampf. mit dem Drachen" и "Der Handschuh" основные шиллеровские мифомотивы (подвига и борьбы с змеем, львом) воплощены непосредственно.
Л. Уланд - вторая после Ф. Шиллера по значимости фигура в переводном творчестве русского романтика. П. Виноградов отмечает: «Кумир Жуковского, величайший поэт для него - Шиллер <.. .> и среди его художественных переводов переводы творений Шиллера занимают первенствующее место. <...> Второе место в поэтических симпатиях Василия Андреевича принадлежит Уланду. Тяготение к
нему Жуковского вытекало из их духовного родства» . Высокий нравственный пафос и глубинная идиллическая модальность определяют близость поэзии и эстетики - подобно Жуковскому Уланд был «эталоном нравственной чистоты и высоты помыслов»9 и представлял «редкий образец полной гармонии поэтического
5 На этот факт указывают Е.Г. Эткинд, вслед за ним Ю.Д. Левин; а также Л. П. Шаманская.
6 Данилевский Р.Ю. «Молодая Германия» и русская литература. С 42.
7 Левин Ю.Д. О русском поэтическом переводе в эпоху романтизма // Ранние романтические веяния (Из
истории международных связей русской литературы). Л., 1972. С. 222.
8 Виноградов П. Жуковский и романтическая школа. М., 1877. С. 20.
9 Гугнин А. Романтический челн в бурных волнах истории, или поэзия Людвига Уланда // Уланд Л.
Стихотворения. М., 1988. САО.
5 воодушевления с действительною жизнью поэта»10. Тема «Жуковский и Уланд» специально не освещалась, поэтому данный пласт переводов нуждается, с одной стороны, в более чётком обозначении как факт рецепции романтизма «швабской школы» ("Schwabische Schule"). С другой стороны, оригинальный «набросок» Уланда занимает особое место. Во-первых, это единственный перевод из Уланда и повесть в драматическом роде. Во-вторых, он принципиально интересен в силу изменения в русском варианте интертекстуального пространства: Жуковский опускает подзаголовок «Барону де ла Мотт Фуке посвящается» («Dem Freiherrn de la Motte Fouque zugeeignet»), хотя к моменту начала работы над переводом уже зреет замысел перевода «Undine». Исключение уландовской интерпретации повести Фуке из ореола своей «Ундины» принципиально, обусловлено не только очерёдностью выхода в свет двух повестей и заслуживает особого внимания.
История биографического и творческого диалога русского поэта с бароном де ла Мотт Фуке - это, фактически, история одной встречи (во время первого заграничного путешествия) и одного произведения, хотя рукописи поэта подтверждают многолетний интерес к творчеству Фуке, в личной библиотеке Жуковского сохранился ряд изданий немецкого прозаика. «Ундина» - этапное произведение русского романтика и самая крупная из повестей 1830-х гг., вызвавшая живой интерес в критике сразу после своего выхода и оставившая глубокий след в истории русской литературы.
Мифопоэтическая потенция «Undine» очевидно раскрыта Жуковским в соответствии с собственными творческими интенциями 1830-х гг. Немецкий романтик создаёт сказочно эпический образ, его ундина - воплощает идею. Эту сторону его художественного метода отметил и позитивно оценил в соответствии с собственными размышлениями Э. По: «Лучшим и весьма замечательным примером искусного и разумного применения аллегории, где она всего лишь тень или проблеск и где сближение её с правдой ненавязчиво, а потому приятно и уместно - это "Ундина" Де Ла Мотт Фуке»11. В переложении Жуковского сказочное олицетворение обретает качество целостного символического единства. Рассмотрение переложения русского романтика в аспекте мифопоэтики в
10 Виноградов П. Жуковский и романтическая школа. М., 1877. С.21.
" По Э. Новеллистика Натаниела Готорна (Перевод З.Е. Александровой) II Эстетика американского
романтизма. М., 1997. С. 127.
комплексе с повестями 1830-х позволит приоткрыть новые грани поэтического произведения.
Таким образом, при всем разнообразии сделанных исследователями наблюдений в связи с интересующей нас проблематикой очевидно слабое внимание исследователей к мифопоэтическому аспекту жанровой формы.
Линейная организация каждого текста рассматривается нами как последний план переводческого процесса, зависящий от глубины бессознательной отрефлектированности на предыдущих этапах. Реконструкция поэтического конфликта напрямую связана с глубиной и вариативностью языкового сознания, служащего средством фиксации бессознательного. Формы, фиксирующие характер и качественную специфику речевого сознания переводчика, указывают на его глубинные слои12. А так как язык всякого художественного произведения эстетически функционален, то обнаруживающиеся в нём повторяющиеся черты служат средствами выражения поэтико-конструктивных идей. Чаще всего они представляют собой «окказиональные символы», «порой весьма архаические образы символического характера» (Ю.М. Лотман), и «система отношений» между ними составляет суть «поэтического мира»13 художника. Мифопоэтический анализ способен интегрировать «контекстность, поэтику "сквозных слов", автореминисцентность»14, а также «метафору,- и аллегорию, и олицетворение, и миф, и эмблематику»15 ВА.Жуковского.
История вопроса.
Современники много писали о феномене Жуковского, стараясь уловить его противоречивую сущность и место в русской литературе. В.Г. Белинский в 1839 г. утверждает, что «Жуковский - поэт, а не переводчик» и «его так называемые переводы очень несовершенны как переводы, но превосходны как его собственные
Современные поэты-переводчики, анализируя феномен перевода как ментального процесса, отмечают феномен «инерционного возвращения к одному и тому же ритму и смыслу или образование гибридных сочетаний, совмещающих в себе звукоритм (цветоритм), звукообраз (цветообраз) и ритмосмысл», которые в первую очередь приобретают определённый характер в мозаике (вертикальной и пространственной), гештальте, «вертикалепространстве» будущего перевода-продукта, «выступая в виде ритмических пульсаций, согласующихся или не согласующихся с иктовой организацией слов и словосочестаний» (Сорокин Ю.А. Интуиция и перевод: Рефлексивный опыт переводчика-китаиста. // Перевод как моделирование и моделирование перевода. Тверь, 1991. С. 4—19).
13 Лотман Ю.М. Типологическая характеристика позднего Пушкина // Лотман Ю.М. в школе поэтического
слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Книга для учителя. М., 1988. С.131.
14 Там же. С. 140.
15 Там же. С. 148.
7 создания»16; в 1841 г. указывает на «какой-то общий отпечаток» его переводов17, а ещё через два года определяет их как «венец поэзии Жуковского» и «момент самого сильного и плодовитого движения вперёд русской литературы»18.
Одним из первых в современном литературоведении попытался объяснить «парадокс Жуковского-переводчика» С.С. Аверинцев, выделив основную причину - парадокс романтизма, который со всей своей предельной субъективностью пробуждает интерес к чужому быту, характеру19.
Пунктирно обозначив основные принципы работы с оригиналом, указав на тщательный отбор текстов для перевода, «наиболее близких по мировоззрению и художественным особенностям», и всё-таки их «значительное переосмысление», с той же позиции оценивает вклад Жуковского А.В. Фёдоров20: «Значение его переводов было в том, что они оставляли у читателя впечатление художественной подлинности, оригинальности произведения»21 (курсив наш -КН.).
Исследования Ю.Д. Левина, Р.Ю. Данилевского дают представление о месте переводов Жуковского в истории русско-немецких литературных связей и истории русского поэтического перевода. Ю.Д. Левину удается определить место Жуковского в истории русского художественного перевода с позиции критериев «более точного воспроизведения оригинала» . В самостоятельный этап рецепции Шиллера Р.Ю. Данилевский выделяет «переводы-интерпретации» русского поэта-романтика, определяя их как один из «наиболее сильных стимулов русского "шиллерианства"23».
Одно из ранних специальных исследований переводов Шиллера принадлежит Д.В. Цветаеву (Воронеж, 1882)24. «Опыт объяснения» «первой группы баллад» Ф.Шиллера проводится в рамках сравнительно-исторической методологии (с обзором генезиса сюжета и «исторической почвы» немецких баллад) и дополняется
16 Белинский В.Г. Поли. собр. соч., Т. 3. М., 1953. С. 508.
17 Там же. Т.5. М., 1954. С. 550.
18 Там же. Т. 7, М., 1955. С. 141.
"Аверинцев С.С. Размышления над переводами В.А. Жуковского//Зарубежная поэзия в переводах В.А. Жуковского в двух томах, т. 2. М., 1985. С.553 - 574.
20 Федоров А.В. Введение в теорию перевода. М., 1953; Основы общей теории перевода. М., 1968 ;
Искусство перевода и жизнь литературы. М, 1983 (неоднократно переиздававшиеся).
21 Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 1983. С. 47 - 50.
22 Левин Ю.Д. О русском поэтическом переводе в эпоху романтизма // Ранние романтические веяния (Из
истории международных связей русской литературы). Л., 1972. С. 222.
23 Данилевский Р.Ю. Шиллер и становление русского романтизма // Ранние романтические веяния (Из
истории международных связей русской литературы). Л., 1972.
24 Цветаев Д.В. Баллады Шиллера. Опыт объяснения. Первая группа баллад. Воронеж, 1882. 138 с.
8 сопоставительным построфным комментарием с привлечением оригинала, подстрочника и перевода Жуковского. В «Перчатке» Цветаев отмечает чёткость композиционного рисунка и одновременно «цельность поэтического создания»: «Неподражаемый в композиции, Шиллер точно выполнил законы художественности создания, по которым в произведении всё должно иметь самую тесную внутреннюю связь и необходимость»25. Перевод Жуковского привлекается как «наиболее поэтический из всех существующих», автор выделяет в его повести «те места, которых нет в подлиннике, а в буквальном переводе те, которые опущены у Жуковского», и отмечает, что «поэт уж слишком свободно отнёсся к подлиннику»26.
Автор «критического этюда» «Жуковский как переводчик Шиллера» (Рига, 1895) В. Чешихин-Ветринский, называя свой метод «сравнительно-психологическим», собирает все шиллеровские переводы Жуковского под углом зрения творчества последнего и, фиксируя текстологические расхождения, довольно точно даёт построфный сравнительный комментарий к текстам. Обоснованием и фактором систематизации зафиксированных наблюдений, исследователю служит собсвенная периодизация переводов Жуковского. Определяя их, в большинстве, как «пересказы» или «подражания», В. Чешихин говорит о «равноценности или неравноценности» подлиннику, а также «уместности или неуместности» того или иного переводческого принципа. Исследователь четко, хотя не всегда ёмко, дефинирует «основные идеи» переводимых произведений. Работа В. Чешихина-Ветринского подготовила почву для дальнейших литературоведческих работ на соответствующем материале.
Перевод Жуковским шиллеровской лирики и драматургии сопровождается проникновением в его эстетическую систему, и он уже знаком с важнейшими эстетическими манифестами Шиллера к 1811 году27. В личной библиотеке поэта сохранены следы последовательного осмысления Жуковским двух критических статей Шиллера: "Uber Burgers Gedichte" («О стихотворениях Бюргера») и "Uber Egmont, Trauerspiel von Goethe" («Об Эгмонте, трагедии Гёте») . Более
25 Там же. С. 64.
26 Там же. С. 55.
27 Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 2. Томск, 1978. С. 174.
28 Янушкевич А.С. Немецкая эстетика в библиотеке В.А. Жуковского // Библиотека В.А. Жуковского в
Томске. Ч. 2. Томск, 1978. С. 140—202.
9 концептуальное изучение этой темы стало возможным именно с открытием материалов личной библиотеки поэта в Томске. О знаковости «драматических» переводов Жуковского из Шиллера не только для эволюции самого поэта, но для русской литературы в целом пишет О.Б. Лебедева: «целенаправленная акцентировка» Жуковским объективных свойств трагедии шиллеровской «впервые в русской литературе высветила будущую типологию национальной романтической трагедии»29. В том же аспекте автор специально обращается к анализу повестей-переводов из Шиллера 1830-х гг. Указав на значение «Сражения с змеем» и «Суда Божьего», равно демонстрирующих «процесс органического вырастания эпоса из его <Жуковского> баллад», О.Б. Лебедева говорит о возможности объединить переводы в «своеобразную дилогию» в силу того, что «в сознании поэта они составляли какое-то единство»30 и отмечает вариацию общих эпического и драматического начал («возрастание роли повествовательное, сокращение и видоизменение психологической линии конфликта» «Сражения с змеем»; заострение и субстанциализацию конфликта в «Суде Божьем»). Особый интерес для исследователя в соответствии с поставленной задачей изучения творческой деятельности Жуковского-драматурга представляет мера драматического наполнения конфликта, синтетическая основа жанра повести в стихах; переводная природа повестей привлекается периферийно. В работе О.Б. Лебедевой определено «эстетическое содержание нового жанрового определения», предстающего как переходное явление эволюции творчества романтика, что также представляет почву для сопоставительного анализа в нашем ракурсе31.
Основные акценты в теме «Жуковский и Шиллер» расставлены Л.П. Шаманской32. На привлекаемом широком материале (истории литературы, русского «шиллерианства» и поэтического перевода в России) исследователю удаётся концептуально определить общность и различие художественных систем поэтов, основные принципы и аспекты их взаимодействия: «Жуковский уловил богатство романтических возможностей в творчестве Шиллера, которого тот едва лишь коснулся, и, сосредоточив на нём всё внимание, обнаружил в душе человека
29 Там же. С. 69.
30 Лебедева О.Б. Драматургические опыты В.А. Жуковского. Томск, 1992. С. 117.
31 См. также наиболее полный из существующих комментарий О.Б. Лебедевой к «повестям» из Шиллера:
Жуковский В.А. ПССиП, Т. 3 (в печати).
32 Шаманская Л.П. В.А. Жуковский и Ф. Шиллер: поэтический перевод в контексте русской литературы.
Монографическое исследование. М., 2000.
10 непознаваемый мир с его собственными законами» . Объединяет этих двух художников, как считает автор, открытость их поэтических систем «иным, не только просветительским художественным концепциям»34. Главная черта эстетики и мировоззрения Жуковского - интроспекивная интенция - по-особому высвечивает грани шиллеровской поэтической системы: «через призму эмоционального воздействия на душу читателя Жуковский преломляет все категории эстетики Просвещения», они «приобретают принципиально иное качество - качество, собирающее воедино прекрасное "там" с не менее прекрасным "здесь"»35. Характер отбора Жуковским произведений Шиллера для перевода, по наблюдению Л.П. Шаманской, отражает общую тенденцию русской литературы, развивающейся от лирики к эпосу, и повести 1830-х гг. венчают второй балладный период, становятся продуктом работы по сближению прозы и поэзии, когда на первый план выдвигается соотношение судьбы отдельной личности с судьбой человечества.
В зарубежном шиллероведении выделим исследование Г. Фридла, связывающее реализацию отдельных мифообразов с эстетикой Шиллера. Поэт никогда не занимался вплотную понятием мифа и полагал его ещё очень конкретно как историю или представления о богах и героях, вследствие чего мифология для него определяется как наука о языческом учении о богах и истории о героях, связанная с Гомером, Гесиодом и Овидием как лучшими писателями. «Шиллер сводит мифы и мифологию до исторических и аллегорических редукций»36, однако открывает представления греков не только из-за их аллегорической потенции, за аллегорическим пластом он выстраивает систему отношений между определёнными действиями и моральными положениями, которая равно типична для познания и мифа как форм языковых, повествовательных. Указывая на мифологический генезис основных архесюжетов и на репрезентативность в этом отношении "Der Handschuh" и "Der Kampf mit dem Drachen", автор замечает, что не сущность мифа была для Шиллера проблемой, но действительность античного
33 Там же. С. 84.
34 Там же. С. 33.
35 Там же. С. 83.
36Friedl G. VerhUIlte Wahrheit und entfesselte Phantasie: Die Mythologie in der vorklassischen und klassischen Lyrik Schillers. WQrzburg, 1987. S. 12.
искусства: «Она представляла собой для поэта вызов эпохе рассудка, но пока ещё не понятие мифа, как это было в романтизме» .
В отличие от русского шиллерианства, начавшегося с Жуковского, вхождение (главным образом, через его же посредство) в русскую литературу наследия Л. Уланда изучено гораздо менее подробно. В библиотеке поэта в выписках из немецкой эстетики и критики 1818 года под заголовком "Deutsche Poesie" читаем: «Швабские стихотворцы, их лирические песни» . В основу структуры выписок (ко времени их создания переведены семь песен Уланда) положена мысль о том, что истинное поэтическое искусство генетически восходит к фольклору. Этот конспект Жуковского представляет собой своего рода «экстракт», отражающий созвучность мыслей конспектируемому материалу39, и включение школы швабских романтиков в краткую историю немецкой поэзии, безусловно, значимо.
В предисловии к одному из первых изданий поэзии Л. Уланда (по большей части в переводах Жуковского) А.А. Гугнин высказывает мысль о значении ярчайшего представителя швабской школы в истории романтизма, который «упорно, на протяжении десятилетий, призывал романтических поэтов стремиться к простоте, искренности, простосердечной народности и этим повлиял на формирование большинства поздних романтических поэтов»40. Увлечение средневековьем стало средоточием творческих и научных поисков Уланда, однако ценность этой исторической эпохи раскрывается в глубокой народности героев баллад, поэтому в их образах может доминировать сатира и ирония, рецепция Жуковского снова метатекстуальна и улавливает идиллическую доминанту эстетики, идею швабской школы.
«Нормандский обычай» как единственная и «драматическая» повесть в стихах среди уландовских стихотворных переводов Жуковского является этапной на пути от лиро-эпоса 1816—1824 к эпосу 1840-х гг. «Драматическая повесть» рассматривалась, как правило, в комплексе с повестями из Шиллера О.Б. Лебедевой, отметившей новое качество драматизма и синтетическую основу жанра
37 Ibid. S. 98.
38 Выписки В.А. Жуковского из произведений немецкой эстетики и критики // Библиотека В.А. Жуквского в
Томске, ч. II. Томск, 1984, С. 211.
39 Об этом: Янушкевич А.С. Немецкая эстетика в библиотеке В.А.Жуковского // Библиотека В.А.
Жуковского в Томске, ч. II. Томск, 1984, С. 140—203.
40 Там же.
12 «Нормандского обычая» («синтез баллады и повести в драматической форме»41), близость к слову оригинала и введение провиденциального мотива.
Для того чтобы чётко представить место «Normannischer Brauch» и говорить об особенностях его мифотворческой обработки Жуковским, обозначим эстетические принципы немецкого поэта Yi характер её рецепции русским романтиком.
Уланд снискал славу как народный поэт и ученый. Уже в своём первом сборнике «Стихотворения» (1815) он проявил себя как лирически одарённейший в кружке швабских поэтов (Кернер, Шваб, Вейблингер). Его песни вместе стали народным достоянием, сегодняшняя германистика видит в нем, прежде всего, предтечу немецкой фольклористики, исследований народных песен, сказаний и произведений средневековой литературы. Всё это в полной мере отражено в особом швабском романтизме Уланда: четкая гражданская позиция, средневековый колорит и народно-песенная традиция, но «с швабством было, в действительности, связано нечто особенное, даже если не переоценивать понятие швабской романтической школы» . Здесь речь идет о так называемом аллеманском культурном сознании, которое опиралось как на аллеманскую общность, так и на целый ряд литературных знаменитостей этого региона, среди которых и Ф. Шиллер. К первому вышедшему в свет произведению швабских романтиков, написанному от руки "Воскресному листку" ("Sonntags-BIatt"(1807)) двадцатилетний Уланд приложил небольшое сочинение «О романтическом» ("Uber das Romantische"), которое содержит указания на то, что составит для него истинный интерес. «Историческое исследование чудесного» ("historische Untersuchung des Wunderbaren") станет важной темой его зрелых стихотворений. Вторую определяющую черту эстетики Уланда, как замечает Г. Шульц, составляет мощная «бюргерская традиция» вкупе с «неотрефлектированной христианственностью» ("gerade Burgerlichkeit" und "unreflektierte Christlichkeit"), очевидно понимая под «бюргерством», в частности, тягу к идиллической сюжетности43.
41Лебедева О.Б. Драматургические опыты В.А. Жуковского. Томск, 1992. С. 123—124.
42 Schulz G. Schwabische Schule II Geschichte der deutschen Literatur von den Anftngen bis zur Gegenwart (Bd.
7/2). MQnchen, 1989. S. 783—793.
43 Имя прилагательное "bflrgerlich" и образованное от него имя существительное "BQrgerlichkeit"
передаются, в данном случае, как «бюргерский» и «бюргерство» соответственно в значении «простой», «не
Апелляция к фольклорно-мифологическому началу, отказ от идейной и эмоциональной сложности (очевидный и из полемического отношения поэта к критической статье Шиллера «О стихотворениях Бюргера») оказывается созвучным творческим интенциям Жуковского на данном этапе эволюции - «этапе лиро-эпическом (1817—1824)»44. И здесь фольклорно-песенные и элегические настроения произведений Уланда в синтезе с удалёнными во времени историческими и легендарными событиями («псевдоисторизмом») и детальными психологическими характеристиками главных героев вполне органичны исканиям Жуковского. Переводы Жуковского из Уланда соответственно разделяются на две тематические группы. Во-первых, это стихотворения, в которых доминирует народно-песенная традиция («Мщение» (1816), «Песня бедняка» (1816), «Три песни» (1816), «Был у меня товарищ» (1826-1827), «Три путника» (1820), «Братоубийца» (1832), «Царский сын и поселянка» (1832)), большая часть которых стали популярными немецкими песнями. Жуковский смягчает простонародно-грубоватый стиль повествования, сохраняя пафос оригинала. Особенность, присущая этим произведениям Уланда и всегда разворачиваемая и акцентируемая в русском переводе, - реализация христианских мифологических мотивов, которые призваны отразить в наглядности и житейской ценности основные религиозные традиции. Во-вторых, произведения рыцарской тематики - «Гаральд» (1816), «Победитель» (1822), «Алонзо» (1831), «Роланд оруженосец» (1832), «Плавание Карла Великого» (1832), «Рыцарь Роллон» (1832), «Старый рыцарь» (1832), в основе сюжетов которых лежат реальные события или легендарные истории и исторические имена. Жуковский, перенося их на иную национально-культурную почву, как правило, нейтрализует яркий историзм, усиливает лирическое начало, отказываясь от иронии в «рыцарских» текстах.
Таким образом, поэт перенимает две основные линии уландовской романтической концепции - национально-историческое направление мысли - в общих чертах и в соответствии с собственной потребностью.
утонченный», «народный» и «образ жизни и мышления простого народа». См.: DUDEN Deutsches UniversalwOrterbuch. Mannheim-Leipzig-Wien-ZQrich, 1989, S. 326 („bllrgerlich" - ,,2. a) dem BUrgertum angehorig, zugehOrend, entsprechend: die -e (einfache, nicht verfeinerte Gerichte bietende) Ruche"; „BUrgerlichkeit, die -: bllrgerliche Denk-, Lebensweise").
44 Согласно периодизации A.C. Янушкевича (см. Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского, Томск, 1985).
Перевод Жуковским «драматического отрывка» Уланда «Нормандский обычай» ("Normannischer Brauch") 1832 г. относится к числу творческих удач немецкого поэта. В «драматическом отрывке» Уланд пытается фольклорно представить в стихах, интерпретировать и «оживить» сказку Фуке, которому посвящает произведение. Можно говорить о глубинной связи «отрывка» с «Ундиной», составляющих также своего рода дилогию в рассматриваемом нами жанровом комплексе в творчестве Жуковского 1830-х гг. Эта связанность не стала предметом анализа, отчасти поэтому «Нормандский обычай» не попал в ореол «Ундины» (1831—1836) Жуковского, которую приветствовали Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, А.И. Герцен, И.С. Тургенев, В.Ф. Одоевский и многие другие литераторы, подчеркнув её неоценимое значение для мировой культуры и отделив её от немецкого оригинала.
Литераторы и критики едины в определении основной идеи «старинной повести»: в основе её художественной ценности лежит поэтическое воплощение романтического мировидения Жуковского. Принцип «двоемирия» гармонически разрешается сразу в двух плоскостях: в философско-эстетическом континууме Жуковского органично взаимодействуют мир земной и мир «нездешний», внутренний мир личности и мир внешний. П.А. Плетнёв отметил эту особенность «старинной повести»: «Ундина, в минуту явления своему поэту, была ниспослана для разоблачения всего, что только хранят для поэзии два мира: незримый и видимый: дух и человек, две их сокровищницы: фантазия и сердце»45. В.Г. Белинский также указывает на функцию углубления мифопоэтики: «как искусно наш поэт сумел слить фантастический мир с действительным миром, и сколько заповедных тайн сердца сумел он разоблачить и высказать»46. А.Н. Веселовский выражает свой взгляд на «Ундину» как на особый этап психологического
мастерства поэта . В то же время Н.В. Гоголь говорит о новом качестве повествования, замечая, что стих здесь становится «крепче и твёрже», а романтизм «как-то сговорчивее» .
45 Плетнев П. А. «Ундина» Жуковского //Литературные прибавления к «Русскому инвалиду на 1837 г.», 10
апреля, №15. С.281.
46 Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая // В.Г. Белинский. Собрание сочинений в
13-ти тт., М., 1955. Т.7. С. 199.
47 Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». М., 1918.
48 Гоголь Н.В. Поли. собр. соч., 1952. Т. II. С. 215.
Общая восторженная оценка явилась точкой отсчёта для литературоведения. Определить место повести в эволюции творческих взглядов поэта удалось томским исследователям, крупно и специально поставившим вопрос об эволюции романтизма Жуковского. В трудах томской школы «Ундина» представлена как результат работы поэта по «выявлению эпических возможностей поэзии»49 и «философского, притчево-символического начала»50; как естественно возникшая новая художественная форма, которой требовало широкое философское обоснование человека.
Важной вехой на пути исследования «старинной повести» В.А. Жуковского явилось издание «Ундины» в серии «Литературные памятники». Здесь дан не только точный дословный перевод романтической повести Фуке, выполненный Н.А. Жирмунской, но раскрывается и широкое историко-культурное бытование повести-сказки в различных видах искусства. Выполненная на широком биобиблиографическом материале работа Е.В. Ланда даёт значительное представление об истории публикации «Ундины» Жуковского и намечает некоторые проблемы её исследования. В целом же Е.В. Ланда подтверждает, что на сегодняшний день изучение этого интереснейшего художественного перевода ограничивается «лишь беглыми замечаниями самого общего характера»51.
Наиболее полно след «Ундины» в истории русской литературы и культуры представлен в комментарии Н.Ж. Вётшевой, представляющем в многоцветной мозаике отзывы Гоголя, Герцена, Достоевского «от однозначного восхищенного приятия до пространных комментариев»52, поэтические реминисценций «Ундины»; оттенки художественной и эстетической рецепции поэмы в творчестве В.Ф. Одоевского, В.Г. Бенедиктова, В.К. Кюхельбекера, Н.М. Языкова и др. Отмечая, что «именно "Ундина" становится наиболее полным выражением нравственно-эстетической философии Жуковского, его поэтики», автор указывает на отсутствие целостного исследования: «Символистское и неоромантическое прочтение "Ундины" Блоком и Цветаевой вновь актуализирует интерес к "Ундине" в XX веке, не увенчавшийся, к сожалению, целостным исследованием поэмы. Современные
49 Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции Жуковского. Томск, 1985. С. 207.
50 Канунова Ф.З. Вопросы мировоззрения и эстетики В.А. Жуковского. Томск, 1990. С. 168.
51 Ланда Е.В. «Ундина» в переводе В.А.Жуковского и русская культура // Фридрих де ла Мотт Фуке
«Ундина». М., 1991. С. 481.
52 Жуковский В.А. ПССиП в 20 тт. Т. 4. Комментарий Н.Ж. Вётшевой (в печати).
комментаторы и исследователи (за исключением, пожалуй, Ц.С. Вольпе и Н. Eichstadt) ограничиваются одновременно частными и общими замечаниями»53.
Таким образом, современном жуковсковедении наработана необходимая база для постановки проблемы целостного изучения системы переводов первого русского романтика в аспекте мифопоэтики (см. работы и статьи разных лет И.А. Айзиковой, Н.Ж. Вётшевой, Э.М. Жиляковой, Ф.З. Кануновой, О.Б. Лебедевой, Н.Б. Реморовой, А.С. Янушкевича и других исследователей). Фундаментальные качества мысли и наследия русского романтика - принципы системности и динамики - потенцируют выявление базовых образов, мотивов и сюжетов, организующих основ мифопоэтики в художественном мире Жуковского. «Жанровая эволюция Жуковского - органическая часть общей эволюции»54 поэтической системы и преломление общих тенденции развития русской литературы. Особенно репрезентативен «рубежный» период 1830-х гг., знаменующий активный поиск адекватной эстетической формы (баллады, идиллии, повести, сказки) и обновление принципов художественного мышления в целом. Тяготеющие к прозиметрии лироэпические повести Жуковского 1830-х гг. представляют собой структуру особого философского потенциала на пути к осмыслению крупного, классического стихотворного мифоэпоса.
Мифологизм романтизма и символизма как культурно-исторических феноменов и как типов художественного сознания, реставрация мифологического принципа организации мирообраза сравнительно недавно стали предметом специального рассмотрения. Монографические исследования Л.А. Ходанен (2000), Е.Н. Корниловой (2001), А.А. Ханзен-Лёве (2003) системно представляют соответственно мифопоэтику русского и западно-европейского романтизма, русского символизма. Однако место первого русского романтика остаётся недостаточно определённым в силу парадоксальной («переводной» и сущностно «оригинальной») природы его романтизма («мифотворчество Жуковского всегда индивидуально, поскольку в его основе лежит идея философская»55).
Историко-культурные предпосылки сотворения «универсального романтического мифа» европейцев, его специфику и более поздние проявления
Жуковский В.А. ПССиП в 20-ти т. Т. IV. Комментарий Вётшевой Н.Ж. к «Ундине» (в печати). 54 Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жуковского. Томск, 1985. С. 12. " Ходанен Л.А. Миф в творчестве русских романтиков. Томск, 2000. С. 63.
17
мифологического сознания в европейской литературе (в творчестве Новалиса,
Гофмана, Байрона, Бальзака и др.) рассматриваются в монографии Е.Н.
Корниловой «Мифологическое сознание и мифопоэтика западноевропейского
романтизма». Исследователь освещает генезис мифопоэтики немецкого
романтизма, выделяя три главных источника - мистицизм Я. Бёме, фихтеанский
волюнтаризм (провозгласивший универсализм деятельности трансцендентального
субъекта) и эстетику сказочной жанровой формы; а также указывает на основные
особенности мифического в романтизме, не являющегося прямой аналогией или
попыткой объяснить мир, но обращенного к «области этического (гуманизация и
сохранение традиции культуры)» и к «сфере эстетического (создание
универсального мира высокой поэзии)»56. Эти два плана всегда имплицированы в
(мифопоэтическом) образе романтической поэзии, «содержательной форме,
находящейся в органическом единстве со своим содержанием - "символом"»57.
Русский романтизм Жуковского оригинален во многих аспектах. В силу своего синтетического и эволюционирующего характера он обнаруживает точки соприкосновения с романтизмом немецким, неполемические отношения преемственности с Классицизмом и Просвещением.
Исследованию способов обращения русских романтиков с мифом и некоторым проблемам мифопоэтики русского романтизма посвящена работа Л.А.
Ходанен «Миф в творчестве русских романтиков» . Автор справедливо разделяет
«мифологическую» (как обращение к древней, христианской и национальной
' мифологии) и «мифологизирующую» (как склонность к мифологизации любого
жизненного процесса) тенденции в эстетике романтизма. В рамках первой традиции исследователь останавливается на отношении русских романтиков к элементам мифологии в составе славянского фольклора (на широком материале исследуется отражение славянской демонологии в творчестве О.М. Сомова, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Н.М. Языкова и др.). Л.А. Ходанен анализирует «мифотворчество» русского романтизма, рассматривая его как единый мифологический «текст» со своей знаковой системой имён и сюжетов. Мифология традиционно выступает в функции источника мотивов, которые трансформируются
56 Корнилова Е.Н. Мифологическое сознание и мифопоэтика западноевропейского романтизма. М., 2001. С.
12.
57 Там же. С. 18.
., я Ходанен Л.А. Миф в творчестве русских романтиков. Томск, 2000.
18 в славянском фольклоре, что становится очевидным при анализе внутрикультурной рецепции культурных символов в творчестве русских романтиков. В.А. Жуковский предстает как в высшей степени оригинальный в обращении с теми же образами и мотивами.
Используемый нами термин «мифопоэтика» позволяет снять актуальность
противопоставления психологической и эстетической природы архетипического,
так как плодотворен при условии обязательного включения в сферу
мифопоэтического содержательности индивидуальной формы самого
художественного текста. Его появление обусловлено стремлением рассуждать о
мифе не только как архаической форме мышления и повествования, но как об
органически функционирующем в литературном произведении, задающем
самостоятельную плоскость интерпретации. Существует целый ряд отсылающих к
уровню мифопоэтики определений-маркеров: «мифоцентричность»,
«мифогенность», «неомифологизм», «мифореставрация», «вторичная семиотизация» и т.д. «Мифопоэтика» является наиболее удачным термином в нашем случае, поскольку позволяет охватить результаты взаимодействия мифа и литературы (мотивы), а также связанные с мифологизмом художественные установки Жуковского-переводчика.
Актуальность настоящей работы обусловлена широким интересом современного литературоведения к мифолого-эстетическим, нравственно-философским основам художественного творчества. С этой точки зрения, глубокий смысл имеет постановка в работе проблемы сопряжённости переводческих принципов («гения перевода») В.А. Жуковского с мифопоэтикой первого русского романтика, лежащей в основе текста и межтекстуальных отношений. Избранный подход позволяет определить вероятные корелляции основных положений современного переводоведения, компаративистики и нарратологии в изучении художественных форм реставрации мифа. Выявление мотивов и мотивных комплексов, образующих собственный подвижный текст произведений, дает возможность проиллюстрировать взаимодействие мотивологии и мифопоэтики. Сконцентрированность на жанровом измерении позволяет поставить вопрос об эстетическом содержании формы стихотворной повести Жуковского 1830-х гг. в системе жанров поэта и в контексте развития русской литературы.
Материалом исследования в диссертации являются стихотворные повести В.А. Жуковского 30-х гг. XIX века - переводы из Ф. Шиллера 1831 г. («Перчатка», «Сражение с змеем», «Суд Божий»), из Л.. Уланда 1832 г. («Нормандский обычай»), а также переложение повести Ф. де ла Мотт Фуке «Ундина» (1831— 1836), рассматриваемые в сравнительно-сопоставительном аспекте как переводы, а также как варианты специфической художественной формы.
В процессе анализа мифопоэтики стихотворных повестей Жуковского 1830-3 гг. предполагается обращение к иным поэтическим («Суд в подземелье», «Цейкс и Гальциона», «Море», «К русскому великану», «Судьба», «Одиссея», «Странствующий жид», балладам 1810-х и 1830-х гг. «Гаральд», «Мщение», «Громобой» и «Вадим», «Рыцарь Тогенбург», «Кубок», «Алонзо», «Замок Смальгольм», «Роланд Оруженосец», «Плавание Карла Великого», «Рыцарь Роллон» и др.) и прозаическим («О меланхолии в жизни и в поэзии», «Нечто о привидениях») текстам романтика для уточнения и иллюстрации основных положений работы.
В работе представлен современный поэту литературный контекст: привлекаются художественные произведения русских и европейских писателей (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Е.А. Баратынского, И.И. Козлова, О.М. Сомова, А.А. Бестужева, А. Погорельского, В.Ф. Одоевского, К.С. Аксакова, И.В. Киреевского, Ф.М. Достоевского, В. Скотта, И.-Г. Гердера, А. Шамиссо), а также широкий спектр зарубежных и отечественных литературно-критических и философско-эстетических статей, эпистолярия (Э.-Б. Кондильяка, Ш. Бонне, И.-В. Гёте, Новалиса, В.Г. Белинского, П.А. Плетнёва, В.К. Кюхельбекера, СП. Шевырёва, Н.М. Карамзина и др.).
В качестве предмета исследования избран мифопоэтический аспект переводного творчества В.А. Жуковского, что обусловлено рядом факторов: романтическим методом перевода, ярко выраженной мифотворческой тенденцией его поэзии, универсализмом художественного мышления.
Цель работы - определить своеобразие мифопоэтики переводных стихотворных повестей В.А. Жуковского 1830-х гг.
В соответствии с этим решается ряд частных задач:
на основе сопоставления с оригиналом установить механизм взаимодействия переводческой стратегии В.А. Жуковского с мифологизмом поэтического сознания первого русского романтика;
рассмотреть мифопоэтический уровень в художественной структуре повестей в соотношении с жанровой формой и другими категориями поэтики (сюжетно-композиционным строением, типологией героя и характерологией, авторским началом, пространственной организацией) для выявления его потенции в выражении нравственно-философской и эстетической позиции автора;
определить и исследовать различные формы мифопоэтики в повестях -основные мифомотивы и мифологемы, а также мифореконструктивные художественные приёмы автора, позволяющие представить в тексте идею целостности, однородности бытия;
проследить эволюцию мифопоэтики В.А. Жуковского в повестях-переводах 1830-х гг. в контексте всего творчества поэта;
обозначить место стихотворной повести Жуковского в литературном контексте русской поэзии и прозы 1830-х гг. на основе привлечения комплекса русских романтических поэм и повестей «в фантастическом роде».
Основные методы исследования
Характер задач исследования, а также современный подход к изучению материала обусловили его методологию.
В соответствии с проблематикой работы методологическим основанием следует считать сочетание сравнительно-типологического, теоретико-мифологического и историко-литературного подходов.
Системно-типологический метод позволяет выявить базовые образы, мотивы и художественные приёмы Жуковского, системность которых даёт возможность применения мифопоэтической методологии.
Методологической базой исследования мифопоэтики стихотворных повестей Жуковского следует считать историко-литературные и теоретические труды отечественных и зарубежных литературоведов (М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Ю.Н. Тынянова, Б.В. Томашевского, Б.А. Успенского, Б.М. Гаспарова, В.И. Тюпы, А.А, Ханзен Лёве, Г. Фридла и др.), работы компаративистов (А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, Р.Ю. Данилевского, X. Эйхштедт) и переводоведов (Ю.Д.
21 Левина, А.В. Фёдорова, П.М. Топера, П. Торопа и др.), давшие образцы изучения поэтики, интерпретации и рецепции произведения.
Теоретической основой представленного исследования являются исследования по теории, истории и интерпретации мифа, архетипа, символа (К.-Г. Юнга, Э. Кассирера, К. Леви-Строса, А.Ф. Лосева, О.М. Фрейденберг, В.Н. Топорова и др.); онтологии и теории познания (М.К. Мамардашвили, П. Рикёра, A.M. Пятигорского, Р. Барта и др.); теории и семиотики художественного текста (В. Изера, К. Аймермахера, Вяч. Иванова, Ю.М. Лотмана и др.).
Научная новизна заключается в следующем:
в диссертации впервые поставлена проблема сопряжённости переводческих принципов В.А. Жуковского с мифопоэтикой его эстетики и творчества;
стихотворные повести В.А. Жуковского 1830-х гг. рассмотрены в аспекте мифопоэтики в двух взаимодополняющих исследовательских системах координат: как переводы в соотношении с оригиналом, а также в их единстве, основанном на жанровом определении;
подробно рассмотрен механизм влияния глубинной мифосистемы поэта на переводческую стратегию в художественной структуре повестей 1830-х гг. на уровне классических категорий поэтики (сюжета и композиции, автора и героя);
произведён анализ мотивной структуры стихотворных повестей Жуковского 1830-х гг., раскрыты закономерности её функционирования;
выделены и исследованы в широком контекстуальном поле русского романтизма и собственной творческой эволюции важнейшие категории индивидуальной мифологии и антропологии Жуковского, максимально репрезентативные для мирообраза художника;
исследованы организация художественного пространства и нарратива, композиция повествовательных инстанций стихотворных повестей-переводов 1830-х гг.;
предпринята попытка представить стихотворную повесть первого русского романтика в общем движении русской литературы, обозначить специфику поэтической идеи Жуковского в решении задачи по разработке малой эпической (стихотворной) формы в 1830-х гг.
Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в том, что избранный подход к исследованию литературных жанров открывает новые перспективы для изучения поэтики В.А. Жуковского и русского романтизма. Основные положения и выводы диссертационного сочинения могут найти применение в исследованиях в области теории и практики художественного перевода, межкультурной коммуникации. Материалы исследования могут быть использованы в эдиционной практике, при разработке курсов по истории русской литературы XIX в., спецкурсов и в спецсеминарах по творчеству Жуковского, по историко-функциональному изучению литературы.
Структура работы определяется поставленными задачами и предметом исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка источников и литературы, включающего 300 наименований.
В первой главе «Принципы перевода В.А. Жуковским стихотворных повестей 1830-х гг.» проводится сравнительное исследование русских текстов в системе «оригинал - перевод» в пространстве литературной эволюции и контексте традиции русского романтика в национальной литературе. Поуровневый сравнительный анализ поэтики призван раскрыть основные приёмы Жуковского-переводчика, художественная реализация которых определяет особую поэтику жанра повести в стихах.
В первом разделе на основании сопоставления с немецкими текстами исследуются особенности сюжетно-композиционного строения повестей, рассматриваются самые значимые трансформации, на основании чего делаются выводы о стратегии обращения оригиналов; ставится имеющая самостоятельное значение проблема системности исследуемого корпуса текстов, обнаруживающих в сюжетно-фабульном строе очевидные аналогии архетипического плана.
Во втором разделе внимание сосредоточено на системе образов в повестях. Анализ способов описания характеров, имеющего принципиальное значение для русского романтика, позволяет выявить основные моменты перераспределения смысловой и эстетической нагрузки элементов внутри поэтической структуры произведений при переводе. Особое внимание привлекает рыцарская образность повестей, подробное рассмотрение которой даёт основание для постановки вопроса об эстетической и этической нагрузке рыцарской тематики в картине мира и поэзии
23 Жуковского, решению этой задачи посвящен третий раздел главы. Художественный образ рыцарства оказывается в целом органичным эстетике мистического романтизма и обладает для европейцев силой архетипической. Пытаясь донести эту культурную модель до русского читателя, поэт универсализирует и одновременно оживляет её в своём герое в соответствии с риторикой жанра и собственной эволюцией. Верность идеалу и высоким нравственным добродетелям, отношение к врагу и отношение к женщине, словом, эстетизация классического рыцарского этоса в поэзии Жуковского оригинальна в сравнении с вариантами активной рецепции рыцарской темы, представленными в творчестве И.И. Козлова, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского.
В третьем разделе исследуется характер и способы экспликации авторской линии в текстах стихотворных повестей, особенно важной в связи со спецификой жанра («повесть» маркирует прежде всего повествование аукториального автора) и поэтического нарратива поэта («циркуляцией лиризма»). Анализ трансформаций, предложенных переводчиком, позволяет говорить об акцентуации категории «имплицитного читателя» (К. Изер) и об автокоммуникативности представленной модели диалога, в связи с чем пафос преходящести легко дешифруется как идиллический. Подчёркнутый христологический план вкупе с элегико-идиллической модальностью создают такую важную жанровую характеристику повестей как притчевость. Пафос снятия внутренней обособленности частного бытия, создающий притчевую риторичность текста, организует повестийный мир Жуковского 1830-х гг. Максимально эта авторская интенция реализуется в «Ундине».
Изучение авторской позиции имеет своим продолжением изучение вопроса о соотношении автора и художественного языка его произведения, наиболее содержательной формой которого является язык жанра.
Вторая глава «Мифопоэтические основы жанра стихотворной повести В.А. Жуковского 1830 - х гг.» представлена четырьмя разделами и посвящена исследованию мифопоэтики жанра в двух основных направлениях: мифологических основ поэтики (художественных стратегий) и конститутивных мифологем. Центральные мифологемы поэтической системы Жуковского в
24 повестях не только восходят к своему архаическому значению, но вбирают в себя опыт культуры и индивидуальный опыт художника.
В разделе «Мифопоэтжа мотивной структуры повестей» выделяются и исследуются основные мотивы художественной системы романтика, отразившиеся в переводах.
Под мотивом мы понимаем вербально развитый образ, под мифомотивом -мотив, основной функцией которого в художественном мире романтика является интегрирующая, оцельняющая. Термин «мифологема» используется для обозначения ключевых символов картины мира художника, эстетически представленной в произведении; и категория «мифомотива» для маркировки конкретной реализации. О мифологемах «судьбы» и «души» говорится как основополагающих в в стихотворных повестях В.А. Жуковского 1830-х гг. и эксплицированных в целой системе мотивов. Жанрообразующим фактором оказывается взаимодействие двух форм мифопоэтичности: мифичности «романтического» мировидения поэта и экспликации двух основополагающих мифологем человечества. В результате в переводах из Шиллера («Перчатка», «Сражение с змеем», «Суд Божий»), Уланда («Нормандский обычай») и Фуке («Ундина») находит выражение сложная реализация того, что имеет признаки общеизвестных мифов (о «душе» и «судьбе»), в том, что содержит условия возникновения мифа (художественном мире поэта-романтика). Эта корреляция составляет онтологическое содержание жанра стихотворной повести.
Первый параграф посвящен исследованию конститутивной категории антропологии Жуковского - категории «души». Прослеживается её эволюция от 1810-х—1820-х гг., когда поэт говорит о душе как пространстве «внутреннего существования», как о территории аккумулирования ощущений, до 1840-х гг., когда первичная онтологическая ориентация связывается с категориями христианской религии. На материале повестей 1830-х гг. рассматривается взаимосвязанность данной мифологемы с мотивом «сердца».
Во втором параграфе рассматривается индивидуальная реализация русалочьего мотива в «Ундине» как проекции основной мифологемы души, определяется новаторство Жуковского в трактовке мотива по сравнению с натурфилософской и оригинальной (в тексте Фуке).
В третьем параграфе речь идёт о маринистике Жуковского. Прослеживается эволюция морского мотива в поэзии романтика, а также в «Номандском обычае» и «Ундине», где морская образность напрямую связана с провиденциальной темой.
В четвёртом параграфе представлена вторая конститутивная мифологема художественного мира поэта - мифологема судьбы, а также мотив суда как основная её проекция в стихотворных повестях 1830-х гг.
В разделе «Мифопоэтика художественного пространства» выявляется мифотворческая доминанта пространственной организации переводов. Парадигматическому рассмотрению пространственных характеристик, семантически обогащающих разворачивание мотивов в сюжете, предшествует рассмотрение их как образующего целостность синтагматического ряда в плане возможных смысловых отношений. Предметом внимания становится топос (анализируются пространственные знаки «круга» и «угла», «берега» и «моря», «дома» и «хижины», «утёса» и «леса»). Также пространство рассматривается как самостоятельная сюжетоорганизующая категория.
Третий раздел посвящен нарративу как значимому поэтическому уровню стихотворных повестей 1830-х гг. Исследуется функция устного слова, композиция повествовательных инстанций.
Четвёртый раздел посвящен определению места стихотворных повестей В.А. Жуковского в контексте литературной эпохи 1830-х гг. и эволюции жанра повести в стихах, романтической поэмы. Для сопоставления привлекаются русские «романические поэмы» и прозаические «фантастические повести» 1830-х гг. Подробно говорится о модели исследуемого жанра в творчестве А.С. Пушкина, развитие которой является альтернативным варианту первого русского романтика.
В заключении подводятся итоги исследования, намечаются перспективы работы по данной теме.
26 Положения, выносимые на защиту:
стратегия В.А. Жуковского-переводчика стихотворных повестей 1830-х гг. мифологична по своей природе и определяется сознательной установкой на вторичную семиотизацию «чужого», на общеромантическое постижение явлений в их единстве и на целостное их продуцирование с помощью символов;
мифотворческая интенция в обращении оригинальных текстов Ф. Шиллера, Л. Уланда, Ф. де л а Мотт-Фуке определяется задачами, вставшими перед В. А. Жуковским и русской литературой в 1830-е гг. (на пути укрупнения жанровой формы и оттачиванию эпической доминанты поэтического текста);
стихотворные повести занимают особое место в системе поэтических жанров Жуковского 1830-х гг. (сказок, баллад), представляя собой «формы» богатого философского потенциала, что находит выражение в универсальной идиллической эстетической модальности, тщательной разработке нарративной структуры, онтологическом притчевом насыщении конфликта за счёт усиления религиозно-культовой образности;
в основе мифопоэтики стихотворных повестей 1830-х гг. лежит ядерная структура, составленная нераздельно связанными мифологемами «судьбы» и «души» и разворачивающаяся в мотивной структуре художественных текстов Жуковского с явными акцентами на морском и русалочьем мифомотивах, мотивах сердца, суда и смирения;
пространственный текст стихотворных повестей дублирует их фабульную модель - ухода героя из «своего» в «чужое» пространство и последующее возвращение, однако поддерживаемый архетипической опорой топосов «храма» («церкви») и «дома» («хижины»), «леса» и «моря» принцип дихотомии нейтрализуется посредством внесения мифологического содержания для снятия остроты конфликта неповторимой индивидуальности с Вечностью, «души» и «судьбы», что находит художественное выражение в символике круга (сферы);
жанрообразующим принципом стихотворных повестей Жуковского 1830-х гг. является ремифологизация нарративности - в силу особой эстетической значимости сказовое представление события первично по отношению к действию. Повествование в широком смысле является основной (ядерной) функцией текстов переводов и единицей сюжета, связанной с другими его элементами;
27 благодаря углублению мифопоэтики стихотворная повесть В.А. Жуковского представляет альтернативу магистральной линии романтической «поэмы» и прозаической повести «в фантастическом роде» в контексте литературной эпохи 1830-х гг.
Особенности сюжетно-композиционного строения стихотворных повестей 1830-х гг
Повести представляют собой однородные архитектонические и художественные формы. Особого качества поэтическая композиция, выражающая ценностное, эмоционально-волевое отношение автора, неразрывно связана с автором-переводчиком, выступающим в качестве конститутивного момента художественной формы. В этом случае архитектоника каждой из анализируемых «пар» (перевод-оригинал) неэквивалентна, здесь мы отметим только, что размер перевода всегда оригинален. Свободный неравностопный амфибрахий вперемежку ямбами "Der Handschuh" переведён Жуковским в свободный ямб, четырёхстопный ямб "Der Kampf mit dem Drachen", ямбические восьмистишия "Der Gang nach dem Eisenhammer", проза "Undine" - в гекзаметр, трёхстопный ямб "Normannisher Brauch" заменён хореем. Подобно тому, как «поэтическая речь в узком смысле требует единообразия всех слов, приведения их к одному знаменателю»3, жанр стихотворной повести, потребовал особой однородной архитектоники и единой художественности. Главной интенцией поэта при этом стал поиск синтеза прозы и поэзии под знаком повествования о событии, в частности, повесть в стихах явилась важной вехой на этом пути. На первое место выводится повествовательная стихия, и в основе сюжетно-композиционной организации лежит принцип поэтического повествования. Поэт применяет различные способы эпизации, «повестийность»4 всегда играет роль организующего фактора поэтики. Она становится зерном жанра повести в стихах 1830-х гг., повесть прозаическая «и все ее многочисленные разновидности (происшествие, анекдот, итальянская, греческая и т. д. повесть)», возникающая в переводном творчестве поэта уже в конце XVIII — начале XIX в., как отмечает И.А. Айзикова, «практически уходит». При этом прозаическую «повесть» трудно отличить от «истинного происшествия» или «анекдота», а «греческую» и «итальянскую» повесть от «восточной»5. Композиция анализируемых переводов в целом передаёт сюжетно-композиционное устройство оригиналов. Жуковский соблюдает четырёхчастную структуру «Перчатки», вполне воспроизводя сюжет оригинала (в отличие, например, от сокращённого перевода М.Ю. Лермонтова (1829), в котором точнее передан ритм и рифма, как и драматизм конфликта). На первый взгляд русский автор выстраивает простейшую композицию с последовательным применением способа внешнего описания, что вполне типично в первую очередь для эпоса. Благодаря отсутствию внутренней мотивированности поступков, скрытости внутреннего мира героев достигается эффект объективного повествования. В русле этого движения к эпическому повествованию оказывается и предпринятая трансформация метрики и строфики оригинала. Будучи «принципом упорядоченного движения»7, ритмика является системой, с одной стороны, соразмерных отрезков звучания, а с другой, воспроизводимых внутренней речью интонаций. Поэтому ритм несёт важную функциональную нагрузку, превращая хаотичную последовательность в «моделирующую смысл целого средствами, не обременёнными коннотациями общепонятного языка»8. Свободный неравностопный амфибрахий вперемежку с ямбами создаёт энергичный, отрывистый и сильный ритм шиллеровской «Перчатки», концентрирует драматизм конфликта. Свободный ямб Жуковского перемещает акцент с общего напряжённо-экстремального характера происходящего, в центр внимания повествователя и зрителя (читателя) помещается событие в его субстанциальной сущности. Эти смыслы дублируются морфологическим уровнем текста, чрезвычайно насыщенным глагольными и отглагольными формами. Жуковский, увеличив почти в полтора раза их количество (40 - в немецком тексте, 59 - в русском), меняет их смысловое «качество»: все глагольные формы в оригинале стоят в настоящем времени, в то время как у Жуковского время и вид глагольного наполнения варьируется по движению сюжета. То есть авторская (и читательская) позиция в первом случае синхронна происходящему. Автор русской повести ведёт рассказ о действии преимущественно в глаголах прошедшего времени совершенного вида, вводя формы, «адекватные» оригиналу (настоящего времени), исключительно в тех точках сюжета, где важно зафиксировать время и повествование с началом новой «сцены». Сюжетно таких «сцен» в тексте баллады можно выделить шесть: три первые связаны с появлением льва, тигра и леопардов, в центре последующих -соответственно Кунигунда, рыцарь, и, наконец, финальная «сцена» знаменует собой развязку действия. У Шиллера каждая из них выделена композиционно и графически в отдельную строфу, начинающуюся с анафоры в форме союза «und» (который соединяет в себе семантику русских союзов «а» и «и»): "Und wie er winkt mit dem Finger..." («И (А) король делает знак пальцем...» ) , "Und der Konig winkt ieder..." («И (А) король машет снова...»), "Und der K6nig winkt wieder..." («И (A) король машет снова...»), "Und zu Ritter Delorges spottenderweis ..." («И (А) к рыцарю Делоржу с насмешкой...»), "Und der Ritter in schnellem Lauf..." («И (A) рыцарь быстрым шагом...»), "Und mit Erstaunen und mit Grauen..." («И (А) с удивлением и ужасом...»). Описание короля и падение перчатки не выделено, как у Жуковского, в отдельную строфу, действие баллады распределено по-иному. Миру устрашающему, стихийному, нечеловеческому посвящена большая часть повествования, что в единстве с кратким, лаконичным описанием «человеческой» коллизии и создаёт драматический эффект. В русской повести семь строф, при этом выступление «диких кошек» уложено в две строфы, а остальные пять посвящены последовательному развёртыванию события в «мире людей». Каждая из них и представляет собой эпический «кадр внутреннего зрения»: пафосное описание короля с его двором, затем падение перчатки на глазах у «всех гостей», обращение Кунигунды, действия Делоржа, финальная сцена.
Образная система повестей
Система персонажей каждой из повестей выстраивается довольно сложно, что отражает тщательную работу поэта. Хотя способ обрисовки характера индивидуален в каждом произведении, можно отметить ряд особенностей образности, нашедших выражение в корпусе рассматриваемых текстов и составляющих специфику жанра. Образную систему «Перчатки» нельзя назвать элементарной: напряжение между главными фигурами (Делоржем и Кунигундой) оттеняют два собирательных образа - диких кошек (льва, тигра и барсов) и наблюдающих за происходящим людей (короля Франциска с двором, гостей турнира). Жуковский изменил акценты, расставленные Шиллером, не только «превратив» леопардов в барсов, но сфокусировав внимание на «драме в мире людей» (Д.В. Цветаев). Способ обрисовки характеров в русском варианте в целом воспроизводит оригинальный с некоторыми особенностями. Герой показан с позиции внешней, но при этом очевидной задачей произведения Шиллера является заставить читателя представить его «изнутри», сопереживать. При этом автор-повествователь в балладе последователен в реализации этой структуры: описывается поведение рыцаря (и Кунигунды), которое доступно наблюдению со стороны, исключая характеристики субъективные, любые проекции внешних черт на индивидуальный опыт (это право предоставляется читателю). Жуковский переводит фрагменты почти дословно, изменяя некоторые нюансы определений: «Делорж, не отвечав ни слова, IIК зверям идёт, // Перчатку смело он берёт ... »; «Спокойно всходит на балкон ... »; «Но, холодно приняв привет её очей...». Молчание Делоржа («не отвечав ни слова») задаёт перспективу внутреннего действия, направляет на сдерживаемую внутреннюю коллизию. Дальнейшие движения прочитываются как прямое проявление силы духа, что обусловливает и сам характер определений («смело», «спокойно», «холодно» в повести и «бегом», «уверенным шагом», «ловко» в балладе). В том же ключе трансформирован и образ красавицы Кунигунды, её обращение к Делоржу интимнее, в то время как речь немецкой фройляйн насмешлива. Официально-ироничное «Sie» и колкое «Herr Ritter» Жуковский передаёт интимным «ты» и «мой рыцарь верный». Сцена из придворно-рыцарского уклада начинает походить на диалог близких друг другу людей. Иными словами, открывая самоценность события, Жуковский остаётся верным основополагающему принципу романтизма, углубляя драму в межличностных отношениях. Русский переводчик расширяет и одновременно пытается объективнее представить это пространство за счёт акцентуации третьей активной позиции - наблюдающих за действом. Переломный момент падения перчатки, поступок рыцаря и, наконец, финал сопровождается более распространённым, чем в оригинале, описанием публики, автор «ссылается» на восприятие окружающих дважды, и образное пространство эпически размыкается. Ср.: Da fallt von des Altans Rand Ein Handschuh von sch6ner Hand Zwischen den Tiger und den Leun Mitten hinein (252) (Тут падает с края балкона Перчатка с красивой руки Между тигром и львом Посреди.) И гости ждут, чтоб битва началася. Вдруг женская с балкона сорвалася Перчатка... все глядят за ней... Она упала меж зверей (253). Дополнительная акцентуация позиции гостей турнира, указание на их ожидание и сопереживание - выраженное двойным упоминанием в выделенном в отдельную строфу кульминационном моменте - добавляет объективности. Здесь же «вдруг», отсутствующее у Шиллера, перенос («сорвалася // Перчатка»), всеобщее напряжение, отграниченное многоточиями в отдельную синтагму («...все глядят за ней...») сообщает фрагменту остроту, эквивалентную шиллеровской. Однако интимизация образов главных героев, размеренный ритм повествования сглаживают роковой драматизм баллады. Если в «Der Handschuh» распространённость описания образов минимальна, то в «Der Kampf mit dem Drachen» психологический аспект повествования сложен, разветвлён и занимает доминирующую позицию1. В «Сражении с змеем» происходит последовательный перенос глубокого психологизма героев Шиллера в сферу «души, поглощающей мир» . Автор и читатель двигаются за героем, победившим зверя, - за его рефлексией - из настоящего в прошлое и обратно. Изображение главного характера «изнутри» теперь доминирует над «внешним», которое возникает только в финальном приговоре магистра перед развязкой. Такая «точка зрения» или позиция «художественного» автора Жуковскому и его методу «психологического романтизма» определённо более близка именно в силу «проблематики интроспекции» . В повестях конфронтация «Я» и мира служит развёртыванию проблемы субстанциальной, общечеловеческой, и внутренняя противоречивость личностных проявлений героев не составляет главного конфликта. Заострение нравственно-этического пафоса и психологизма не является основной внутрихудожественной задачей поэта в 1830-е гг., но эта грань является естественным системообразующим началом поэтики стихотворных повестей. Лейтмотивные и оригинальные образы-понятия русских текстов - «душа» и «сердце». Варианты соответствия данных слов в оригиналах и русских переводах Жуковского («das Herz» - «душа», реже «сердце»; «die Seele» - «душа»), как и неоднократное их привнесение доказывают принципиальную значимость. Эквивалент немецкого поэтического «das Herz» ("ein gedachtes Zentrum der Empfindungen, des Gefiihls, auch des Mutes und der Entschlossenheit"4) - русское «сердце», а немецкому "Seele" ("das, was das Fuhlen, Empfinden, Denken eines Menschen ausmacht"5) максимально соответствует русское «душа». Душа и сердце -культуроспецифичные слова, в поэтической речи они часто функционируют как эквивалентные, но анализ лексических соответствий позволяет говорить о значимости их смыслового различия для поэта-переводчика в рассматриваемом комплексе текстов.
Мифопоэтика мотивной структуры повестей
Под мотивом традиционно подразумевается основная повторяющаяся, развивающаяся категория, «предметно (объектно) выраженная: в характерах и поступках героев, в лирических переживаниях, в драматических действиях и ситуациях, в символически обозначенных, разномасштабных художественных деталях и т.д.»1. Не углубляясь в теоретические нюансы мотивологии, мы обозначим мотив функционально - как аналитическую единицу, отвечающую за подключение к общему семантическому полю текста и являющуюся необходимым механизмом анализа произведения. Аналитическое восприятие мотивов служит для распознавания сюжета и установления содержательного поля того или иного мотива в комплексе рассматриваемых текстов. Итогом становится выявление ключевых словообразов, слов-доминант, устойчивых метафор в поэтическом языке, установление авторского художественного мироотношения. Базисом для выявления этих знаковых единиц эстетической системы Жуковского, и, в частности, в рамках жанра стихотворной повести 1830-х гг. служит анализ принципов работы переводчика со словом оригинала (см. главу I). Мы попытаемся выделить более или менее единую мотивную структуру, исходя, с одной стороны, из уже сделанных текстологических наблюдений, с другой, - из специфики эстетической системы поэта. В частности, мы склонны утверждать реализацию в рамках этой романтической системы метакатегорий - мифологем, в рамках которых диффундируют и разграничиваются индивидуальные воплощения постоянных мотивов. Так, мотивы «суда», «моря», «смирения» и «ундины» эксплицированы под знаком мифологем «судьбы» и «души».
Мифопоэтика стихотворных повестей романтика Жуковского, текстов зрелого периода его творчества, складывается на пересечении трёх основных тенденций мифичности. В частности, здесь следует различать концепты природной мифичности (любого) сознания, мифичность романтической эстетики и мифосознание (не по качеству, но по степени экспликации мифического). Проблема в том, что определением «мифический» может обозначаться, во-первых, то, что обнаруживает признаки и функции мифа (мифологемы), во-вторых, то, что содержит условия возникновения признаков мифа (эстетика романтизма), в третьих, то, что обусловлено мифичностью сознания (мифоцентричные мотивы романтизма, его образы-символы с предикативным содержанием). Поэтому мы разграничиваем символы как основания мифичности сознания (конститутивные категории антропологической картины мира) и символы как формы проявления мифичности, частные реализации. Мы определяем как мифологемы символы, обуславливающие мифичность поэтики повестей (мифологемы судьбы и души), и как (мифо)мотивы - символы, обусловленные ею (в различной степени). Мифопоэтика стихотворных повестей создаёт своего рода интертекст, то есть порождает особую (отличную от оригинала) контекстуальную совокупность культурных фактов, которые, возможно, могут быть соотнесены с этим текстом или, в нашем случае, комплексом текстов. Не принимая во внимание эту совокупность фактов, мы вряд ли сможем достаточно убедительно прочесть смысл, понять «внутреннее значение» символа, которое «часто неизвестно самому художнику или может красноречиво отличаться от того, что он сознательно стремился выразить», но которое неизбежно возникает на «перекрёстке определённого текста ... и широкого поля культуры»2. Данное интертекстуальное поле, как представляется, может служить одной из возможных «разгадок» «парадоксальности» (Аверинцев) переводческого наследия Жуковского, делать доступной интерпретацию его переводов очевидно обнаруживающих элементы, структурированные до них в оригинале, но сохраняющих лидерство смысла благодаря целенаправленной трансформации и ассимиляции иных культурных (ценностных) текстов.
Мифопоэтика художественного пространства
Художественное пространство образует рамку, внутри которой обнаруживаются модусы символические и архетипические, равно как и задаёт условия для реализации и актуализации этих начал. В современном литературоведении вполне определённо можно проследить движение от понимания пространства как эстетической категории к его онтологической, а впоследствии - феноменологической трактовке, в итоге категория художественного пространства являет собой целостный эстетический феномен, потенциально сопрягающий реально-бытовое, эстетическое, онтологическое, структурно-семантическое и символическое начала. Источником формирования пространственной поэтики могут служить различные источники, однако в произведении романтизма будет генетически обнаруживаться связь пространственной поэтики с мифопоэтическими и архетипическими способами миромоделирования.
Исходя из уже обозначенной ориентации миромоделирования Жуковского, в том числе на мифологическую образность, призванную воссоздать ощущение единства мира, связи человека и универсума, можно утверждать, что образы поэтики пространства будут всегда так же мистически символичны, как и единицы сопряжённых поэтических уровней художественного текста. Локус всегда будет знаком, выполняющим определённую функцию.
Как представляется, одна из основных функций пространственного знака в рассматриваемом комплексе текстов - мифологизирующая, функция указания на некоторый целостный факт или факт целостности, естественно не имеющий конечного набора интерпретаций, и нейтрализация дихотомии в целом (последнюю часто принимают за бесспорный критерий мифологизма). То есть художественные координаты события - это точка сборки, а не разложение или объяснение пространственного мирообраза. Это основное свойство не исключает, а скорее располагает к совмещению и других функций пространственного знака в каждой из повестей 1830-х гг., но осуществление их будет всегда «с налётом мифологизма». В частности, знак с функцией номинативной указывает на существование континуума единичного, уникального; коммуникативная - нацелена на передачу не столько понятийно-содержательного, сколько символико-идеологического компонента сообщения. Именно на этом уровне возможна наиболее адекватная по глубине и объективности интерпретация.
Ю.М. Лотман выделяет целый ряд критериев и признаков, характерных для художественного пространства, представленного глазами мифологического сознания, универсальных мифопоэтических схем с максимальной потенцией1. Прежде всего, пространственный объект здесь рассматривается как интегральное целое, при этом он «однократен», то есть не может быть включен в некоторое иерархически устроенное множество, художественное пространство не может быть расчленено на дифференциальные признаки, его законы и суть абсолютны. Расчленению на признаки соответствует разделение на части, часть целостна. То есть категория пространства носит «лоскутный» характер и перемещение из одного локуса в другой протекает скорее вне времени, но обозначаясь некоторыми устойчивыми архетипическими формулами. При этом пространство способно моделировать иные, непространственные, а именно ценностные отношения. Заполненность собственными именами придает его внутренним объектам характер считаемых, конечных, а ему самому — признак отграниченности, это пространство невелико и замкнуто, хотя в самом произведении речь идёт о проблемах общечеловеческих.
По мере движения от первой стихотворной повести 1830-х гг. к итоговой мифологизирующая функция художественного пространства как поэтической категории наращивается и достигает высшей точки в «Ундине». Важно проследить реализацию основополагающих мифологем и выявить их рефлексы, создающие индивидуальность каждой из повестей и составляющие тот «пробел», который, будучи заполнен русским читателем, обнаруживает парадоксальность переводческого наследия Жуковского в целом.
На первом этапе исследования мифопоэтики пространства предметом исследования должен являться топос, пространственный знак рассматривается как относительно самостоятельный поэтический уровень, обозначается его семантический потенциал в сопряжении с фабульным действием, с причинно-следственной и временной обусловленностью изложенных событий. После этого можно говорить о пространстве как о сюжетно значимой категории, то есть с точки зрения смыслового отношения между изложенными событиями в отвлечении от конкретности фабульного действия.
Пространственная организация повестей дублирует фабульную архемодель каждой из них. Условно её можно обозначить как модель ухода героя из «своего» в «чужое» пространство и последующее возвращение. Но если традиционно она воспринимается как драма инициации, то есТь смерти и возрождения в новом качестве, то у Жуковского её функциональная нагрузка иная. Притчевость и глубинная идиллическая модальность как основные жанровые потенции актуализируют мифологическую семантику изначальной целостности как героя, так и художественного пространства. Пространственная структура, составленная многими знаками онтологического свойства, - целостна, полна, феноменологически «округла». Это связано не только с перемещением в пространстве героев - с переживанием пространства (герой уходит в «чужое» пространство, но всегда возвращается в «своё», очерчивая круг бытия), тексты произведений наполнены «округлостями» на уровне слова и образа. «Образы наполненной округлости помогают нам собраться внутренне, в самих себе обрести первооснову, утвердить своё бытие изнутри, из самих глубин. Ибо переживаемое изнутри, не овнешнённое бытие может быть только круглым» . В «Перчатке» семантика круга зеркально (перевёрнуто) отражается в движении зверей (см. ниже). А «Ундина» увенчана образом «прозрачного ключа», который, подобно жизни, «серебристо виясь», «вперёд пробирался, покуда//Всей не обвил могилы» и «бросился в светлое озеро ближней долины». Поэтический образ округлости жизни относится к области непосредственной онтологии. Он оказывается в данном случае способным выполнять обе функции художественного Слова: «направляющую вживание» и «дающую ему завершение»3. В мифопоэтическом мышлении круг символизирует не только вечное возвращение, но и возвращение вечного как принцип религиозного откровения, провидения. В макрокосме мировая сфера объединяет начало и конец, положительное и отрицательное, бытие и небытие, в микрокосме индивидуальном символика круга «концентрирует все диссоциирующие, противодействующие силы, вызывая метаморфозу».