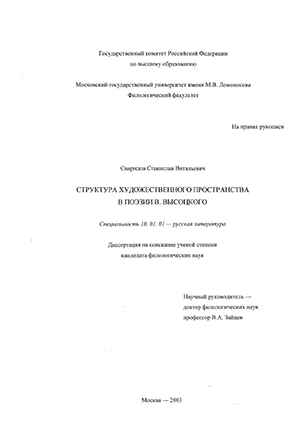Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Теоретические аспекты проблемы художественного пространства 14
1. К понятию художественный мир в современном литературоведении 14
2. Семиотическая сущность художественного мира 25
3. Современная теория художественного пространства 33
Глава 2 Пространственные отношения в системе художественного мира Высоцкого 51
1. Состав основной пространственной модели 51
2. Прагматика сюжетных событий 59
3. Распределение свойств в пространственной модели 73
4. Семантика пространственной модели 88
Глава 3 Эволюция пространственности в творчестве В. Высоцкого 105
1. Двоичное и троичное структурообразующие начала 106
2. Ранняя поэзия: господство двоичной модели 111
3. Конкуренция двоичной и троичной моделей 116
4. Поздняя поэзия: господство троичной модели 122
Глава 4 Пространственная модель «охота» в системе художественного мира Высоцкого 129
2. Производящие мотивы 132
3. Участие производящих мотивов в генезисе модели 137
4. Производные мотивы 149
5. Семантика модели 152
Заключение 164
Библиография 173
- Семиотическая сущность художественного мира
- Распределение свойств в пространственной модели
- Конкуренция двоичной и троичной моделей
- Участие производящих мотивов в генезисе модели
Введение к работе
Актуальность исследования определяется тремя факторами: 1) Стабильный рост научного интереса к периферийным жанрам и формам словесности, в том числе к авторской песне; стремление современной науки осмыслить авторскую песню Высоцкого как неотъемлемую часть литературы и культуры 60-70-х гг. ХХ века. 2) Значительная роль пространственности в культурных представлениях и моделях, в литературе и, в частности, особая значимость пространственных отношений в поэтическом мире Высоцкого (спациализованность). 3) Недостаточная изученность поэтики пространства (спациопоэтики) Высоцкого.
Объектом исследования выбраны песни и стихотворения Высоцкого за весь период творчества (1960–1980 гг.). Предмет исследования — художественное пространство поэтического мира и система образов пространства Высоцкого.
Диссертационное исследование имеет цель изучить художественное пространство поэзии Высоцкого как систему и как важнейший компонент художественного мира поэта. Общая цель достигается через решение следующих задач:
1) Выявить общие закономерности построения художественного пространства у Высоцкого путем аналитического рассмотрения его поэтического мира
— а) на уровне текста;
— б) на уровне метатекста — общих моделей строения пространства.
2) На основе функционального понимания художественного мира выявить семантическую, смыслообразующую роль пространственных моделей Высоцкого.
3) Изучить эволюцию пространственности в поэзии Высоцкого.
4) На основе анализа наиболее репрезентативных поэтических мотивов исследовать поэтику образов пространства у Высоцкого.
Методологическую основу работы составили работы по теории литературы М.М. Бахтина, М.Л. Гаспарова, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, Н.А. Фатеевой, В.Е. Хализева, в том числе труды по теории пространства в литературе и культуре М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, П.А. Флоренского; исследования в области теории мифа и мифопоэтики М. Элиаде, Е.М. Мелетинского, В.Н. Топорова; труды по теории и семиотике культуры Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, М. Эпштейна, В. Михайлина; к исследованию также привлекаются работы о русском постмодернизме Н. Лейдермана, М. Липовецкого, М. Эпштейна.
В работе применен структурно-семиотический метод исследования, актуально понимаемый как комплексный, формально-содержательный анализ литературного объекта; при необходимости он дополняется другими зарекомендовавшими себя научными методиками — мифологической, интертекстуальной, сравнительно-исторической.
Исследование проведено на следующем материале:
1) наиболее текстологически достоверное издание поэзии В. Высоцкого в 2 т. под ред. А.Е. Крылова, при необходимости к работе привлекается изд. в 7 т. под ред. С. Жильцова.
2) авторские фонограммы Высоцкого из собрания ГКЦМ В.С. Высоцкого и из коллекции автора.
3) в ряде случаев использованы ксерокопии рукописей Высоцкого из собрания ГКЦМ В.С. Высоцкого.
Новизна проведенного исследования видится в следующем:
1) художественный мир Высоцкого рассмотрен как система на двух уровнях: не только на уровне текста, но и метатекста — в области моделей и образцов, имманентных творческому сознанию и определяющих сходство черт различных произведений данного автора. В связи с этим —
2) мотивы поэтического мира Высоцкого рассмотрены не изолированно от системы, а как закономерный результат процессов и феноменов на уровне метатекста.
3) Пространство художественного мира Высоцкого описано на основе общей теории пространственности в культуре.
4) Авторская песня и поэзия Высоцкого описаны с учетом сложного взаимодействия лирического и эпического начал в его творчестве, в том числе выделена и рассмотрена категория сюжета (и метасюжета) как одна из важнейших в его художественном мире.
5) В соответствии с общими методологическими принципами филологии, в исследовании разделены синхронический и диахронический аспекты. Система пространственных отношений показана в развитии: от её формирования в конце 60-х гг. до последних поэтических произведений 1980 г. Отдельное внимание уделено генезису пространственных моделей Высоцкого под влиянием имманентных и внешних, интертекстуальных факторов.
Теоретическая значимость работы связана с тем, что в ней сформулировано определенное научное представление о функционировании художественного мира как системы, организованной на мета-уровне. Предложен метод индуктивного анализа, направленного на корпус текстов (преимущественно «малых» жанров), практический подход к изучению поэтических мотивов и других лейтмотивных явлений художественного мира. Данные принципы приложимы к разнообразному материалу и могут быть методической основой для новых исследований.
Результаты проведенного исследования могут найти применение в учебном процессе в средней и высшей школе.
Апробация работы. Диссертация явилась результатом исследовательской и педагогической деятельности. По материалам исследования опубликовано 8 статей, из них 7 в центральных изданиях; 2 статьи находятся в печати. Проблематика работы отражена в ряде научных докладов, сделанных на конференциях в Москве и Калининграде в 1994–2000 гг. Материал диссертации апробирован при проведении спецкурсов в Калининградском госуниверситете (1997–2002) по современной русской поэзии, авторской песне.
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырех глав и Заключения. Содержание работы изложено на 206 страницах. Библиография диссертации включает 126 наименований и содержит художественные тексты; литературу по общим и теоретическим вопросам; работы, посвященные творчеству Высоцкого; справочную и библиографическую литературу.
Семиотическая сущность художественного мира
До сих пор мы рассматривали художественный мир с собственно литературоведческой точки зрения (Г. Белая, В. Хализев, С. Бочаров) или с литературоведческо-лингвистической (М. Гаспаров); методика Жолковского-Щеглова основана на общей базе литературоведческого структурализма. Не менее плодотворным является семиотический подход к изучению художественного мира. Искусство как знаковая система обладает двойной функцией: оно хранит художественную информацию, и оно же передает ее читателю: «Особая природа искусства как системы, служащей для познания и информации одновременно, определяет двойную сущность художественного произведения — моделирующую и знаковую. … В аспекте: художественное произведение и действительность — мы рассматриваем искусство как средство познания жизни, в аспекте: художественное произведение и читатель — искусство как средство передачи информации» . Каждое произведение несет в себе сообщение, закодированное по законам искусства, и, следовательно, предполагает наличие кода, который либо известен читателю, либо должен быть им угадан. Но художественное произведение — система высокой сложности, и закодирована она многими кодами . Так, есть общие коды эпохи, литературного направления, жанра, жанровой разновидности (например, исторического романа) и т.п. Есть и авторский, индивидуальный код. Мы осмелимся предположить, что художественный мир писателя самым тесным образом связан именно с этим, авторским кодом.
С семиотической точки зрения, художественный мир — кодифицированное ядро того единого корпуса текстов, который называют «творчеством автора». Это область констант, законов, область того «общего языка», на котором говорят писатель и читатель. Если иметь в виду семиотические понятия язык, сообщение, код, то кавычки можно снять. Художественный мир является одним из языков литературы, которые, по словам теоретика, «надстраиваются над естественным языком как вторичная система» . Выделить и описать этот язык можно только на материале ряда текстов, искомый язык будет их «общим множителем»: «если мы возьмем большую группу функционально однородных текстов и рассмотрим их как варианты некоего одного инвариантного текста … то получим структурное описание языка данной группы текстов» . Иначе говоря, изучение художественного мира связано с представлением поэтического творчества как единого текста — операцией, которую, как говорилось выше, считали научно оправданной Эйхенбаум, Лотман, Жолковский и Щеглов.
Художественный мир — это системная основа диалога между автором и читателем, важнейшее условие контакта и понимания. По своей специфической роли код (язык) художественного мира можно определить как промежуточный: в семиотической системе текста он посредует между естественным языком и произведением, либо между более общими языками (литературного направления, эпохи, жанра) и произведением. На посредующий характер художественного мира указывает и В. Хализев, отмечая, что «Он находится как бы между собственно содержанием и словесной тканью (текстом)» . Среди иерархически организованного множества кодов, присутствующих в тексте, художественный мир основной. Возможно и даже вероятно, что читатель не заметит некоторые из языков, заложенных в тексте (проще говоря, произведение не может быть понято до конца); вероятно и то, что читатель воспользуется своими кодами, не предусмотренными автором (проще говоря, что-то поймет по-своему), но если в общении автора и читателя не будет основного, ядерного общего кода, то диалог не состоится (писатель останется совершенно не понятым).
Итак, художественный мир (с семиотической точки зрения) — это язык, который «моделирует универсум в его наиболее общих категориях» . Следует ли из этого, что он функционирует по языковым законам и что возможны некоторые ограниченные аналогии между ним и естественным языком? Да, но необходимо отметить некоторые специфические свойства художественного мира в этом качестве.
Из двух функций языка — моделирующей и знаковой — у художественного мира моделирующая более развита и более наглядна, чем коммуникативная. Поэтому он и кажется в первую очередь «предметностью», о которой говорит В. Хализев. А коммуникативная функция осуществляется имманентно. Читатель не осознает и не должен осознавать, что мир автора — это язык, который ему необходимо знать. Но тот же читатель вполне понимает авторский мир как «картину», как некий набор вещей и людей (Достоевский — это улицы Петербурга, Платонов — паровозы и степь, Высоцкий — кони и корабли и т.д. Ср. знаменитые стихи Мандельштама, построенные на «иконических» ассоциациях: Тютчев — стрекоза, Веневитинов — роза, Фет — «жирный карандаш» и т.д.). Даже из этих примеров видно, что в восприятии художественного мира огромную роль играет пространство, читательское восприятие спациально. Но в первую очередь, оно иконично, «картинно», что находит соответствие в семиотической теории литературы: «Словесное искусство начинается с попыток преодолеть коренное свойство слова как языкового знака — необусловленность связи планов выражения и содержания — и построить словесную художественную модель, как в изобразительных искусствах, по иконическому принципу» . Сами данные первичного языка (и научного метаязыка) подтверждают это. Образ в одном значении — термин литературоведения, в другом — то же что икона. Ср. в английском: image — это лит. образ, и в то же время изваяние святого, идол. Художественный мир как семиотическая система проявляет сходство с мифом. Как говорилось выше, из ряда текстов одного автора (направления, времени и т.д.) можно выделить общие компоненты, которые составят художественный язык. Но одновременно они составят «структурное описание языка данной группы текстов» , то есть возьмут на себя роль их метаязыка. Действительно, «текст высшего уровня будет выступать по отношению к текстам низшего уровня как язык описания. А язык описания художественных текстов, в свою очередь, в определенном отношении изоморфен этим текстам» . Но подобная изоморфность характерна именно для мифа. Согласно Лотману и Успенскому, семиотическая специфика мифа состоит в его одноязычности: миф описывает мир «через такой же мир , построенный таким же образом» , в то время как логическое, «дескриптивное» описание возможно только с применением другого языка, здесь язык не может описывать сам себя. Конечно, в литературе текст произведения и текст высшего уровня, язык произведения и язык высшего уровня не тождественны, но именно изоморфны, и это не отождествляет литературу с мифом, но приближает ее к мифологическому образцу. Из сказанного следует вывод, принципиально важный для предполагаемого исследования: система мифологического типа подразумевает наличие развитого мета-уровня.
Распределение свойств в пространственной модели
Механизм совершения сюжетных событий основан на несовпадении свойств внутреннего и внешнего пространства. Эти свойства, по определению, не могут быть одинаковыми. Внутреннее и внешнее должны быть противопоставлены по ряду оппозиций, иначе не будет оснований считать эти пространства разными, а не одним; граница превратится в «фикцию»; не станет смысла и у сюжета, творимого только в нарушении этих границ, в «борьбе с конструкцией мира». Пространственная модель оказалась бы симметричной и, следовательно, неспособной порождать эстетическую информацию, которая генерируется только в асимметричных системах .
Примером функционального анализа пространственных отношений может служить работа Ю. Лотмана о Гоголе. Напомним методику этой статьи в самых общих чертах: а) Ученый выделил в художественном пространстве Гоголя две основных области — бытовое и волшебное пространства. Они оказыаваются противопоставлены как ограниченное / безграничное, статичное / изменчивое, не допускающее действия / требующее действия, меняющее размеры / не меняющее размеров. б) Однако эти постранства характеризуются не только различиями, но и совпадением в некоторых качествах. Так, и бытовое, и волшебное простарнства способны прождать хаос. в) Наконец, Лотман задается вопросом, как соотносится каждое из пространств с человеком, и заключает, что оба они «бесчеловечны» — непригодны для существования, а гуманно лишь линеарное пространство собственного пути героя .
Не следует думать, что распределение свойств в пространственной модели Высоцкого окажется таким же, как у Гоголя. Но вопросы, поставленные Лотманом, являются универсально значимыми — вопросы о противопоставленности прострнственных зон по их свойствам и о соотношении каждой их них с человеком, его жизнью, его масштабами, потребностями, стремлениями и т.д.
Внутренний, «свой» мир относителен и конечен, это человеческая жизнь в человеческих, земных измерениях и степенях — бытие. Внешний, удаленный и недоступный мир — это абсолютная жизнь, в абсолютных степенях и свойствах — сверхбытие. Внутреннее не обладает и не может обладать ничем абсолютным, и значит, в нем нет и онтологически не может быть надежных критериев и ориентиров. Их можно найти только во внешнем пространстве. Так как истина абсолютна, она тоже может быть найдена только за пределами наличной реальности. Это не значит, что истина объектно содержится во внешнем (как предмет, текст и т.п.), но там она может быть постигнута, здесь — нет.
Обретаемое истинное знание может опредмечиваться в форме трофея — вещи, которую приносит герой, возвращаясь из внешнего пространства; как правило, приносит не для себя, а как дар ближнему. Например, яблоки («Райские яблоки»), звезды и ракушки («Реальней сновидения…») Однако этот сюжетный элемент не был регулярным и появился лишь в поздних песнях, по мере эволюции метасюжета. В целом внешний мир не дает герою какой-либо избыток, не одариват человека, и даже не помогает ему обрести предметную истину. Он меняет качество знания о себе и мире — помогает надежно постичь, «что лживо и что свято» (2, 143), понять, «кто ты — трус / Иль избранник судьбы» (1, 407), позволяет «положить конец напряженности, вызванной относительностью и чувством неуверенности, происходящей от отсутствия ориентиров, одним словом, для того, чтобы найти абсолютную точку опоры» .
Без этой нравственной, моральной, смыслвой точки опоры человек обречен на сомнения и тревогу, на ошибки и слабость. Он будет жить в вечной и сплошной относительности. Сверхбытийный мир заверяет знание, отбрасывает сомнения. В этом смысле можно согласиться с Л. Томенчук, утверждающей, что путешествие во внешнее не меняет человека, а лишь раскрывает то, что в нем изначально было . Но следует уточнить: дает этому изначальному составу другое качество. Однако иследовательница в корне не права, говоря, что «герои Высоцкого рвутся к вершине не из порыва к идеалу, ими правит азарт движения / действия … . Не может горовосхождение Высоцкого быть увидено как метафора самосовершенствования». Можно ли равнять жизнь героев Высоцкого с бесцельной непоседливостью Агасфера? К сожалению, по тексту Л. Томенчук неясно, кому она приписывает оспариваемую точу зрения, но толкует она ее нарочито плоско, примитивно. Конечно, не к нирване стремится герой Высоцкого — но он стремится именно к идеалу, если понимать его как абсолют, — не для наслаждения, а для обретения цельности, знания и сил.
Внутренний, бытийный мир Высоцкий определяет как бинарный, ему присуща разделенность, конфликтность, контраст противоположностей. Сверхбытийный, внешний мир не знает контрастов, он однородный, сплошной, непротиворечивый.
При этом Высоцкий расценивает бинарность как благо, а непротиворечивость и гомогенность маркирует всегда отрицательно. Ср.: «В мире тишь и безветрие, / Красота и симметрия. / На душе моей тягостно, / И живу я безрадостно» («Вот — главный вход…»). Дело в том, что мир Высоцкого гуманистичен, в его центре находится человек, и человек часто выступает ценностной точкой отсчета. Гомогенность — признак мира, не знающего добра и зла — то есть мира до грехопадения, мира без человека. Не случайно в ряде текстов внешнее обозначено как рай («Песня летчика», «Баллада об уходе в рай», «Райские яблоки»). Отсюда стойкое пристрастие Высоцкого к двоичности (точнее, антитетичности) отмеченное Скобелевым и Шауловым .
Жизнь человеческая совершается в контрастах и затухает в однородности: «Легко скакать, врага видать, / И друга тоже — благодать!» (1, 468) — благодать земной жизни возможна только в проявленности, ясности всех антитез. Рядом со смертью, в бою, жизнь приобретает свое высшее качество. Тот же пароксизм жизни ощутим в песне «Мы вращаем Землю» — и она тоже построена на антитезах, прежде всего на пространственной оппозиции восток / запад и бытийной жизнь / смерть. Как обратный пример, вспомним отрицательно маркированные образы круговорота и недоверие к «диалектической спирали».
Мотив безрадостной однородности есть почти во всех песнях, относящихся к метасюжету самоопределения. В «Песне Билла Сиггера»: «Решил: нырну / Я в гладь и в тишь, — / Но в тишину / Без денег — шиш!» и далее: «Он повидал печальный край». В «Балладе об уходе в рай» про инобытие в совершенном мире: «Разбудит вас какой-то тип / И впустит в мир, где в прошлом — войны, вонь и рак, / Где побежден гонконгский грипп, — / На всём готовеньком ты счастлив ли, дурак?!» Мир снятых противоречий рисуется как мир, пришедший к концу («Песня конченого человека»): всё внутреннее и внешнее пространство героя этой песни составляют порушенные, снятые оппозиции — не преодоленные, примиренные или опосредованные, а именно снятые, потерявшие различие: «Сердце с трезвой головой не на ножах», «не волнует, кто кого, — он или я», «и ни вязать и ни развязывать узлы», «свободный ли, тугой ли пояс — мне-то что!» и т.п.
Отмена бинарности означает потерю творческой двуначальности жизни, бесплодность (неизбежное качество вечности). Поэтому так часто гомогенное у Высоцкого стерильно, бесполо, неспособно к любви и рождению. Ср. в «Балладе об уходе в рай»: отправляясь в идеальное будущее, «Как херувим, стерилен ты...», зато в человеческом мире — жизнь ярко антитетична: «Не всем дано поспать в раю, / Но кое-что мы здесь успеем натворить: / Подраться, спеть, — вот я — пою, / Другие — любят, третьи — думают любить». В/ Подвижное — неподвижное. Человеческий внутренний мир пребывает в движении, сверхбытие — в покое. При этом положительно маркируется подвижное.
Конкуренция двоичной и троичной моделей
Примерно с 1966 года в творчестве Высоцкого начинается развитие тем, которые могут решаться, да и ставиться только в условиях троичной пространственной модели. Высоцкий подходит к открытию сверхбытия. Этому предшествует разработка трех характерных тем: а) темы раздвоенного «я» — видимо, начиная со стихов «Приехал в Монако…»
б) темы отсутствие смысла (безумие) есть отсутствие жизни (гибель) — с 1965–1966 гг. («Песня о психах», «В далеком созвездии Тау Кита» и др.). в) мотива возвращения (неизбежного, необходимого, свыше определенного) — в песнях для «Вертикали», потом в песне «Корабли постоят…». 1968 г. станет началом зрелого творчества Высоцкого, в этот год появится диптих о летчике и самолете, где заявлена проблема (гибельность внутреннего раздвоения, бесполезность борьбы с alter ego), и дано ее решение — всецело в соответствии с троичной моделью (познание истины в высшем бытии и возвращение с этим знанием в мир людей). К 1971 году сюжет ОПРЕДЕЛЕНИЕ становится уже настолько характерным для образного мышления Высоцкого, что А. Вознесенский пишет о певце «Реквием оптимистический» красками его же палитры: «Вы все — туда. / А я — оттудова!..», «Высоцкий воскресе. / Воистину воскресе!» и т.п.
Но, заявив о себе в конце 60-х, троичная модель еще долго не сможет полностью вытеснить бинарную, вступая с ней в диалог и образуя контаминации.
Оценочный статус образов, связанных с диким полем, становится противоречивым. Примером послужит тема моря. В 1968 году пиратский корабль однозначно героизирован в песне «Еще не вечер»; в «Пиратской» (1969) уже заметно колебание между рефренами-лозунгами «удача — миф» и «удача — здесь», хоть автор, как будто, и останавливается на последнем. Оценка дикого поля здесь заново проблематизирована, автор колеблется между романтизацией и другим принципом: «Бросайте ж за борт всё, что пахнет кровью, — / Поверьте, что цена невысока!» Наконец, в песне «Был развеселый розовый восход…» (1973) доходит до развенчания пиратской романтики. На примере «морской» темы, характерной для 1969–73 гг., мы видим, как ценности дикого поля развенчиваются и утверждаются одновременно. В 1971 написаны две песни «от лица» корабля: «Я теперь в дураках…» и «Баллада о брошенном корабле», — в обеих поддерживается оппозиция ближней и дальней внутренних зон, в данном варианте — суши и моря. Суша — обиталище людей, этих неверных, слабых и коварных друзей, предающих море ради уюта на суше. Море — область жизни кораблей, не-людей, лучших и прекрасных существ. Брошенный парусник кричит своим: «Всё же мы — корабли» — это значит, не подобает нам вести себя, как те (ср.: «Вести по-бабски нам не пристало» [1, 92]; «Волки мы — хороша наша волчая жизнь…» и т.д. [«Конец “Охоты на волков”»]). В песне «Я теперь в дураках…» корабль типологически близок к зооморфным образам Высоцкого: «Капитаны мне скажут: “Давай не скули!” / Ну а я не скулю — волком вою». Столь же очевидна здесь и пространственная антитеза: «свое» дальнее — желанное море, прилегающая к чудесному внешнему (Лиссабон, «Гамбурги, Гавры»), «чужое» ближнее — губительная суша, их граница — порт. Налицо и оценочная антитеза: суша — «расставила капканы», там «бесятся с жира», более того, она — «вечный санаторий», а мы помним, что значит больница у Высоцкого; но — «Я надеюсь, что море сильней площадей / И прочнее домов из бетона» — предпочтения героя и автора ясны, они на стороне дикого поля. Тем же смыслом наполнена антитеза «материк — острова» в песне «Свой остров». Однако именно морская тема позднее приведет Высоцкого к совершенно новым решениям.
Образ пса в период конкуренции моделей также неоднозначен: в одних случаях он оценивается положительно и соотносится с первым лицом, он — вольное животное, представитель дикого поля и образный синоним волка («Дом хрустальный», «Когда я отпою и отыграю…»), он несовместим с домом и храмом, оседлостью. В иных случаях, наоборот, пес — негативен, он даже не представитель враждебной стаи (как в «блатных» песнях), а просто атрибут быта или карикатура своего хозяина: «А у меня цепные псы взбесились— / Средь ночи с лая перешли на вой»; «Никто не лается в сердцах, / Собачка мается в сенцах»; «Сосед другую литру съел — / И осовел, и опсовел» («Смотрины», горько-ироничная песня о бедном селянине, приглашенном на праздник к богатому). Здесь человек всё время оборачивается животным, в его чертах проглядывает зверье, но не вольное, а подсобное, покорное и тупое, в том числе пес в его «низком» осмыслении. «Смотрины» — это паноптикум убогого мира, где и люди «с глазами кроликов» — лишь часть домашней фауны, наряду с гусями, собачками и «постенами» (ср.: «Ну а хозяйка — хвост трубой — / Идет к подвалам», «А я стонал в углу болотной выпью, / Набычась, а потом и подбочась»).
В то же время на 1968–73 гг. приходится наибольшее число песен, в которых субъект речи лишен антропоморфизма. Что особенно заметно на фоне позднейших текстов, где герой не только антропоморфный, но и весьма близкий к лирическому. Это свидетельствует о некотором художественном недоверии к человеку завершенному, законченному, в котором уже не проглядывает вечное естество. Высоцкому ближе человек-волк, человек-корабль, который вместе с людским обликом отринул людскую суету, а вместе с иным обликом сохранил свободу и достоинство зверя. 1) Они неверны, вероломны («Я полмира почти через злые бои…»); 2) Дом изображается как место деградации человека («Жертва телевидения»). Запавшие в память пьяницы «стены с обоями» (1, 140) — вовсе не комическая деталь и не словцо ради каламбурной рифмы, это то же, что «на окошке герань» и «занавески в разводах» (1, 188–189) — знаки мертвящего быта. 3) Богато развивается мотив вахтовой работы. Высоцкий всё чаще изображает мужчину в походе, в рейде, который можно расценить по-разному в двух разных кодах (двоичном и троичном): это и охотничья (искательская, первопроходческая, испытательная) вылазка, и поход в поисках абсолюта (ср. «Тюменскую нефть»: нефтяники то ли ищут свободу во внутреннем дальнем, то ли «бога нефти» во внешнем). Высоцкий настойчиво подчеркивает, что помимо практической цели, у рейда есть и цель, стоящая выше бытовых необходимостей: «Говорят, что плывем мы за длинным рублем, — / Кстати, длинных рублей просто так не добыть, — / Но мы в море — за морем плывем, / И еще — за единственным днем, / О котором потом не забыть» («В день, когда мы…»); «Пусть говорят — мы за рулем / За длинным гонимся рублем, — / Да, это тоже! Но суть не в нем» (2, 74); сибирский старатель признается, «что поехал сюда за рублем», однако настоящей его добычей становится умение отделять зерна от плевел: «если тонешь, дружище, / Значит, есть и в тебе золотник!» (1, 209). При этом как-то особенно важно отречение первопроходцев от дома. «Построить детский сад на берегу» — мелочная мысль по сравнению с жаждой повидать «бога нефти» («Тюменская нефть»).
Эти же песни рисуют мужское сообщество, подчеркивая его красоту и достоинство сплоченной дружины, команды, бригады: «А напарник приходится братом» (2, 73), «Мы подруг забываем своих: / Им — до нас, нам подчас не до них» («В день, когда мы…»).
Образ женщины долго не вписывается в поэтический мир Высоцкого, так как поэт принимает ценности «дикого поля», где законом остается «шоферская лихая свобода» (моряцкая, старательская и т.д.). А эта модель вообще не подразумевает такого жанра, как любовная лирика. В самом деле, до 1968–70 гг. мы найдем у Высоцкого только ироническую рефлексию по поводу лирических переживаний и лирических форм поэзии, а также дома и храма, «семьи и частной собственности» («О нашей встрече», «У нее / всё свое…», «Скалолазка», «Песня про плотника Иосифа…» и, конечно, характернейший «любовно-исторический» цикл 1969 г.). Но и в названные годы, когда лирический лад был биографически задан, лирика давалась трудно, и значительная часть любовной лирики этого периода неудачна или же уступает по художественной силе другим синхронным произведениям. Высоцкий не знает, как использовать на этом поле свой мощный поэтический язык, метафоры выходят нарочитыми, тексты — бедными. Здесь важно заметить две закономерности:
Участие производящих мотивов в генезисе модели
В зрелые годы Высоцкий выводит анатомическую образность за рамки сравнений, так как в этих рамках образ (вспомогательный член сравнения) теряет статус реального, а значит, теряет часть своей смысловой интенсивности и экспрессии. Певец предпочитает метафору даже там, где по смыслу уместно сравнение: «…мне напоследок мышцы рвет по швам» (1, 295), «Колют иглы меня, до костей достают» (1, 374). Если в ранней песне взгляд сравнивается с ударом ножа (1, 27), то в «Конце “Охоты на волков”» сам рассвет является холодным оружием, которое лишь вторично уподоблено бритве: «Словно бритва рассвет полоснул по глазам».
Анатомическая детальность — упоминаются относительно мелкие элементы тела, отдельные органы — вместо больших участков тела (напр., не шея, а кадык [1, 431]) либо наряду с ними: «И открыта шея для петли. / / И любая подлая ехидна сосчитает позвонки на ней» (1, 358). Ср. также трилогию «История болезни» и текст «Когда я об стену разбил лицо и члены…». Особенно характерна детальность при описании ранений, травм, в мотивах разрыва, пронзения и т.п., как с прямым, так и с метафорическим смыслом: «От уха в мозг, наискосок к затылку» (1, 460), «А где-то солдатиков в сердце осколком толкало» (1, 471), «Пол-лица впечаталось в асфальте» (2, 84), «Сколько серых мозгов и комарьих раздавленных плевр» (2, 63). Одним словом, «Смерть — это самый бесстрастный анатом» (2, 80).
С такой же детальностью рисуется живой, «целый» человек — назовем эту поэтическую черту анатомическим видением: «Мне спирт в аорту проникал» (1, 394), «Может, мой никчемный орган — плевра, / Может — многие» (2, 29), «Стучали в ребра легкие, звеня» (2, 110). Сходным образом поэт показывает эмоции, ощущения: «…сердце и предсердие / Отпустит»; (2, 253), «И звук обратно в печень мне / Вогнали вновь на вдохе» («Затяжной прыжок»), «Колют иглы меня, до костей достают» (1, 375), «И дымящейся кровью из горла / Чувства вечные хлынут на нас» (1, 399), «И когда ты без кожи останешься вдруг…» (1, 407), «Его снутри не провернешь / Ни острым, ни тяжелым» (1, 461).
Экстраполяция образов тела — метафорическое приложение их к внешним предметам: «Я машине ласкаю крутые бока» (1, 380), «Бермудский многогранник — / Незакрытый пуп Земли» (1, 453), «Лучше голову песне своей откручу» (1, 455). С особой настойчивостью Высоцкий проводил две метафорических экстраполяции мотивов тела — раны:
— Земля как тело — «Песня о земле», «Марш шахтеров», «Тюменская нефть», «Революция в Тюмени»: «Как разрезы, траншеи легли, / И воронки — как раны зияют», «Не записывай Землю в калеки»; «Но нас, благословенная Земля, / Прости за то, что роемся во чреве» (упоминание воронок двумя стихами выше — придает этому катрену черты автоцитаты из «Песни о Земле»); «Вот череп вскрыл отбойный молоток, / Задев кору большого полушарья» (1, 509); «земля ханты-мансийская / Сквозила нефтью из открытых пор»; «мы взяли риск — и вскрыли вены ей [земле — С.С.]» («Тюменская нефть»); «Земле мы кровь пускаем…»; «Болит кора Земли, и пульс возрос» (2, 51–52). Следует упомянуть и песню «Мы вращаем Землю».
— Корабль как тело — даже помимо «Баллады о брошенном корабле» и обеих вариаций на тему «Военно-морской любви» Маяковского («Жили-были на море…» и «Всему на свете выходят сроки…»), ряд примеров довольно длинный: «Ломая кости веслам каравелл» (1, 363); «Упругие тугие мышцы ветра / Натягивают кожу парусов», «И словно заострились струи ветра / И вспарывают кожу парусов». Последние два примера, взятые из песни «Шторм» (1976), интересно сравнить с песнями «Еще не вечер» (1968) и «Парус» (1969): в первой — поврежденный корабль и тело еще не связаны единой метафорой, но находятся в таком тесном соседстве, что есть все предпосылки к их дальнейшему слиянию: «Мы научились штопать паруса / И затыкать пробоины телами» (1, 182). Во втором тексте выстроен параллелизм между вспоротым телом и порванным парусом — образовалась общая стилистическая фигура. И, наконец, в 1976 году образ получает анатомическое решение. В песне «Шторм» обратим также внимание на мотив охоты: «И стая Псов, голодных Гончих Псов, / Надсадно воя, гонит нас на Чашу». Он использован почти орнаментально — дабы обыграть название созвездий (использовать ход, найденный в «заказной» песне «О знаках зодиака»). Но примечательно, что вместе с не обязывающим упоминанием охоты пришли и сопутствующие ей мотивы: рана, анатомическое видение («Под череп проникай и в мысли лезь»), удушье («…болтается петля / На рее, по повешенным случая») и др.
Инклюзивная сема, связанная с ощущением тела как вместилища. —Страдание и гибель исходят от врага, проникшего во внутреннюю суверенную область личного существования — в пространство тела: «И крики “ура” застревали во рту, когда мы пули глотали» (1, 83); «И если не поймаешь в грудь свинец…» (1, 48); «Я падаю, грудью хватая свинец» (1, 215); «он застонал, / И в нем осколок остывал» (1, 282); «Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, / Принял пулю на вдохе» (1, 331); «Он пулю в животе понес» (1, 377); «Я в глотку, в вены яд себе вгоняю» (2, 139). Как видим, довольно часто инклюзивная сема сопутствует мотивам горла, дыхания. Мотивный комплекс, связанный с враждебным включением, особенно наглядно дан в стихотворении о «вояке» в Монако (2, 42), который вовсе не желал смерти, стреляя себе в рот, а целился во врага, засевшего внутри. Конечно, мотив включения связан не только с ОХОТОЙ, но и с темой «второго я», а значит, с метасюжетом ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Инклюзивная сема может содержаться и в образах, не связанных с войной, борьбой, гибелью. Тогда она еще теснее сопряжена с мотивом горла, дыхания (=души), глотания. Например: «Я письмо проглотил, как таблетку» (1, 210), «Мы же книги глотали, пьянея от строк» (1, 406), «Ветер пью, туман глотаю» (1, 299), «Воздух ем, жую, глотаю» (2, 40), «Глазами, ртом и кожей пить простор» (1, 435), «И большие снежинки и град / Он губами хватал на бегу» (2, 220).
Наконец, весьма частотный инклюзивный образ — показ мысли, памяти или жизни как чего-то содержащегося в голове и дающего о себе знать стуком, как птенец в яйце (возможно, этот мотив связан с метафорой Б. Окуджавы «боль, что скворчонком стучала в виске»): «Застучали мне мысли под темечком» (1, 187), «Голову вопросы мне сверлят» (1, 201), «сумбурные мысли, лениво стучавшие в темя, / Устремились в пробой…» (2, 63), «Кровь жидкая, болотная / Пульсирует в виске» (2, 234). Ср. также «Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе…» (2, 76).
Весь этот индивидуальный поэтический комплекс, все описанные мотивы и образы, связанные прямо или косвенно с метасюжетом ОХОТА, формируются в творчестве Высоцкого не раньше 1965–67 гг.:
Анатомическое видение появляется и плавно нарастает с 1967 г., с экспрессивного зачина песни «Парус»: «А у дельфина / Взрезано брюхо винтом…» Затем грубо-телесные образы встречаются всё регулярнее. Вот примеры за 1967 — 68 гг.: «Плевать, что на лед они зубы плюют» (1, 128), «из чрева лошади на Трою / Спустилась смерть…» (1, 138), «найдя себе вдовушку, / Выпив ей кровушку» (1, 158) , «Не взрезал вен и не порвал аорту» (1, 173), «Дурачину в область печени кольнуло» (1, 174), «Я в прошлом бою навылет прошит» (1, 179)… Еще ярче в 1969 – 70 гг.: «Я буду пищей для червей» (1, 220), «канаты рвали кожу с рук» (1, 226), «Снес подранку полчерепа выстрел» («Охота на кабанов»), «Он вонзает шпоры в ребра мне» (1, 249).