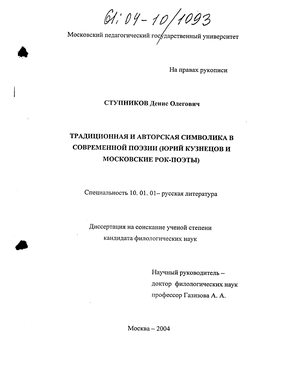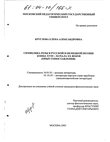Содержание к диссертации
Введение 3-38
Глава I. Символика чисел у Ю.П. Кузнецова и рок-поэтов 39-94
1.1. Традиционная числовая символика
1.2. Мотив неустойчивой триады в лирике Ю.П. Кузнецова
1.3. Число шесть в эстетической системе Ю. Кузнецова как вариант троичного принципа
1.4. Четверичная система как выражение стабильности в лирике Ю.П. Кузнецова
1.5. Семь как синоним равновесия в лирике Ю.П. Кузнецова
1.6. Символика чисел у рок-поэтов
Глава II. Образ-символ столицы у Кузнецова и рок-поэтов...95 - 145
2.1. Числовые приметы «московского текста»
2.2. Венедикт Ерофеев и «московский панк-текст»
2.3. «Московский текст» «Ва-Банка» и деконструкция бинарной схемы
Глава III. Авторская символика телефона и проблема отчуждения от архетипов коллективного бессознательного 146 - 197
3.1. Телефон как символ деинтимизации
3.2. Телефон как знак мистифицированного творчества
3.3. Телефон как масскультурный блокиратор экзистенциальной проблематики
3.4. Роль образа-символа телефона в десимволизированной системе вещей
Заключение 198 - 202
Библиография 203-212
Введение к работе
Долгое время отечественная рок-поэзия изучалась исключительно с социологических позиций. Подобной направленностью отличались как многочисленные публицистически заострённые статьи рок-критика Артемия Троицкого, так и идеологически ориентированные публицистические тексты основателя московского рок-кабаре «Кардиограмма» Алексея Дидурова.
Одна из самых глубоких книг о специфике русской рок-поэзии - «Сентиментальное бешенство рок-н-ролла» - принадлежит выдающемуся философу-традиционалисту Евгению Головину. Появилась она на начальном этапе глубокого изучения рок-культуры, в 1997 году. Но следует отметить, что и по возрасту, и по роду своих научных интересов (античность, алхимия, представители маньеризма, «проклятые» поэты) Головин оказывается необыкновенно далёк от интересов нынешнего рок-сообщества. Однако это придавало особую ценность его взгляду извне.
Головин априори считает рок-н-ролл музыкой кризиса и распада: «Рок-музыка, рок-культура - явление, в принципе, исключительное в европейском культурном ареале. Явление это объясняется скорее социальными, нежели художественными факторами, и связано с крушением патриархальных устоев общественной формации, Распадные тенденции, рожденные французской революцией, набравшие силу в девятнадцатом столетии, взорвались, наконец, в нашу эпоху» (66, с. 4). Однако философ отнюдь не склонен ставить нарочитую простоту и даже примитивность современного рока ему в вину, оправдывая нынешнюю музыкальную деградацию упадком слушательских вкусов. «Что может потревожить это монотонное умирание? Булавка в задницу, крик над ухом, удар по голове, короче говоря, шок. С одной стороны, только беспрерывная равномерная работа может обеспечить уже совершенно необходимый уровень комфорта, с другой - эта самая работа доводит до летаргии, до сомнамбулизма. Засыпающую душу не волнуют пасторальный пейзажи, мажорные трезвучия, ей нужна бешеная энергия негатива» (66, с. 15).
Обладая столь объективным взглядом на рок-культуру, Головин, тем не менее, принадлежит к числу её творцов. Однако в песнях Головина тот же безжалостно-отстранённый взгляд на рок-культуру. Симптоматичным примером тому является альбом группы «Ва-Банкъ» «Нижняя Тундра», в котором Головин выступил как автор песни «Агрессия созвучий»:
Эра мажорных трезвучий
Навсегда покинула нас
Лучше, гораздо лучше
Дьявольский диссонанс.
(26, с. 254) Философ не склонен подвергать рок-культуру критике. Он понимает её «как великое стремление вернуть музыке глобальный характер, как мировоззрение и образ жизни» (66, с. 88), мотивируя свою позицию тем, что русский рок - логоцентричен. «Русские, как правило, более пристально вслушиваются в значение слов, оценивая / политический, социальный, моральный смысл песни. Поэтому среди параметров рок-музыкальной композиции текст занимает важное, зачастую ведущее место. Иное дело в англо-саксонском культурном ареале, где текст, главным образом, служит просто вербальной опорой поющему голосу и практически не содействует созданию хита. Кто станет специально вслушиваться в такие слова: «О дорогая, прошу верь мне, я никогда тебя не обижу...» Однако это «О darling», - одна из лучших композиций « Битлз» (66, с. 91)
Исследования Головина, осуществлённые в 90-е годы не оказали существенного влияния на позицию исследователей, изучающих рок-культуру. Весьма показательно, что «официальное роковедение», по распространённому среди исследователей мнению, ведёт отсчёт с действительно эпохальной статьи И. Кормильцева и О. Суровой «Рок-поэзия в русской культуре: возникновение, бытование, эволюция» (1998). Авторы использовали в этой работе материалы спецкурса «Русскоязычная рок-поэзия как поэзия напевного строя», читавшегося на филфаке МГУ в 1996-1997-м годах. Поставив целью вписать неизученный в целом феномен в контекст русской литературы XX века, И. Кормильцев и О. Сурова практически не занимались изучением поэтики, стилистики и мифопоэтики русской рок-поэзии, ограничившись её социокультурным аспектом.
Данный подход на тот момент был вполне оправдан и убедителен, поскольку предмет их исследования характеризовался полной неразработанностью методологического аппарата. В то же время неизбежная поверхностность применяемого аппарата исследования привела И. Кормильцева и О. Сурову к некоторым сомнительным выводам. На наиболее принципиальный из таких выводов, а именно на поверхностно интерпретируемую проблему соотношения русской рок-поэзии и авторской песни, указывает В.В. Николаенко в статье «Письма о русской филологии. Письмо восьмое»: «Важная ошибка: по мнению авторов, рок 1970-х «ни по форме, ни по содержанию существенно не отличается от бардовских песен... Разница бардовской и рок-культуры коренится в исходной интуиции, из которой они исходят. В основе рок-поэзии лежит убеждение: мир чудовищен, бесчеловечен и жесток - изначально, по своей природе. Характерные (хотя и необязательные) для рок-музыки визжащие, скрежещущие и воющие тембры оправданы именно тем, что рок - это крик человека, вброшенного в чужой, бесчеловечный и обезбоженный мир. Этот мир принадлежит им (черни, так сказать: начальникам, мещанам, гопникам - короче, чужим), а герой рок-песен в нем посторонний. Он от этого мира может только спрятаться - уйти в наркотики или алкоголь, в музыку, в мистику... У бардов мир не плох, а испорчен: в нем можно жить, если взяться за руки; на худой конец - в него можно будет вернуться, когда мы победим и засвистят в феврале соловьи» (66, с. 162).
О принципиальном различии бардовской и рок-традиции говорит и иеромонах Григорий (Лурье): «В «самодеятельной» песне уходу от действительности были отведены вполне фиксированные время и место. Место - уехать куда-нибудь «за туманом», время — после работы и в отпуске. В этом проявлялась, если можно так выразиться, фундаментальная мировоззренческая несерьёзность советского человека, о которой тогда было много говорено и по другим поводам... И именно с этим наследством «рокеры» -впрочем, подражая уже готовому примеру «поэтов» - порвали с таким радикализмом, который даже не всегда сразу успевали осознавать» (83, с. 60-61). Решительно разграничивает бард- и рок-эстетику и Евгенийo Головин: «На молодых людей рождения пятидесятых шестидесятых, безусловно повлиял Владимир Высоцкий - явление в Совдепии совершенно уникальное в смысле энергетики, самоотдачи и полного наплевательства на какие-либо шаблоны. Остальные же # советские «барды» из-за своей крайней политизированности, туристической или «задушевной» лиричности, никак не могли соответствовать резкой экспансии рока» (66, с. 39).
Долгое время оставался открытьш вопрос о месте рок-поэзии в современной культуре. Вплотную подходит к решению этого вопроса Д.М. Давыдов в статье «О статусе и границах русской рок-культуры и о месте рок-поэзии в ней» (2001): «Мы имеем дело здесь с субкультурным процессом, в том числе и литературным. Субкультура - это образование, хотя бы отчасти структурированное и склонное к выстраиванию автономных культурных иерархий» (70, с. 133).
Исследователь сформулировал определения рок-текста и русского рока в целом, с которыми мы полностью солидаризируемся. По Д.М. Давыдову, «рок-текстом с полной уверенностью можно назвать тексі, исполненный и циклизованный в рамках той систематики, которая предлагается Ю.В. Доманским» (70, с. 134). А именно русский рок - это «слабо структурированная субкультура, вычленяемая по признаку идеологического конструирования её членами нового (эмбрионального) синтетического вида искусства» (70, с. 138).
В тоже время Давыдов оговаривается, что рок-культура при этом отнюдь не изолирована от литературного процесса и приводит в качестве доказательства примеры ассимиляции образцов современной рок-поэзии «официальной» литературой (публикации А. Дидурова, О. Арефьевой и других рок-поэтов в периодике и монографию Л.В. Зубовой «Современная поэзия в контексте истории языка, «где среди множества современных профессиональных поэтов - от Бродского и Сосноры до представителей поколения двадцатилетних - цитируются, без всяких маркеров их «роковости», Б.Г., Е. Летов и К. Рябинов»).
Закономерен вопрос об эстетической ценности рок-текстов. Долгое время исследователи рок-поэзии не уделяли данному аспекту должного внимания. Да и сами рок-музыканты подчас воспринимали собственные тексты как нечто вспомогательное к мелодии и аранжировке. Особенно этим «грешили» московские рок-музыканты, уделявшие наибольшее внимание музыкальной стороне своих композиций. Однако в последние годы ситуация кардинально изменилась. Роковеды А.Н. Черняков и Т.В. Цвигун разработали критерии качественной оценки рок-текстов. Более скрупулёзно стали относиться к собственным поэтическим творениям и другие рок-музыканты. Некоторые из них - например, Василий Шумов, А.Ф. Скляр, Егор Летов - выбирали себе в соавторы и наставники известных философов (Е.В. Головин, А.Г. Дугин), а лидер «Алисы» Константин Кинчев в свой «воцерковлённый» период творчества предпочитает появляться на пресс-конференциях с диаконом Андреем Кураєвим. Выбирая себе авторитетных наставников, рок-музыканты тем самым сознательно преодолевают своё маргинальное положение в современной культуре. Некоторые рокеры удостоились приёма в Союз Писателей России (московские рок-поэты Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» и Наталия Осташева из «Ловцов Дня»).
Отдельного внимания заслуживает вопрос привлечения рок-музыкантами стихотворений современных «профессиональных поэтов» в качестве текстов рок-композиций. Наиболее востребованной в среде московских рок-музыкантов оказывается поэзия Юрия Поликарповича Кузнецова (1941-2003). Отсюда-внушительное количество песен на его стихи. Самые известные: «У Щ # # рубежа» группы «28 гвардейцев-панфиловцев», «Атомная сказка» подмосковного коллектива «Нагваль» и «Отсутствие» известнейшего ансамбля «Мегаполис». При этом характерно, что зачастую дело не обходится без попыток втиснуть многообразие дара Ю.П. Кузнецова в прокрустово ложе собственной концепции и небрежное обращение с его символикой.
Так группа «Мегаполис» ошибочно приняла трагического поэта за легкомысленного «певца разлук». В дебютном альбоме «Мегаполиса» «Утро» (1987) представлено далеко не бесспорная интерпретация пронзительного «Отсутствия». Лидер группы Олег Нестеров бодро и даже ликующе (в духе патриотических ВИА 70-х гг.) исполняет фразу «ты придёшь, не застанешь меня и заплачешь». При этом вокалист позволяет себе развязные интонации в самых глубоких по смыслу строчках («чай, как звезда, догорая, чааадиит»).
Интересно, что 10 лет спустя «Мегаполис» существенно скорректировал свою позицию, выпустив вторую, задумчивую и минорную, версию «Отсутствия». В ней уже можно было заметить глубину кузнецовских поэтических текстов, а аранжировка в духе китайской пентатоники намекала на то, что понятие «отсутствия» синонимично понятию нирваны. Подробное сопоставление этих явлений будет осуществлено в 3-й главе диссертационного исследования.
Евгений Головин называет рок-поэзию «литературой беспокойного присутствия». Подобную эмоциональную ноту современники отмечают и в творчестве Юрия Кузнецова, называя его «поэтом, не отводящим взгляда», «поэтом мужества и трагизма» и т. д. Современные литературоведы и критики (К. Хадеев, С. Куняев, В. Бараков и др.) в целом причисляют Кузнецова к поэзии почвенного направления, представителями которого являлись Н. $ Рубцов, Н.Тряпкин, О. Фокина и другие. Отчасти это верно, поскольку именно «почвенники», ища идеал человека в национальных самобытных корнях, используют в своей лирике традиционные фольклорные приёмы и образы.
Е.А. Козицкая в работе «Субъязыки и субкультуры русского рока» справедливо замечает, что субъязык почвенничества («славянофильства» / неомифологизма) включается в контекст рок-эстетики и проявляется в творчестве таких групп, как «Алиса», «Гражданская оборона», «Калинов мост», «Аквариум», а также у ряда коллективов, находящихся в русле православия и протестантизма. Козицкая отмечает, что «неомифологизм -естественная составная часть художественного языка XX века вообще» (90, с. 188).
Проблема неомифологизма в современной рок-культуре. Обращение к мифологическим истокам в современной поэзии проявляется всюду, где возникает недовольство завоеваниями цивилизации и потребность в использовании глубинных мифологем и архетипов. В.А. Руднев считает, что неомифологическое сознание «было реакцией на позитивистское сознание XIX в., но зародилось оно уже в XIX в., в романах Достоевского и операх позднего Вагнера и суть его в том, что, во-первых, во всей культуре актуализируется интерес к изучению классического и архаического мифа и начинается активное использование мифологических структур в ткани художественных произведений» (115, с. 168).
Неомифологическому сознанию в последнее время было посвящено немало исследований. Особо хотелось бы выделить работы Л.Н. Воеводиной и В.Г. Туркиной. В работе В.Г. Туркиной «Мифологема Героя и массовое сознание» затрагивается проблема манипуляции массовым сознанием с помощью тех или иных мифологем. Автор признаёт этот процесс безусловно негативным, считает, что в современной ситуации миф способен полноценно бытовать лишь в условиях нестабильного общества. Аналогичны размышления Л.Н. Воеводиной: «Каковы же факторы, облегчающие функционирование мифов в современной культуре? В первую очередь это средства массовой коммуникации, приводящие к унификации и всемерному распространению одной и той же культурной продукции, одних и тех же моделей поведения и одних и тех же мифов. Ульф Ганнерс в этой связи замечает, что вся планета превращена в «большую деревню», «глобальную ойкумену», где идет активное межкультурное взаимодействие, чему способствует современные информационные технологии, развитие транспортных коммуникаций, расцвет туризма и путешествий. Традиционных культур остается все меньше, и практически все они испытывают натиск модернизации» (63, с. 45).
Между тем, противопоставление Мифа и Традиции представляется нам ошибочным. Дело в том, что наиболее значительным мифологом современности Воеводина и Туркина считают французского постструктуралиста Ролана Барта — действительно, вычленившего целый пласт мифов современной цивилизации, совершенно утратившей вертикальное измерение бытия. Однако Барту, выдвинувшему известный тезис «Миф - это высказывание», противостоит А.Ф. Лосев со своей лаконичной формулой «Миф - это чудо». Именно Лосев развенчал описанную Бартом лишённую трансцендентальных ориентиров
постмодернистскую цивилизацию, иронически охарактеризовав её как «недоступное мысли смутное пятно существования неизвестно чего» (цит. по: 66, е. 123). Характерно, что эту цитату использовал рок-поэт Василий Шумов (лидер московской группы «Центр»),
выбравший в качестве названия для песни и альбома 1997 года Вслед за Бартом недооценивают «вертикальную» устремлённость и многие современные исследователи. Например, Е.А. Козицкая считает, что рок-поэтам «глубокое знакомство с темой и не нужно, если работать, например, с христианской темой как с мифом массового сознания» (90, с. 187). Это мнение перекликается с тезисом Руднева о том, что современный «постмодернизм оживил неомифологическое сознание, но одновременно и «поставил его на место», лишив той сверхценной культовой роли, которую он играл в середине XX в» (115, с. 169).
Хотя отечественная рок-поэзия и «сформировалась как целостность в эпоху «раннего», «героического» постмодерна (70, с. 1 і 36), на настоящем этапе она всё настойчивее пытается «нащупать»
трансцендентальное измерение бытия. Даже рок-авторы, долгое время сознательно творившие в русле постмодернизма, ныне открыто заявляют о кардинальной смене собственных эстетических ориентиров. Так, лидер питерской группы «Текиладжаззз» Евгений Фёдоров в недавнем интервью журналу «Ваш досуг» (№ 16, 2003) заметил: «Сейчас, как мне кажется, настало время для метафизики и пафоса, поскольку постмодернистская эпоха иронии потихонечку уходит в прошлое. Настаёт пора вспомнить традицию, чуть придушить в себе модерн...» (с. 75)
Фёдорову вторят и те, кто придерживается более традиционных воззрений и воспринимает свои эпизодические Ц обращения к эстетике постмодерна как неизбежную дань моде. В альбом православного рок-певца Александра Непомнящего «Зелёные холмы» (2003) вошла песня «Матрица» рефрен которой говорит сам за себя: Прощай Мартин Хайдеггер -Пришла метафизика Сквозь тёмного неба дыру Ч (Цит. по фонограмме). Иначе говоря, по мнению А. Непомнящего, постмодернистская реальность, проявляющаяся в том числе и в языковых играх Мартина Хайдегера, постепенно исчерпывает себя, уступая место поиску трансцендентальных ценностей.
Кстати, и в эстетической системе Ю. Кузнецова - автора, на творчество которого, помимо славянских мотивов, оказали заметное влияние традиции «проклятых поэтов» и романтическая мятежность лирики Лермонтова - также остаётся мало места для лубочного почвенничества, отошедшего ныне от вертикальных измерений бытия. О неомифологизме Ю. Кузнецова писали критики. Так, В.
і Агеносов и К. Анкудинов, выделив у поэта «чёткое противопоставление реальности обыденной (материальной) и реальности мифологической» (28, с. 162), говорят о первозданном синкретизме его поэзии: «Для автора эти события (происходящие в стихотворениях. - Д.С.) - не метафорическая условность, а реальность, как и мифологические персонажи, населяющие его стихи (Там же). А исследователь М.Эпштейн стихи Кузнецова определяет как «опыты оригинальной мифологизации» (43, с. 225).
По Кузнецову, современный человек окончательно утратил гармонию с природой и космосом. Прежние ценности измельчали: языческая «мать сыра земля» давно превратилась в «сырец», • который продают «на все четыре стороны» «не дом - машина для жилья» - (12, с. 76), а древний магический огонь, ведущий человека к бесконечности, стал «горящим газом вечного огня», зависящим не от воли Божией, а от «случая и времени» («Ложные святыни» - 12 , с. 18). Связь со стихиями прервана - и когда-то обожествляемый ветер теперь способен лишь открыть человеку страшную истину, «что вечного нету - что чистого нету» («Завижу ли облако в небе высоком...» 12, с. 3).
Кузнецов же, следуя за А.Ф. Лосевым, конструирует свою поэтическую вселенную, исходя из трёх концептов: Имя, Символ, Миф. Для него каждое слово является именем, в котором сокрыта тайная сущность предмета: «Для меня всегда было важнее сказать не «дерево», а «ольха» или «берёза», не человек, а Мария, Пётр» (40, с.11). Не случайно самое известное стихотворение Кузнецова «Я пил из черепа отца», вызвавшее в 60-ых годах минувшего века на страницах «Литературной газеты» полугодовую полемику, заканчивается строками: "И повторял я имена, забытые землёй" (12 , 175.
Теория Имени в истории культуры. Одним из самых древних мифов по праву считается миф об творце всех имён. Упоминание о творце всех имён мы находим ещё в «Авесте» и «Ригведе», причём, в последней речь идёт не столько о какой-то трудно достижимой обыденным сознанием абстракции, сколько о вполне земных исполнителях семиотического божественного замысла - древних певцах-риши, которые дают имена вещам (RV, X, 71, 1; X, 82, 2 и др.). Схожий комплекс воззрений присутствует и древнегреческой культуре. В диалогах Платона «Хармид» и «Кратил» упоминается об ономатете, подбирающем имена для всего сущего. Заметим, что Платон дистанцируется от этого мифа, определяя его как побасёнки, «какие старики рассказывали детям» («Протагор», 320 Е).
В филологии последних десятилетий наиболее архаичные представления об именах были реконструированы достаточно
детально. По мнению Вяч. Вс. Иванова, такие представления были связаны с древним ритуалом инвокации - называния-творения вещей, не имеющих имени» (82, с. 606). Учитывая тот факт, что каждый языческий ритуал не просто механически повторяет, но и заново воспроизводит в мельчайших подробностях те или иные деяния богов, исследователи подчёркивают исключительную важность для первобытного человека окликнуть кого-нибудь по имени. А поскольку субъект и объект, причина и следствие, предмет и его название существовали тогда в нерасторжимом единстве, имя считалось частью сокровенной сущности его носителя. Параллельно развивалась и диаметрально противоположная тенденция к диссоциации личности, доминированию множественного, коллективного начала. Архаические представления об Имени в работах К.-Г. Юнга. Подобные процессы детально изучил в своих трудах швейцарский психолог, философ и психоаналитик Карл Густав Юнг. Краеугольным камнем его научного мировоззрения является учение о коллективном бессознательном - вечной, не зависящей от времени, пространства и индивидуальности, душе человечества и запечатленных в ней архетипах. По мнению Юнга, адаптируясь к внешней действительности, человек использует четыре психические функции: мышление, чувства, ощущение и интуицию. Как правило, одна из этих функций в структуре личности доминирует, а противоположная ей целиком погружена в бессознательное (скажем, человек мыслительного типа не осознаёт и не развивает свои \ чувства, они находятся в примитивном состоянии). Это проистекает от неспособности свести собственные психические процессы к единой основе, позволяющей развить личностное начало. \ 5 Скрытая в подсознании функция не уничтожается и проявляется в смутных импульсах, компенсирующих односторонность индивида. Если же чрезмерно полагаться на свою доминанту, то непризнанные функции оборачиваются против него, обретают относительную самостоятельность. Человек как бы раскалывается надвое: «эго» (отождествляемое с доминантной функцией) восстаёт против того квази-существа, возникшего, когда субъект спрятал в подсознании отрицательные стороны своей личности. В дальнейшем расколотая личность может ещё более раздробиться: автономные комплексы, не подвластные рациональной воле, начинают довлеть над индивидом. Иначе говоря, возникает несколько автономных «я», и уже «не мы обладаем комплексами, а они «обладают нами» (136, с. 43). Отсюда - представление о нескольких душах, обитающих в любом человеке, каждая из которых нарекалась, как правило, отдельным именем. Имена других, отвечавших за «социализацию» (укажем на известную долю условности данного термина) становились всеобщим достоянием, имена же, в которых заключалась жизненная сила носителя, тщательно скрываясь от посторонних. О.М. Фрейденберг, выдвинув тезис об абсолютном тождестве словесной и вещной реальности в первобытную эпоху, отмечает: «Называя по именам, первобытный человек возрождает сущность и уже л им самым он совершает акт, который однозначен вызову. Всякое слово тождественно действию, всякое вызывание есть воспроизведение действия» (127, с. 96). Таким образом, элементарная осведомлённость первобытного человека об имени чужого обретает драматическую напряжённость: в зависимости от отношения к окликаемому по имени, его можно либо уничтожить, либо, наоборот, воскресить из мёртвых. Отсюда проистекает разветвлённая магия имени, табу на имя. Скажем, славяне часто нарекали новорожденных детей нарочито неблагозвучными именами, дабы ввести в заблуждение злых духов, доказывая, что в семье растёт не обожаемое чадо, а некое безродное неприглядное существо. Неприглядное - именно потому, что имя мыслилось как нечто телесное. Реконструкция первобытных представлений об Имени. Разумеется, телесными считались и речь, и язык. Не случайно почти у всех народов язык как средство общения и как физиологический орган обозначаются одним и тем же словом: «Этот обрядовый синкретизм можно продемонстрировать на примере магических языков из железа, которые фигурируют в хеттских и лувийских ритуалах 2-го тыс. до н. э., где речь идёт именно о заклятиях от злых языков» (82, с. 614). Подобный этимологический анализ применим и по отношению к имени связанному с целым комплексом смежных метафор (естественно, как метафоры они были осознаны гораздо позднее - когда распался первобытный синкретизм). Обратившись к «Сравнительному словарю мифологической символики М. М. Маковского» (1998), можно попытаться смоделировать этот сложнейший комплекс. Начнём с того, что имя (англ. Name, лат. Omnia) синонимично слову «язык» (хепское erne). Данная параллель не только подчёркивает правомерность применения этимологического анализа по отношению к имени, но и устанавливает достаточно жёсткую связь между магией языка и магией имени. И действительно, в архаическом мировоззрении зачастую просто невозможно отделить одно от другого. К примеру, в древнеиндийской философии мистический первозвук ОМ (явно этимологически близкий понятию имени) был «одновременно и бог, и слово, и источник всех вещей, и носитель троичного принципа (т. к. писался тремя буквами)» (104, с. 46-47). Первобытное мышление сталкивало в понятии имени и заведомо антиномичные явления. С одной стороны, оно считалось духовным стержнем, аналогом Мировой Оси ( ombh — пуп, божественная сила), а с другой - ассоциировалось с пустотой, бездной (параллель русскому «яма»). Тот, кому посчастливилось примирить эти вопиющие противоположности, навсегда исполнялся высшей благодати (древнеиндийское ота - благочестие) и обретал сакральное знание (персидское name - книга). Стремительный рост индивидуального начала всё сильнее обнажал заложенные в понятии имени антитезы и вступал в резкое противоречие с рациональным синкретизмом. На определённом А этапе человек даже стал ощущать дисгармонию между собственными несколькими душами (олицетворявшими психические процессы и различные социальные роли). А имена, ещё не превратившиеся в абстракции, постепенно начали отслаиваться от сокровенной сущности и стали осознаваться как нечто чуждое и инородное.
Ономатология Древнего Египта. Этот парадоксальный процесс легко проследить на примере религиозных воззрений древних египтян. Вся жизнь египтянина состояла из подготовки к загробному бытию - поэтому древнеегипетская цивилизация справедливо определяется современными культурологами как цивилизация смерти. А поскольку бессмертная сущность
Ш заключалась в имени, то основным предметом забот было
сохранение имени для потомков. В конце концов, пирамиды, саркофаги, настенные росписи с вязью иероглифов были лишь текстами, прочно фиксирующими имена властителей.
Однако уже на исходе эпохи Древнего царства (3-е тыс. до н. э.), напряжённо рефлектируя, человек начал задумываться о тщетности ономастических манипуляций. Прежняя обрядовость уже не могла удовлетворить его духовных запросов, что приводило к конфликту с многочисленными внутренними «я». Он неизбежно приходил к критике своего имени:
Видишь, имя моё ненавистно
И зловонно, как птичий помёт
В летний полдень, когда пылает небо.
Видишь, имя моё ненавистно И зловонно, как рыбьи отбросы После ловли под небом раскалённым.
(«Из спора разочарованного со своей Душой. Первая жалоба» 54, с. 97).
Не одно тысячелетие потребовалось на то, чтобы человечество в полной мере осознало знаковую природу имени и установило чёткие соотношения с называемым именем предметом. На закате древнеегипетской цивилизации имя уже не считалось залогом бессмертия. Если раньше египтяне прилагали все усилия для того, чтобы сохранить начертание имени умершего на надгробном памятнике, то впоследствии гораздо большую ценность приобрело имя живых, потому что «живёт тот, кто имеет имя, а у умерших нет имени» (54, с. 602).
Таким образом на первый план выдвигалась именно коммуникативная функция имени, план выражения, а не план содержания. Разумеется, имя продолжало оставаться весьма эффективным орудием всевозможных магических манипуляций, но его роль в человеческом бытии была резко переомыслена.
Представление об имени в античной мифологии и философии. Та же линия продолжена и развита в философии культурных преемников египтян - древних греков. В уже упомянавшемся выше платоновском диалоге «Кратил» Сократ — один из участников беседы - задаётся целью выяснить, откуда берутся имена, и приходит к выводу, что существует некий мастер-ономатет, определивший имя для каждого предмета. Но Платон уже не верит в безграничную правоту установителя имён и окончательную возможность решать вопрос об истинности того или другого имени осі an ля ет лишь за философом-диалектиком. Перенос имён в сферу человеческого соизволения, как ни странно, наделяет их особой значимостью. Если в архаических верованиях отождествление предметов «происходит на уровне самих объектов, а не на уровне имён» (82, с. 17), то в «Кратиле», напротив, Сократ не может представит і , как ономатет мог давать вещам имена, исходя из их облика, а не из какого-то другого имени. Правомерность именно последнего подхода Сократ доказывает, выстраивая замысловатые этимологические цепочки имён богов и наиболее важных философских понятий, в чём-то родственных позднейшим экспериментам В. Хлебникова. Примечательно, что Платон не только не настаивает на сугубой безошибочности подобных построений, но и оспаривает некоторые из них. При этом философ отрицает тот факт, что каждое имя несёт в себе достоверную информацию о чертах характера носителя, приводя в качестве примера чужеземные имена, которыми родители бездумно называют своих детей.
Тем не менее, при всех прямо высказанных сомнениях и многочисленных тонкостях платоновской диалектики совершенно незыблемой остаётся магистральная идея диалога: имена должны даваться не по установлению, а по прирде и манифестировать конкретную сущность. К сожалению, в дальнейшем европейская цивилизация пошла совсем по другому пути - ведущему к опустошению имени, размыванию его сущности. Данную тенденцию красноречиво иллюстрирует пример, приводимый М. Ямпольским в монографии «Беспамятство как исток»: «Перелом произошёл в 11-12 веках. Так, например в целом ряде районов Франции в 10 веке на сто человек приходилось по 60-80 разных имён. В 13 веке эга цифра упала до 16 имён на сто человек. Таким образом постепенно множество людей стало называться одним именем, что отчасти стёрло индивидуальность наименования» (138, с. 23).
Антикратішнация (термин Ямпольского) имени в бытовой и художественной культуре достигла своего апогея в 20-30 годы нашего века. Именно в этот период такие писатели, как Кафка и Хармс, экспериментировали с постепенным обессмысливанием имён персонажей. Но параллельно с этим П.А Флоренский и А.Ф. Лосев предприняли отчаянную попытку вернуть имени его первоначальную снял, с трансцендентальным измерением бытия. В статье «Вещь и имя» Лосев замечает: «Отрыв имен от вещей есть печальный продукт той ужасающей тьмы и духовной пустоты, которой отличается буржуазная Европа, создавшая один из самых абстрактных и бездушных типов культуры вообще» (98, с. 43).
Ономатологии и символология А.Ф. Лосева и П.А. Флоренского. О їси Павел Флоренский в 1926 году подготовил монументальный і руд под названием «Ономатология». Основным в этой монографии стал тезис «имя - тончайшая плоть, посредством которой проявляется духовная сущность» (126, с. 469). Философ настаивает на том. что имя - сродни платоновским идеям, поэтому в имени заложен весь комплекс возможностей и предопределений, полнота реализации которых зависит от интуиции самого носителя: «имя есть лишь музыкальная форма, по которой можно написать произведение и плохое, и хорошее» (126, с. 661). Флоренскому принадлежит формула «Ангел Хранитель - это имя» (126, с. 659), исходя из которой философ предостерегал читателей называть детей «в честь кого-либо» хотя бы даже и святого. Для Лосева имя есть энергема сущности, так что «слово о \ предмете и о сущности есть сам предмет и сама сущность», «...имя предмета и есть сам предмет в аспекте понятости и явленности» (100 , с. 109). Фундаментальная значимость имени раскрывается у Лосева через понятие символа: «Символ часто понимался (у рационалистов и позитивистов) как совокупность несущественных и чисто субъективных переживаний и знаков, не имеющих никакого онтологического аналога. Но два-три века рационализма и позитивизма - ничто по сравнению с трудно исчислимыми веками общечеловеческой истории, когда символ понимался именно онтологически и совершенно реалистически. Символ и мы будем понимать как полную и абсолютную тождественность «сущности» и «явления», «идеального» и «реального», «бесконечного» и «конечного». Символ не указывает на какую-то действительность, но есть сама эта действительность. Он не обозначает какие-то вещи, но сам есть эта явленная и обозначенная вещь. Он ничего не обозначает такого, чем бы он сам не был. То, что он обозначает, и есть он сам; и то. что он есть сам по себе, то он и обозначает. Если сущность есть являемое и именуемое, а явление - существенно и онтологично, то символ не есть ни то, ни другое, но сразу и сущность и явление т. е. и вещь и имя» (100, с. 270). Несмотря на то, что в ономатологических и символологических воззрениях Флоренского и Лосева много общего, они не тождественны. Лосев о своих расхождениях с отцом Павлом Флоренским высказывался следующим образом: «У Флоренского - иконографическое понимание, у меня — скульптурное. Моя І Ідея холоднее, безличнее и безразличнее, в ней больше красоты, чем интимности, больше окаменелости, чем объективности, больше голого тела, чем лица и лика» (101, с. 701).
Для Флоренского же понятия лица, лика и личины являются краеугольными (см., например, один из основополагающих его трудов «Иконостас»). Именно поэтому закономерным продолжением «Ономатологии» должен был стать словарь имён, в котором Флоренский, исходя из священных источников, jfj исторических фактов и художественной литературы намеревался дать подробные «личнностные» характеристики всем общеупотребительным русским именам. К сожалению, этот грандиозный проект гак и не был завершён, поскольку отец Павел успел детально проанализировать лишь 18 мужских и женских имён. Многим другим именам посвящены беглые заметки в дневниках, письмах и интервью философа. По сути, этот проект Флоренского являлся наглядной иллюстрацией к тезису Лосева «Миф есть развёрнутое имя». Глубоко изучив ономатологические построения Флоренского, молено моделировать свой личный миф, основываясь на духовных интенциях, присущих вашему имени.
Вместе с тем, основания для правомерности анализа рок музыкальных произведений с точки зрения личного мифа можно отыскать и в трудах Лосева. По мнению философа, полноценный анализ имени невозможен без привлечения таких концептов, как «Миф» и «магия», «ибо имя, никого не называющее и никем не % & называемое, равно как и и.мя, не способное подчинить себе физическую действительность, конечно, ни в каком случае не может считаться именем». Анализируя в «Очерке о музыке» основания для интерпретации музыкальных произведений, Лосев снова обратился к понятию мифа: ««Миф же должен дать картину самого качества музыки во всей ее переживательной полноте, принимая во внимание и все изученные нами формы музыкального переживания. Миф есть объективное узрение сущности бытия, данное в системе познавательных форм человека. Миф поэтому вовсе не есть обязательно образ, хотя он и может получать от него существенную поддержху в выразительности. Образ есть понятие психологическое, миф же — гносеологическое. Из. этого вытекает то, что каждое данное музыкальное произведение допускает бесчисленное / количество мифологизаций» (98, с. 11).
Личный миф как инструмент культуры. Путь Павла Флоренского, выводящего из имени личный миф, присущ и Юрию Кузнецову. В стихотворении «Дни очарования» поэт проводит ономатологическии эксперимент, выявляя метафизический ореол имени Вадим Петрович и соотносит этот ореол с собственным мифом (подробный анализ этого аспекта «Дней очарования» представлен в третьей главе настоящего исследования). А в стихотворении 1993 года «Сон копья» Кузнецов, описывая икону своего тезоименного святого Георгия Победоносца, пытается наложить сюжет иконы на собственную духовную биографию.
Проблеме личного мифа в последнее время посвящено немало jH/ исследований. О і метим, к примеру, статью Ю.М. Лотмана «Литературная биография в историко-культурном контексте (к типологическому соотнесению текста и личности автора)» и диссертацию Д.М. Магомедовой «Автобиографический миф в Ф творчестве Александра Блока». В последней работе даётся понимание личного мифа как «исходной сюжетной модели, получившей в сознании автора онтологический статус, рассматриваемой им как схема собственной судьбы и постоянно соотносимой со всеми событиями его жизни, а также получающей многообразные трансформации в его художественном творчестве». Характерно, что и Евгений Головин затрагивает проблему личного мифа: «Василий Шумов, насколько можно судить, подобно Джимми Моррисону или Марку Болану, пытается выразить свой «личный миф». Так К. Г. Юнг назвал функционирование индивидуальных архетипов в художественном творчестве» (136, с. 39).
Личный миф Юрия Кузнецова, вытекающий из семантического ореола его имени присутствует в стихотворении ("Ф «Сон копья». Характерная деталь: лирический герой и его тезоименный ангел -хранитель ни разу не названы по имени. Этот путь соотносится с аиофатическим алгоритмом Павла Флоренского, полагавшего, что дабы получить набор качеств, предполагаемых именем в чистом виде, нужно полностью абстрагироваться от чувственного опыта восприятия имени, обратиться «к опыту чисто мистическому, а его не вместить в опыт сказуемый» (126, с. 497): В л о г храм я вхожу, как во сне, Покоряясь стенам и иконам. Вот и всадник на белом коне Задремало копьё над драконом. С. іоішо дух перед ним я стою Гриста лет и семьсот одинако. Что-то странное снится копью: Равновесие света и мрака. Кузнецов, одинокий в современном ему поэтическом мире (не случайно архаичное «одинако» звучит в стихотворении как откровенный пароним слову «одиноко») ищет духовных предшественников в трансцендентальных мирах - и находит их. Святой Георгий-Победоносец (Георгий - «канонический» вариант имени Юрий, которого не было в святцах по причине его «простонародное г и») является для поэта не просто тривиальным «примером для полражания», но и являет собой совершенный иконографический ориентир, к которому должно стремиться на протяжении всей жизни. Этот ориентир сугубо противостоит быту, миру дольнему, поскольку даруется герою во сне. Сон, по Флоренскому, «есть шаменование перехода от одной сферы в (& другую и символ. Чего? - Из горнего - символ дольнего, и из 4fii дольнего - симии горнего. Теперь понятно, что сновидение способно возникать, когда одновременно даны сознанию оба берега жизни, хотя и с раз ною степенью ясности. Это бывает, вообще говоря, при переправе от берега к берегу, а, может быть, ещё и тогда, когда сознание держится близ границы перехода и не совсем чуждо восприятию двойственному» (126, с. 351-352). О двойственности природы символа, его пограничным положением между явью и сном, сознанием и бессознательным, говорил и Карл-Густав Юнг: «одна сторона символа приближается к разуму, но другая его сторона не доступна разуму, потому что символ слагаете ме только из данных, имеющих рациональную природу, но и иг, иррациональных данных чистого внутреннего и внешнего восприятия» (136, с. 511). Очевидно, что в одном случае мы имеем дело с религиозно-философской интерпретацией, традиционной, сакральной Ф № символики, уходящей своими корнями в трансцендентальное измерение бытия, а в другом - с психологическим её обоснованием. Казалось бы, синтез обоих путей был неизбежен, и к нему вплотную приблизился французский исследователь Рене Генон в книге «Символы священ ной науки». Однако в главе «Традиция и бессознательное» Генон решительно разводит эти два подхода, утверждая, что психоанализ, «вслед за материалистическим «отвердением» мира, составляет вторую фазу антитрадиционного действия, характерною для всей современной эпохи» (65, с. 67) и что «психоаналитическая интерпретация на самом деле стремится к отрицанию трансцендентности традиции» (65, с. 71). Публицистический антиюнгианский запал Генона, не подкреплённый серьёзными аргументами, по меньшей мере, (ШІ настораживает. Однако исследования последних лет несколько проливают свет на причины такого предубеждения. Как тонко заметил Сергей Ключников, Генон мог не признавать Юнга из-за того, что последний поддержал Гитлера, а «между тем Юнг убедительно показал врождённую психологическую предрасположенность человека к восприятию тех или иных символов (в том числе и считающихся священными) и раскрыл их укоренённость в глубинах коллективного бессознательного). В какой-то мере теория Юнга удачно дополняет собой метафизическую символику Генона» (65, с. 23). Возвращаясь к стихотворению Кузнецова «Сон копья», заметим, что герой, тезоименный автору и святому Георгию Победоносцу, заявляет о себе, как о воплощённом символе, находящемся на грани «света и мрака», на границе сознания и бессознательного, мира дольнего и горнего. Именно так его и воспринимают современники, нередко говорящие о постоянном пограничном полола чий Кузнецова между двумя мирозданиями. Поэт Евгений Рейн считает, к пример), что «Кузнецов - поэт конца, он - поэт трагического занавеса, который опустился над нашей историей. Только так и следует его понимать» (38, с. 4), а главный редактор газеты «Завтра» Владимир Бондаренко отмечает, что поэзия Кузнецова «скорее, есть трагизм заброшенного в наше земное пространство XX века одинокого небесного странника» (33, с. 7).
Этот пансимволизм присущ и современным московским рок-поэтам. Скажем, лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр прямо опирается на эзотерическую традицию, а его постоянным соавтором и духовным наставником является современный философ Евгений Головин достойный последователь идей Юнга и Генона. В творчестве Александра Ф. Скляра доминирует некое эпическое «я», наличие которого В. Редькин отметил в поэзии Ю.П. Кузнецова: «Я вижу», «Я слышу», «я вижу», «я пил» - эта форма выражения говорит не о повествовании из настоящего о прошлом, а о присутствии авторл в созданном им эпическом мире. Он свидетель события» (39, с. 124). Аналогичным образом чаще всего поступает и Скляр - см., например, текст песни «Шаман» из альбома «Нижняя Тундра» (2000):
Я хочу принести тебя в жертву тому
Кто когда-то придёт за тобой
Я хочу, ч тбы ты не досталась ему
Он стоп г 5а моею спиной Тот, другой
За моею спиной .. . Ведь я родом из древних ацтеков
IW ( Ф
Мои предки на утлых ладьях
Переплыли когда-то шестой океан Я шаман!
(26, с. 255) Упоминание о «шестом» океане должно уничтожить любые привязки к конкретному времени и месту. Скляру вторит его ближайший сораыик - Игорь «Гарик» Сукачёв (имеется в виду песня «Города, где после дождя дымится асфальт» из одноимённого альбома 1999 года):
Меня видели вчера, танцующим степ,
На раскалённой игле.
Я заре :ап на рейде в районе Борнео
В пьяной драке на корабле.
Я тот человек, кто получал
Заздравную чашу из рук палача.
Я выпускал электрический ток
Одни?.: поворотом стального ключа
В города,
Где после дождя дымится асфальт.
(27, с. 217-218) О безусловной символичности современной русской рок поэзии говорили такие исследователи, как В.В. Штепа и Е.А. Козицкая. В.В. Штепа напрямую увязывает свои построения с изысканиями Рене Генона: «Интересно взглянуть на культурное значение русского рока с позиций традиционалистской школы Рене Генона, возводящей Традицию не к каким-то «обычаям», но напрямую к метафизическим, эзотерическим и символическим аспектам бытия» (13 1, с. 3). Е.А. Козицкая справедливо утверждает, что «использование символики в творчестве того или иного рок IB
автора не означает, как правило, его обращения к символизму как к определённой фплософско-исторической системе» (90, с. 180). Характерно, что и сам Юрий Кузнецов постоянно подчёркивал, что его понимание символа всецело базируется на теории А.Ф. Лосева-и мало связано с холодными схематичными построениями символистов начала XX века.
Помимо типологического сходства с Юрием Кузнецовым, современным рок-поугам присуща ещё одна важная родственная черта - пристальное внимание к собственному личному мифу. В 2000-ом году в Твери вышла интересная монография Ю.В. Доманского «Текс; ы смерти» русскою рока», где был детально проанализирован комплекс мифилоппированных представлений о рок-творцах А. Башлачёве, В. Цое и М. Науменко, сложившийся уже () после их смерти. Однако, Доманский повествовал о фатальном аспекте «текста смерти» (персонального мифа, реализованного посмертно, а, елеловательно, не подлежащего коррекции автора), тогда как и Юрии Кузнецов, и многие московские рок-поэты, стремились ещё в расцвете жизненных и творческих сил повернуть свои потенциальные тексты смерти в желаемое русло. Подробно эта тема будет проанализирована в третьей главе настоящего исследования. Актуальное іь нашего исслелования обусловлена самой литературной ситчаипей последних лет. На сегодня практически отсутствуют научные исследования о поэзии Юрия Кузнецова, из чего неизбежно вытекает редукция его личного мифа. Практически Vr без внимания остается и символика в современной рок-поэзии. А между тем, антиепчволическая линия в отечественной рок-поэзии набирает силу, и л а мггропийная тенденция неумолимо затрагивает весь корпус текстов современной рок-культуры Наиболее полно и настойчиво антисимволическую линию в современной науке представляет итальянский мыслитель Антонио Менегетти. Являясь учеником 3. Фрейда, А. Адлера и К.-Г. Юнга, он, тем не менее, серьёзно приуменьшает роль коллективного бессознательного в процессе духовного развития человека. Менегетти является основоположником течения под названием онтопсихология. Данное ответвление психологической науки прежде всего характеризуется вычурными, искусственно созданными терминами, такими как «психический пенис», «чёрный вагинизм», «червивая позиция» и «пусіой эротизм» (107, с. 62). Пренебрегав любыми узаконенными традицией системами символов, Менегегш неизменно претендует роль духовного гуру. Из-за этого противоречия «оригинальные» мысли исследователя кажутся туманными и размытыми. Не желая, «навязывать» читателю собственную точк} зрения, исследователь тем не менее позволяет себе ни к чем\ І 1С обязывающие намёки на то, что нечто ему известно, но обнародовать это нечто он не имеет никакого права, поскольку каждыи должен постигать истину. Вот так выглядит привычный для него ход мысли: «Моя точка зрения состоит в следующем: существуют эти люди, существуют эти организации, но д.тл такого, как я, всё это не имеет никакого значения - это ;II:UI увеличивает аепень моей рациональности, осмотрительности, ответственности. Иными словами, я вижу суть этой игры и участвую в ней только тогда, когда она слишком близко меня касается. Тут неуместны размышления о том, правда всё это, или нет: я говорю вам то, что уже знаю» (108, с. 338-339). Базовым для онтопсихо.тогии Менегетти является понятие «Ин-се» вечное интуитивное подлинное «я» человека, которое «направляет человека на путь развития и личностного роста, m показывает ему препятствия 11 комплексы, мешающие индивидуальному прогрессу» (107, с. 53). Термин «Ин-се» в какой-то степени роде і иен юнгианскому архетипу Самости, однако, в отличие от Юнга, подбиравшего для своего наивысшего архетипа характерные для многих культур философские, литературные и религиозные аналоги, Менегетти предпочитает отмалчиваться, не желая замутнять «11н-се» некими субъективными представлениями о нём. шР Благотворном) для любого человека понятию «Ин-се» противостоят, по мнению Менегегти, такие понятия, как «вампирический захват» и «монитор отклонения». Если первое может быть плотно связано с такими характерными для славянских культур понятиями, как «сглаз» и «порча», то второе аналогично щ4 «эдипову комплекс)» Фрейда и Юнга. Упорное нежелание • связывать эти термины устоявшимися культурными артефактами приводит итальянского онтопсихолога к причудливым фантазиям, касающимся их инопланетного происхождения. Как видим, Менегетти своими спорными теоретическими конструкциями вполне иллюстрирует положение Юнга о том, что НЛО на самом деле есть не что иное, как реализация комплексов современного человека, добровольно лишившего себя религиозных канонов.
Термином «Ин-се» менегетти эффектно подменяет понятие коллективного бессознательного (кладезя предвечных символов). «Багаж» архетипов оказывается в этой ситуации совершенно излишним. Вмеею многозначных архетипов и бесконечно I выводимых из нпч символов, Менегетти оставляет нам строго отфильтрованный реестр образов-стереотипов, значения которых не отличаются внятносії.ю и разнообразием (все те же «червивые позиции», «пустые эротизмы» и т. п.) Словарь этих образов символов (труд иод названием «Мир образов») итальянский психолог составил самостоятельно, не удосужившись пояснить, где он почерпнул cmiu обширные знания. Данный мартиролог менее всего походит на средневековые беетиарии, скрупулёзный проект словаря символов Павла Флоренского и вполне удавшиеся словари и энциклопедии Х.-Э. Керлота и Г. Бидермана. В предисловии к «Миру Образов» автор открыто ограничивает собственное символическое чутьё, проводя параллели с... компьютером: «Именно введённая программа придаёт устойчивый характер защиты миру образов» (107, с. 24).
По мнению Менегетти, мир архетипических образов негативен и опасен. «Не существует знака, который сам по себе был бы позитивным. Позпшвность присуща бытию. Для определения позитивного или негативного характера образа недостаточно культурных парами ров контекста п традиций, также, как и верований и привычек, сводимых к архетипам универсального бессознательного» (107, с. 29). Являясь индивиду в снах, символы всегда указывают на некие отклонения в его психике.
Насколько далеко отстоит учение Менегетти, как от теории К.-Г. Юнга, так и о і иконографического значения привычных для различных культур символов, легко проследить, сопоставив два одинаковых символа, встречающихся, как в традиционной иконографии, так и в труде «Мир образов». Возьмём, например, треугольник. По Менегетти это - сугубо негативный символ, олицетворяющий человека в плен\ собственных рациональных построений: «Означает рациональную точность и совершенное соответствие, что отражает способность монитора отклонения проецировать собсі венные образы для захвата всего человека» (107 , с. 197-198). А, между тем, в «Словаре символов» Керлота треугольник означає і «стремление всех вещей к высшему единству, тяга к бегству от прсмяжённого к не протяжённому» (88, с. 52). Во всей европейской спмволологии треугольник и соответствующее ему число три означали стяжание святого духа, наиболее интенсивные этапы индивидуации. Несколько сложнее всё оказывается у Юнга, который, противопоставляя три - четырём, указывал на некую недостаточность и призрачность первого (эта тема будет детальні проанализирована первой главе настоящего исследования). Но и в этом случае три соотносится с мощной потенцией и уверенными предпосылками к стяжанию благодати. У Менегетти же речь идёт исключительно об упадке и регрессе.
При этом Менегетти совершенно забывает об открытой Юнгом нуминозиос-г.н архетипа то есть его неодолимой мистической власти, подвигающей человека к спасению.
Цель диссертации: проследить генезис, выявить сущностные принципы традиционной и авторской символики в современной рок-поэзии; доказать мысль о том, что понятие традиции, имеет мало общего с застьпшшми, эпигонскими, стереотипными и регрессивными явлениями в современной поэзии.
Задачи:
1. Выявить новые основания для более точного разграничения бытующих в современной русской поэзии символов- как традиционных, так и авторских.
2. Оспорить сомнительный тезис о том, что последовательное оперирование фнлпционными символами приводит к закостенелости и поэтическому застою, а безграничное генерирование авторских символических значений способствует открытию новых смысловых горизонтов.
3. Означить проблему творения личного мифа в рок-поэзии, особенно в московской. $ Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав и заключения. Первая глава посвящена символике чисел, ибо именно числа оказываются ближе всего к платоновским идеям -а через них и к архетипам. Во второй главе рассматривается образ-символ Москвы, коюрый неизбежно соединяет в себе сакральные (концепт «Москва - Третий Рим») и профанные черты. Особое внимание уделяется мифотворчеству М. Булгакова и В. Ерофеева, повлиявших на «московский текст» Ю. Кузнецова и В. Пелевина, оказавших влияние на творчество московских рок-поэтов. В третьей главе речь идёт об образе-символе телефона, который не относится к разряду сакральных символов. Библиографический список включает 138 наименований.
; Положения, выносимые на зашиту диссертации: 1. Юрий Кузнецов рассматривает Москву как преддверие Небесного Града, находит для неё новые перспективы. Московские же рок- поэты, считающие себя духовными \ чениками Ю.П. Кузнецова, в своих музыкальных трактовках его стихотворений проявляют недостаточную гибкость, тонкость, точность и глубину постижения первоисточника. Демифологизация Кремля как «культового места», начатая Ерофеевым и. кстати, Кузнецовым (в стихотворениях «Я в Мавзолей встал в оче.?едь за Лениным...», «Что мы.делаем, добрые люди?», «Неизвестный солдаї» и ми. др.) продолжается и у А.Ф. Скляра («Ва-Банкъ»), и у группы «Банды Четырёх». Однако нередко Wtj утверждаются (и тут же демифологизируются) совсем другие топосы: площадь Маяковского, станция метро «Арбатская» (у группы «Тараканы») и т.п.
2. Если мы всмотримся в нумерологию, то ясно увидим, что нумерологические эксперименты присущи «московскому тексту» Кузнецова и рок-полов. Последние, чересчур доверяя прописным истинам, своей интуиции и совершенно игнорируя традиционные символические семь;, творят глубоко пессимистический образ столицы и заходят и і уник.
3. Анализ специфики нумерологических изысканий Кузнецова позволяет не только осмыслить особенности его поэтики, но и выявить истоки его эстетических предпочтений (например, ориентация на пушкинские традиции, настороженное отношение к Блоку и амбивалет і юс - к Данте).
4. Если нумерологические опыты Юрия Кузнецова и Юрия Шевчука укладываются в русло традиции, которая далеко не исчерпана и даёт новые ростки, то символика чисел, будучи изъятой из традиционного контекста, у многих рок-поэтов (Вадим Кузьмин, Алексей Кортнев и др.) становится ущербной и напоминает симулякр постмодерн і {via. Она не несёт высшего метафизического смысла.
5. Рядовым конструктивным элементом типовой песенной аранжировки, призванным максимально затушевать экзистенциальную проблематику, ныне зачастую становятся «телефонные реалии".
Практическая шачимость. Ре$ультаты исследования могут использоваться в вую иском и школьном преподавании современной русской литературы, особенно поэзии. Кроме того, они способны помочь исследователям при составлении более всеохватных словарей и энциклопедий символов и создании учебников по современной поэзии.
Общей методологической базой исследования явились историко-литературный, сравнительно-типологический и структурно-семантический подходы. Теоретическим основанием послужили труды Ж. Бодрийяра, Р. Генома. К).В. Доманского, Вяч. Вс. Иванова, Н.Ф. Калиной, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана. Л. Менегетти, А.В. Михайлова, Ю.Б. Орлицкого, И.Г. Тим о щук, П.А. Флоренского, К.-Г. Юнга, М.Б. Ямпольского и др. Научная новішій диссертации обусловлена исследованием типологии современною художественного сознания на материале поэзии ІО.П. Кузнецова и московских рок-поэтов (Александр Ф. Скляр, Игорь Сукачёв и др.) и сопоставлением традиционной и авторской, сакральной и профанной символики в их творчестве. Jfij Впервые материалом для подобною а типологического анализа послужила поэзия Юрия-Кузнецова и московских рок-поэтов. Это поможет создать новые предпосылки лля составления последующих словарей и энциклопедий символов, потому что существующие образцы грешат либо недопустимой предвзятостью в выборе символов, либо тотальной эклектикой. Так, «Словарь символов» X. XW Э. Керлота (1996) и «Энциклопедия символов» Г. Бидермана (1997) представляют нам традиционные символические изводы, тогда как справочник «Мир иоразов» А. Менегетти (2001), в основном, поясняет понятия из повседневной реальности (ножницы, вертолёт, вентилятор, магнитофон, компьютер), а сакральные символы (лестница, зАмок, лебедь, зеркало) трактует весьма вольно и »/ поверхностно. Впервые «московский текст» современной русской поэзии анализируете:! с точки зрения нумерологии. Материалами исследовании стали творчество Ю.П. Кузнецова, А.Ф. Скляра, Игоря Сукачёва, Андрея Лысикова (Дельфина), Светланы Гейман (Линды), Максима Фадеева, московских групп «Центр», «Банда Четырёх», «Ловцы Дня», «Танцы Минус», «Тараканы и «НАИВ». Для контекста привлекались такие исполнители, как Бо:чіс Гребенщикои. Константин Кинчев, Евгений Фёдоров и Юрий Шевчук (Санкт-Петербург), группы «Мумий-Тролль» (Владивосток), «Грин Грей» (Киев), «Океан Эльзы» (Львов), «Я и Друг Мой Грузовик» (Днепропетровск), «Смысловые Галлюцинации» (Екатеринбург), «Гражданская Оборона» (Омск), " «Чёрный Лукич» (Ноь.)сибирск). «Кооператив Ништяк» (Тюмень).
Апробация диссертационного исследования. Основные положения исследования были изложены на шести научных конференциях: «Русская рок-поззия текст и контекст» в Твери (сентябрь 2000 г. и май 2001 г.), «Мотив вина в литературе» (Тверь, jtfj осень 2001 г.), «Іралинии в контексте культуры» (Череповец, октябрь 2000 и 200" гг.) и «Рок-нолия как социокультурный феномен» (Череповец, май 2000 г.), - а также в одиннадцати публикациях автора в научных сборниках и периодической прессе («Литературная Россия», «Новая газета» журналы «Fuzz» «R-Club» и др.)