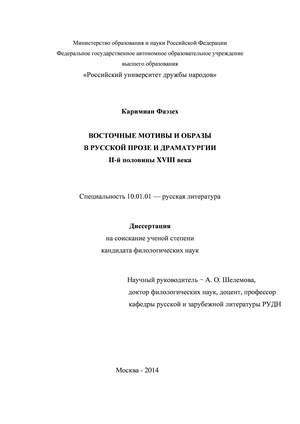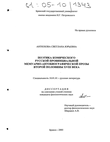Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Восточные мотивы в журнальных публикациях II-й половины XVIII века 10
1.1.Общественно-политические предпосылки активизации интереса к восточной теме в русской литературе II-й половины XVIII века 10
1.2. Трансформация восточных сюжетов и идей в русской журнальной прозе II-й половины XVIII века: тексты, жанровая специфика, идейные приоритеты 21
1.3. Интерпретация восточной темы в журнальных статьях Н.И.Новикова ...32
Глава II. Восточная повесть в русской прозе II-й половины XVIII века 41
2.1.«Золотой прут» М.М. Хераскова - эталон русского варианта «восточной» повести 42
2.2. Восточная повесть «Надир» как образец нравственно-этического кодекса просвещенного правления 49
2.3. Ориентализм как сюжетообразующая основа нравоучительно- дидактических сказок Екатерины II 62
2.4. Литературные пародии на восточные повести: «Каиб» И.А. Крылова и «Сон путешественника» из книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева 73
2.5. Поэтика восточной повести: стереотип художественного дискурса и оригинальность мотиво- и образотворчества 80
Глава III. Ориентализм в русской классицистической трагедии 99
3.1. Репрезентация восточного сюжета в трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и Селим» 102
3.2. Восточная аллюзия как прием критики самодержавной тирании, деспотизма и самозванства в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий» 114
3.3. Восточный контекст в трагедии В.И.Майкова «Фемист и Иеронима» 127
3.4. Антиномия «православная Русь – языческий Восток» в трагедии Н.П Николева «Сорена и Замир» 135
Заключение 154
Список использованной литературы
- Трансформация восточных сюжетов и идей в русской журнальной прозе II-й половины XVIII века: тексты, жанровая специфика, идейные приоритеты
- Интерпретация восточной темы в журнальных статьях Н.И.Новикова
- Восточная повесть «Надир» как образец нравственно-этического кодекса просвещенного правления
- Восточная аллюзия как прием критики самодержавной тирании, деспотизма и самозванства в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий»
Трансформация восточных сюжетов и идей в русской журнальной прозе II-й половины XVIII века: тексты, жанровая специфика, идейные приоритеты
«Столетье безумно и мудро». Этими словами характеризовал XVIII век А.Н. Радищев. Антонимическое сочетание «мудрости»-величия века и «безумия»-ложных представлений об этой «мудрости», воспроизведенное в стихотворении одного из именитых писателей «осьмнадцатого столетия», остается дискуссионной проблемой до нашего времени. В современной науке специалистами различных областей знания предпринимается попытка восстановить исторический, политический, философский и культурный контекст П-й половины XVIII века.
А.Н. Радищев описывал XVIII столетие в одноименной оде как современник и очевидец политических и культурных событий времени правления Екатерины Великой. Однако предпосылки общественной ситуации, сложившейся в Российской империи к концу века, имеют свою предысторию.
В послепетровскую эпоху носителями верховной власти в России оказывались «случайные» правители. Это обстоятельство было предопределено законом Петра I о престолонаследии от 5-го (16-го по н.ст.) февраля 1722 г., отменившим и прямое наследование по старшинству, и соборное избрание. По этому указу власть отдавалась на волю монарха, который сам назначал преемника. Указ, поскольку великий император скончался без наследного волеизъявления, предрешил причины правительственного династического кризиса в России: за последующие после его смерти пятнадцать лет, до воцарения Елизаветы Петровны в 1741 году, сменилось пять императоров, ни один из которых даже отдаленно не соответствовал своей роли и месту в государственной системе.
Случайным оказалось и правление Петра Ш как мимолетный эпизод в истории России и, вместе с тем, серьезная государственная проблема.
Тема «Петр Ш – Екатерина II» всегда привлекала внимание и историков и писателей. «Образ Петра Ш, предстающий перед потомками со страниц воспоминаний современников, вызывает противоречивые эмоции. На российский престол в самом конце 1761 г. поднялся 35-летний человек – нервный, впечатлительный, невоздержанный в своих порывах и увлечениях. Он не знал и не любил страну, которой ему предстояло править, и ему в голову не приходило, что по отношению к этой стране у него есть какие-то обязанности, а ее народ – не просто толпа подданных» [34, с. 57].
Екатерина П завершает своим правлением «случайные» царствования в XVIII веке; она провела продолжительное (34 года) и необычайное царствование, сотворив эпоху, названную в истории ее именем. 28 июня 1762 г. в России произошел дворцовый переворот, возведший Екатерину на российский престол. Она использовала ситуацию общественного недовольства безумным правлением мужа. Июньские события 1762 г. привели к значительным изменениям всего уклада русской жизни. На смену средневековому сознанию пришло из Европы мировоззрение Нового времени, где оно постепенно развивалось со времен Возрождения. В европейской политической жизни в это время распространенным становится учение французских философов, публицистов, писателей, поставивших своей задачей просветить широкие круги населения, дискредитировать феодализм, показать возмутительную деятельность церкви, деспотизм власти феодального монарха. Славу приобретают Вольтер, Монтескье, Дидро, Гельвеций, Гольбах, Д Аламбер, Руссо и др. Проповедь французских просветителей звучала далеко за пределами их отечества. Просветительство становилось распространенным явлением в России.
Екатерина II прекрасно осознавала, что идеи просвещения находят широкий отклик в умах передовой российской интеллигенции. И она начала завоевание авторитета монархини, живущей в век Просвещения. Получив власть не по закону наследования, Екатерина не имела прав на титул императрицы: она должна была признать себя регентом при несовершеннолетнем наследнике. Однако Екатерина короновалась в статусе императрицы, поэтому ей необходимо было убедить общественность в своей состоятельности, нужно было продемонстрировать ожидаемую от подданных политическую лояльность и прогрессивную позицию.
Однако, как образно охарактеризовал сложившуюся после дворцового переворота ситуацию Ст. Рассадин, в России «семена нововременного сознания попали в плохо приспособленную почву, их прихватило русским морозцем, и всходы они дали своеобразные» [71, с. 66]. И все же многие основополагающие представления этого мировосприятия сохранились по сей день не только в России, но и во всем мире. Так, например, именно к XVIII веку восходит идея правового государства, многие представления о демократии и свободе личности, о взаимоотношении личности и государства, об обязанностях правителя перед народом. «При изучении екатерининского царствования, – пишет автор книги «Под сению Екатерины» А.Б. Каменский, – бросается в глаза резкий контраст между декларативными заявлениями «просвещенной» монархини, щедро рассыпанными как в официальных документах, так и в личных бумагах, и ее реальной политикой. «Тартюфом в юбке и короне» назвал Екатерину II А.С. Пушкин. Пятью словами великий поэт, обладавший удивительным даром исторического видения, выразил то, что профессиональные историки излагают в длинных статьях и монографиях. И во всех этих работах, написаны ли они апологетами или обличителями Екатерины, сквозит плохо скрываемое раздражение. Ибо апологеты никак не могут примирить слова императрицы с ее делами, а обличителям никак не удается уличить ее в каких-либо страшных злодеяниях. Первые исходят из того, что все заявления Екатерины искренни и она на самом деле стремилась действовать так, как говорила. Вторые убеждены, что императрица постоянно лгала, фарисействовала и не только не пыталась при этом воплотить свои заявления в жизнь, но делала все наоборот» [34, с. 105-106].
Екатерина была весьма дальновидным политиком и свою деятельность начала, по оценке Пушкина, с «фиглярства в сношениях с философами ее столетия». Дальновидность императрицы сказалась прежде всего в том, что она сумела во всей сумме прогрессивных идей французских просветителей увидеть самую выгодную для нее сторону, а именно: идеализм мировоззрения, который определил формирование их политической концепции – мечты о совершенном, просвещенном монархе. Именно на этой теоретической основе Просвещения и построила Екатерина свою политику овладения общественным мнением – европейским и российским. «Царице казалось, – писал Н.Я. Эйдельман, – что ввиду отставания России от Франции и других европейских стран еще не скоро появятся такие опасные «спутники прогресса», как стремление к свободе, ненависть ко всем формам деспотизма
Интерпретация восточной темы в журнальных статьях Н.И.Новикова
Жанровая разновидность художественного произведения, определенная литературоведами как «восточная повесть», имела довольно обширный ареал распространения в русской прозе. В перечень сочинений подобного рода можно включить, с одной стороны, подлинные переводы восточных сюжетов, среди которых архетипический образец жанра – цикл сказок «Тысяча и одна ночь», а также их многочисленные подражания, с другой, – западные тексты, известные в переводах на русский язык. Авторами этих произведений в большинстве случаев были французские писатели, сторонники просветительских идей – Вольтер, Дидро, Монтескье и др., которые использовали восточные мотивы в целях актуализации посредством литературного выступления пропагандируемых ими общественно-политических проблем.
К образцами первого типа переводов можно отнести подражания «Тысяча и одной ночи» Пети де ла Круа «Тысяча и один день. Сказки персидские», Тамоса-Симона Геллета «Тысяча и одна четверть часа. Сказки татарские», «Тысяча и один час. Сказки перуанские». Популярны были и анонимные переводы, сюжетно и композиционно построенные по модели классического прототипа – «Сказки арабские. Приключение Абдаллы», «Пятьсот с половиной утр. Сирийские сказки» и мн. др. Однако более значимыми, оказавшими непосредственное воздействие на восприятие и становление жанровой модели «восточной» повести в русской литературе исследуемого периода стали произведения французских писателей-просветителей. Традиция использования ориентальных мотивов и образов русскими писателями восходит, прежде всего, к творчеству Вольтера – автора произведений «Мир как он есть, или Видение Бабука», «Задиг. Восточная повесть», «Принцесса Вавилонская», в которых французский просветитель мастерски воспроизводил восточную экзотику в целях популяризации своих философских идей.
В связи с выше изложенными наблюдениями нам представляется наиболее резонным вывод исследователя В.Н. Кубачевой, которая в своей фундаментальной статье отмечала, что «во французской литературе XVIII века «восточная» повесть не имела единого характера. Параллельно существовали два несовместимых ее вида: один – развлекательный, ведущий начало от восточной фантастической сказки и авантюрно-галантного романа, а другой, лишь внешне сходный с ним вид, – просветительская «восточная» философская повесть. Они развивались рядом, почти не смешиваясь; каждый из них имел свою поэтику» [41, c. 299].
В.Н. Кубачева, анализируя рецепцию французской «восточной» повести на идентичный литературный аналог в русской прозе, определила три направления, выявляющие определенные тенденции восприятия идей, тем, мотивов и образов: 1) морально-этические с религиозной окраской; 2) развлекательные, авантюрно-галантные; 3) просветительские философско-сатирические и нравоучительные [41, c. 299]. «Общий термин «восточная повесть», – уточняет В.Н. Кубачева, – в этих группах имеет не один и тот же смысл. В первой группе он иногда воспринимается как указание на место возникновения, на родину произведения. Во второй чаще определяет лишь место действия, а в некоторых случаях – условный источник: подражание арабским или иным восточным сказкам. Наконец, произведения третьей группы всего дальше отстоят от первоначального значения термина «восточная повесть». Здесь могут отсутствовать даже восточные сюжеты; используются лишь имена, внешний реквизит и некоторые детали, ставшие общепринятыми признаками «восточности» [41, c 299-300].
Из трех пунктов, определяющих векторы использования восточных мотивов русскими литераторами II-й половины XVIII века, наиболее реализуемой нам видится заключительная рубрика. Религиозный компонент в прозе этого периода мало выявлен (он более обозначится в драматургии). Развлекательно-авантюрные сюжетные линии наблюдаются в оригинальных текстах изредка в виде нечастых окказиональных вкраплений. Но переводные произведения, отнесенные к этой группе, достаточно представительны.
Жанр восточной повести, классифицированный в первую группу представлен такими произведениями, как «Явление, виденное Феодором, пустынником Тенерифским» («Сочинения и переводы», 1760), «Обидах и пустынник» («Ежемесячные сочинения», 1756), «Видение Мирзы» («Утренний свет», 1779). При ознакомлении с текстами этой рубрики бросается в глаза существенная особенность: отсутствие религиозного православного контекста.
Восточная повесть «Надир» как образец нравственно-этического кодекса просвещенного правления
Крылов перечисляет традиционные для «восточной» повести предметы дворцового убранства – золото и драгоценности, бюсты, ковры, зеркала. Радищев же, создавая общий фон блеска золота и драгоценных металлов, акцентирует символы власти:
«Место моего восседания было из чистого злата, и хитро искладенными драгими разного цвета камнями блистало лучезарно… Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из серебра изваянном, на коих изображались морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода…Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого злата. На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью Закон милосердия; в другой же книга с надписью Закон совести …» [70, c. 23-24].
В сне путешественника внимание сосредотачивается не на изображении богатства и изобилия шаха, и даже не на драгоценных аксессуарах власти, а на деяниях монарха, символизируемых этими символами. Детали дворцовой атрибутики не воспринимались отвлеченно-аллегорическии, поскольку представляли конкретное описание Зала общего собрания Правительствующего Сената. Из всех заслуг императрицы истинными были лишь военные, символизируемые мечом: при Екатерине II территория Российской империи значительно расширилась благодаря завоеванию южных (Крым) и западных (Украина, Польша) земель.
Золотой сноп с обильными колосьями оказался иллюзорным символом крестьянского благополучия подобно потемкинским деревням, как эфемерной была и идея монархини о справедливом законодательстве.
Попытка созыва комиссии по составлению Нового Уложения потерпела провал. Радищев не случайно изобразил все приписываемые императрице заслуги в скульптурных символах, то есть, застывших, окаменевших, мертвых. В одной из глав книги он открыто высказался, что «крестьянин в законе мертв».
Изображение мнимых достоинств «просвещенного» монарха в повести Крылова абстрагировано, Радищев же конкретно разоблачал иллюзорный авторитет «просвещенного правления» российской императрицы.
Автор «Каиба» при описании дворцовой роскоши употребил художественный прием «зеркального отображения». Заглавный герой прекрасно знал волшебное свойство зеркал и использовал их, забавы ради, «видя, как отвратительнейшие лица перед своими зеркалами спорят о своей красоте…» [40, c. 596-597].
Подобный прием Радищев в эпизоде «сна путешественника» возводит в ранг доминантного сюжетного, идейного и композиционного принципа. По сюжету волшебница-целительница, привидевшаяся в восточному владыке во сне, представилась Истиной-Прямовзорой. Она не побоялась честно сказать шаху о его слепоте, сняла бельма с глаз правителя, и он увидел все в истинном свете:
«Одежды мои, столь блестящие, казались замараны кровью и омочены слезами. На перстах моих виделися мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине… Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия… Обширные земли и многочисленные народы изрождалися из кисти сих новых путешествователей… Вместо того чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердным я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом…» [70, c. 29-30]. В обоих произведениях «прозревшие» государи представлены как жертвы, доверившиеся своим приближенным.
Используя приемы сатирического изображения монархической власти, Крылов показывает придворную жизнь в пародийной манере. Подобным способом описывается государственный совет – «диван».
Возглавляет «диван» «человек больших достоинств» Дурсан, который «служит отечеству бородою», и в этом его главное «достоинство» [40, c. 600]. Он является прилежным сторонником самых жестких мер реализации мифического государственного закона. Чтобы добиться от народа исполнения любого указа, следует, по его мнению, только лишь повесить первую дюжину любопытных.
Другой советник халифа, представленный «потомком Магомета» и «верным музульманином» – Ослашид – с удовольствием рассуждает о власти и о законе, не понимая и не стремясь осмыслить их истинного назначения. Он, «не исследывая своих прав, старался только ими пользоваться» [40, с. 601]. Мнение Ослашида о жизни в государстве зиждется на религиозной догме: воля правителя приравнивается к праву самого Магомета, для «рабства» коему создан весь мир.
Еще один важный представитель «дивана» – Грабилей – преуспевает, потому что научился «обнимать ласково того, кого хотел удавить; плакать о тех несчастиях, коим сам был причиною; умел кстати злословить тех, коих никогда не видал; приписывать тому добродетели, в ком видел одни пороки» [40, с. 602].
Восточная аллюзия как прием критики самодержавной тирании, деспотизма и самозванства в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий»
В рамках нашего анализа интерполяции восточных мотивов в русской драматургии II-половины XVIII века пьеса А.А. Ржевского «Подложный Смердий» вызывает наибольший интерес как одно из самых значимых произведений не только в литературном наследии писателя, но и в общественно-политической дискуссии тех лет вокруг проблемы просвещенного абсолютизма.
Трагедия «Подложный Смердий» А.А. Ржевского – произведение, практически забытое и невостребованное, изредка упоминаемое специалистами, изучающими русскую драматургию второй половины XVIII века, и не вошедшее даже в «Полное собрание всероссийских театральных сочинений». Тем ценнее воспринимается свидетельство современника инсценировки пьесы в 1769 г. в императорском театре Н.И. Новикова, который в «Опыте исторического словаря о российских писателях» опубликовал о ней отзыв: «Сия трагедия делает сочинителю честь: она сочинена в правилах театра, завязка и продолжение расположены очень хорошо, характеры выдержаны сильно,.. нравоучение у места, хорошо и приятно, и, наконец, трагедия сия почитается в числе лучших в Российском театре, а сочинитель ее хорошим стихотворцем и заслуживает великую похвалу» [61 a, c. 344]. Кроме хвалебной рецензии Новикова о пьесе до середины XX в. в каких-либо источниках упоминаний нет. Трагедия А.А. Ржевского «Подложный Смердий» была опубликована только в 1956 г. в книге «Театральное наследство» П.Н. Берковым, как устновлено, даже не по авторской копии, а по некому варианту, неадекватному оригиналу и содержащему большое количество ошибок [См.: 76, c. 220]. «Забвение» трагедии, вполне вероятно, обусловлено цензурными запретами, поскольку в ней подымалась актуальная для конца 60-х – начала 70-х годов проблема самозванства и борьбы с незаконным владыкой.
По мнению П.Н. Беркова, в трагедии А.А. Ржевского «явно присутствуют аллюзии, переключающие внимание зрителей на некоторые обстоятельства, связанные с правлением Петра Ш» [9, c. 158]. Ученый в качестве примера привел монолог Приксаспа, в котором увидел недвусмысленные намеки на образ правления Петра Ш. И.З. Серман полагает, что трагедия была написана несколько ранее принятой датировки, поэтому проблематика ее «отражала политическую борьбу начала 1760-х годов и могла восприниматься Екатериной только положительно» [75, c. 192]. Однако мы склонны разделить точку зрения по этому вопросу исследователей, возразивших авторитетным литературоведам, в частности, М.Л. Смусиной, которая писала: «Предположение о том, что в 1769 г. у зрителей пользуется успехом политическая трагедия, бьющая по давно уже не существующему противнику (Петру Ш), кажется маловероятным» [76, c. 222]. С царствованием Петра не ассоциируется проблема самозванства. Более того, именно в 1769 году потерпела провал работа Уложенной комиссии, созванной Екатериной П для разработки «демократического» законодательства. Это было время приближения совершеннолетия Павла Петровича (1772 г.), когда дворянская оппозици совершила попытку мирным путем, через декларцию политичекого проекта, предложенного главой оппозиции – воспитателем цесаревича Н.И. Паниным – вернуть власть в государстве законному престолонаследнику. Политичская борьба активизировала напрямую литературные выступления творческой интеллигенции. Проблема самозванства стала центральной в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий». Вероятно поэтому, несмотря на большой интерес, вызванный у зрителей, пьеса не была опубликована, а, значит, просто запрещена цензурой.
Автор статьи о государственной и литературной деятельности А.А. Ржевского М.Л. Смусина убедительно доказала, что написание «тираноборческой» трагедии было не случайным: русский писатель испытал прямое влияние политических идей Вольтера, причем, как переводчик на русский язык статьи французского просветителя, помещенной в «Переводах из Энцилопедии», вышедшей в 1767 г. «Стоит внимательно приглядеться и к тому, – пишет исследовательница, – что прежде всего увидел в истории русский переводчик Вольтера: «История нас пользует тем, что какой ни есть служащий человек или гражданин, читая ее, может сравнивать законы и нравы со своими», – вот идейная предпосылка бесчисленных исторических произведний XVIII века.
Чрезвычайно интересно в этом плане последующее рассуждение – о подлинности истории: «Всякая подлинность, не имеющая математического доказательства, не что иное, как чрезвычайно вероятная вещь. Исторические подлинности все таковы суть». Характерно, что в основу своей трагедии Ржевский положил самый сомнительный, по мнению Вольтера, эпизод Геродотовой истории: «История Кира вся обезображена баснословными преданями». Именно из истории Кира взял Ржевский сюжет для своей трагедии» [76, c. 223].
А.А. Ржевский, вероятно, напрямую не был знаком с «Историей» Геродота, а изучал ее перевод, выполненный в 1763 г. А. Нартовым. Ориентальный сюжет «Подложного Смердия», повествующий о событиях в Персии, о захвате власти самозванцем, его деспотическом правлении и борьбе за престол достойного наследника, явно намекает на идентично сложившуюся династическую ситуацию в России. Просвещенное дворянство было достаточно образовано и начитано сочинениями энциклопедистов, чтобы понять иносказательный смысл восточных аллюзий. Заимствованный из «Истории» Геродота рассказ о Лжесмердии в трагедии А.А. Ржевского получил инверсионную сюжетную интерпретацию. Прототип героя представлен вполне положительным персонажем: власть узурпатора не была деспотичной. Смерть его жителями всей Азии, кроме персов, воспринималась как скорбное событие. А образ Дария у Геродота производит весьма неоднозначное впечатление, уже хотя бы потому, что власть он приобрел хитросплетением интриг [66, c. 338].