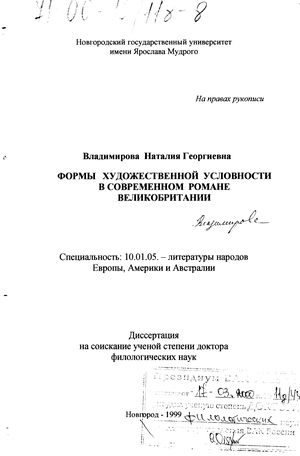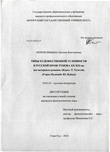Содержание к диссертации
Введение
ЧАСТЬ I. Миф как форма художественной условности (история и современность)
Глава первая. Формирование мифологической аллюзивной парадигмы (от Эсхила к Ф. Бэкону) 24
Глава вторая. Прометеевский миф в романах М.Шелли, Б.Олдисса, Г.Грина 52
Глава третья. Двойной язык мифа (романы Д.Бауэна, У.Голдинга) 77
ЧАСТЬ II. Интертекстуальность и поэтика условных форм в современном английском романе .
Глава первая. Интертекстуальность как предмет рефлексии метакритики 108
Глава вторая. «Портрет Дориана Грея» О.Уайльда как предтеча нетрадиционной поэтики 136
Глава третья. Образ литературы в зеркале романа (Г.Грин) 167
ЧАСТЬ III. Игра и игровое начало в современном романе Великобритании. Глава первая. Теория игры 227
Глава вторая. Парадоксы игры в романах Г.Грина 242
Глава третья. Метаморфозы игры в трилогии У.Голдинга «На край земли: морское путешествие» 265
Глава четвертая. Игра и ответственность выбора в романах Д.Фаулза 291
Заключение 363
Использованная литература 366
- Формирование мифологической аллюзивной парадигмы (от Эсхила к Ф. Бэкону)
- Прометеевский миф в романах М.Шелли, Б.Олдисса, Г.Грина
- Интертекстуальность как предмет рефлексии метакритики
- Парадоксы игры в романах Г.Грина
Введение к работе
Настоящее исследование посвящено малоизученным вопросам форм вторичной художественной условности в литературе Великобритании XX века. В центре внимания - проблема моделирования и умопостигаемости действительности, стимулировавшая применение таких выразительных средств, как миф, интертекстуальность, игра, маски, зеркало. Этим обусловлен выбор в качестве объекта изучения произведений Г.Грина, У. Голдинга, Д. Фаулза, Д. Бауэна, Б. Олдисса и некоторых других.
XX век поразительно богат открытиями, как в области художественной литературы, так и в области теоретических исследований, посвященных ей.
Уже к 20-м годам нашего столетия стало очевидным стремление к новизне, постепенно приобретавшее характер манифеста. Идеей, овладевшей умами наиболее значительных писателей, стала, по словам Эзры Паунда, "традиция новизны". Отмечая одержимость современной литературы этой идеей, Малькольм Брэдбери ссылается на симптоматичное замечание Холбрука Джексона: «Слово "новый"1 было везде. Сфера его употребления постепенно расширялась, пока не выкристаллизовалась идея целого периода» [213, 13]. В 1909 году был переведен на английский язык 3. Фрейд, открытия которого коренным образом перевернули прежние представления о человеке. В декабре 1910 года Вирджиния Вулф констатировала, что изменился характер личности. Д. Г. Лоуренс в 1915 году вынес приговор старому миру, объявив, что он завершился. У каждого из них были свои основания для таких выводов.
1 Известно, что первоначально слово 'modern' употреблялось в значении 'современный' и не имело терминологической закрепленности.
Контрапунктом начинавшейся истории современности была Первая мировая война, положившая к-онец предшествующей культурной традиции и изменившая мир и человека, который переживал в душе состояние, отразившееся в ницшеанском тезисе: «Умер богі» Мир, казалось, распадался, и художественное осознание утраты былой упорядоченности исторического бытия определило сквозной мотив многих, вошедших в историю мировой литературы романов, с которыми связывали разрыв с классической традицией прозы XIX века («В поисках утраченного времени» М. Пруста, 1913; «Улисс» Д. Джойса, 1914; «Процесс» Ф. Кафки, 1914; «Миссис Дэллоуэй» В. Вулф, 1925). Эти произведения сравнивали с литературой викторианского периода, констатируя направленность нового романа против реализма прошлого века, к чему подталкивало даже чисто внешнее наблюдение за названиями произведений. Если писатели минувшего столетия стремились закрепить в заглавиях имена главных персонажей или обозначить основное место действия (вспомним романы Диккенса: «Оливер Твист», «Николас Никкльби»; прозу Д. Остен: «Эмма», «Мэнсфилд Парк»; «Мидлмарч», «Мельница на Флоссе» Джордж Элиот; «Барчестерские башни» Э. Троллопа и др.), то в XX веке они становятся метонимическими, обобщая и усиливая многозначность подтекстового смысла произведения («Крылья голубки» и «Женский портрет» Генри Джеймса; «Сила и слава» и «Комедианты» Г. Грина; «Несколько зеленых листьев» Б. Пим; «Маг» и «Мэггот» Д. Фаулза, «Повелитель мух» У. Голдинга...). Этот перечень можно было бы продолжить. Нередко названия романов содержат явный или скрытый литературно-алллюзивныи смысл, в других случаях в их основе лежит мифологический образ, библейская или античная реминисценция («Башня из черного дерева» Д. Фаулза, «Черный принц» А. Мердок, «Иерусалим наш золотой» Д. Лессинг). Название повести Фаулза
Формулируя это наблюдение, мы имеем в виду и-шенякяцуюся тенденцию, а не абсолютный нринцив.
содержит аллюзивный отсыл к Флоберу и его эстетической концепции, «Черный принц» - контаминацию реминисцентного образа Гамлета и платоновской оппозиции Эроса и Танатоса, «Несколько зеленых листьев» Б. Пим воскрешают в памяти читателя лейтмотивный образ поэзии Томаса Гарди, создавая вертикальный подтекст всего романа и кодируя проблему одиночества.
«Улисс» Джойса был воспринят как знамение, или, по замечанию Т. С. Элиота в эссе «"Улисс", порядок и миф», как новый повествовательный метод. Девиз Джойса - сложность. Современная цивилизация таит в себе многообразие и неразгаданность разных аспектов бытия, ставит непростые вопросы. Этому должно соответствовать и усложненное, с точки зрения содержания и литературной техники, произведение. Литература становится более абстрагированной. Чтобы передать представление о новом человеке и изменившемся мире, она должна быть, как отмечала В. Вулф в эссе 1924 года «М-р Беннет и миссис Браун», «дематериализованной» (dematerialised), «сознание» должно стать связующей основой произведения. Роман зачастую проявляет стремление к бессюжетности.
«Кусок жизни» теперь представлен разорванным «потоком сознания», а оно нередко теряет логическую линейную связь, демонстрируя, как это показал ещё Лоренс Стерн в XVIII веке, идиосинкразические извивы, повороты, скачки («Тристрам Шенди»). Многослойное сознание лишается логической последовательности и цельности, демонстрирует фрагментарность. Прежние концепции,
3 Говоря об условных приемах, Р. О. Якобсон назовет их усложняющими читательское восприятие, деформирующими: «чтобы показать вещь, надо деформировать её вчерашний облик», использовать «уплотнение повествования образами, привлеченными по смежности, то есть путь... к метонимии и синекдохе». Цель - «чтобы труднее было отгадать», «тенденция к замедлению узнавания». Он же писал в статье 1921 года «Новейшая русская поэзия»: «Форма существует для нас лишь до тех пор, пока нам трудно её воспринять, пока мы ощущаем сопротивляемость материала...». [198, 391,392, 273].
ориентированные на воспроизведение природы, казалось, утратили силу.
Ортега-и-Гассет со всей определенностью констатировал «дегуманизацию» искусства, Гертруда Стайн и В. Вулф, столь непохожие и далекие друг от друга писательницы, заговорили об освобождении искусства от «материальности» и «истории», русские формалисты заявили об «остранении» или «очуждении». Абстрагированию искусства в предвоенный и межвоенный период (а этот процесс стал проявлять себя не только в модернистских произведениях, но затронул и часть реалистической прозы) способствовал, на наш взгляд, целый ряд причин. Прежде всего, это изменения в самом действительном мире, связанные с событиями катастрофическими, но и отмеченные ускорением исторического и научного прогресса, предельно уплотнившие время, но и породившие представление о его относительности в связи с появлением гениальной теории Эйнштейна.
Попытки осмысления этих изменений нередко приводили к разрыву с устоявшимися концепциями об устройстве мира и бытия как не бесконфликтного, однако в известной мере целостного и цельного. Труды О. Шпенглера, Ф. Ницше, известные работы Ортеги-и-Гассета, теории экзистенциалистов содержали изменившиеся представления о человеке и мире. Они стали непростым материалом для напряженно работавшего художественного сознания и стимулировали развитие жанровой модификации романа-притчи, романа с философской тенденцией. Все большее сомнение вызывала прежняя уверенность в исчерпанности знаний и незыблемости истины. Реальность, представавшая логически и социально-исторически детерминированной в произведениях классиков XIX века, продемонстрировала широкий спектр самых неожиданных исторических, общественно-политическцх, социальных и нравственных коллизий в XX столетии. Поэтому не
случайно исследователи отмечают нарастание интеллектуального начала в современном романе, а вместе с этим и ориентацию его «на ассоциативное мышление, на условность, на деформацию» [61, 75].
Работы 3. Фрейда, К. Г. Юнга, труды физиологов и нейрохирургов XX века изменили представления о человеке, обогатив науку новыми знаниями о многослойной структуре психики, о сфере психического сознательного и бессознательного, о механизме функционирования человеческого мозга.
Психологическая драма души, определявшая содержательные коллизии романа классического, сменяется причудливой биографией сознания в современной прозе и влечет за собой поиски новых изобразительных средств, которые способны были бы передать новации в отношении к изменившемуся соотношению субъективного и объективного в жизни героя. Предметом изучения писателей все больше становится область незримых интеллектуальных и психических сущностей.
Утрачивается и былое представление личности, переживающей «кошмар истории», о господствующем положении в этом нестабильном мире, где под давлением технократических тенденций человек ощущает себя жертвой созданной им цивилизации. Разрушительные войны и революции, потеря стабильных ценностей приводят к тому, что персонаж, лишаясь цельности, перестает быть организующим романное повествование центром. Иррационализм, разорванность и недетерминированность повествования, его бессюжетность все чаще становятся приметами современной прозы, в которой исследователи отмечают нарастание, активизацию и обновление форм художественной условности. Диапазон их велик, обширна и сфера применения. До настоящего времени этим проблемам поэтики современного романа специальных исследований не посвящалось, хотя по тому или иному поводу высказывались некоторые наблюдения в
6 трудах наиболее видных отечественных и зарубежных литературоведов [52, 57, 58, 61, 62, 69, 182, 184, 226, 230, 234]. Актуальность и новизна диссертации заключается в следующем:
Современная теория литературы, располагая некоторыми новыми работами в области теоретической поэтики, вместе с тем не имеет единой концепции форм вторичной художественной условности, разрабатывая их лишь выборочно. В представленной работе, опираясь на труды М.М.Бахтина, Ю.М.Лотмана, А.Ф.Лосева, а также Р.Барта, Г.Г.Гадамера, Х.Блума, Д.Лоджа и некоторых других, предпринимаются попытки обобщения накопленных знаний и создания теоретической основы для подхода и интерпретации таких форм художественной условности, как миф, интертекстуальность, игра.
Анализ принципов поэтики романов современных классиков Великобритании с точки зрения сочетания миметических и условных форм помогает устранить некоторые спорные суждения, или отдельные неадекватные оценки их произведений (романы Г.Грина, У.Голдинга, Д.Фаулза), расширяя представления о диапазоне изобразительных средств.
Особую актуальность приобретает и изучение неомифологического стилевого направления, в рамках которого научный интерес представляют проблемы актуализации мифа, его структурообразующая функция, а также взаимодействие мифа и связанных с ним аллюзий (техника префигураций).
Актуальным является и исследование роли мифа, символа и масци в художественном изображении таких явлений, которые можно отнести к области работы мысли, сознания или сфере глубинной психологии, а также находящихся на границе открытых наукой и еще не познанных явлений.
Насущной проблемой представляется исследование разнообразных и недостаточно изученных форм интертекстуальности: соотношение «своего» и «чужого» слова или прецедентного и вновь созданного текста в романе «историзованнном» или «переписанном».
В этой связи привлекает внимание и проблема межжанрового взаимодействия (эссе и романа, сократического диалога и романа, романа и сказки) в современной прозе Великобритании.
Неисследованными, а потому и актуальными до настоящего времени являются разнообразные формы игрового фактора в поэтике английского романа.
Из вышеизложенного следуют цели и задачи диссертации: изучить своеобразие поэтики современного романа Великобритании, определяемой функционированием форм художественной условности, помогающих изображению нового в литературе XX века объекта -работающего сознания и подсознания личности, а также становящееся действительности. Ее многомерность приводит к тому, что истина утрачивает свою абсолютность, обнаруживая относительность, зависящую от выбранной точки зрения на нее. Это позволит создать теоретический фундамент и методологические основы для изучения специфики английского романа, который демонстрирует тенденцию к усложненности в связи с активизацией форм художественной условности в его поэтике.
Методологию работы характеризует комплексный подход, сочетающий системно-типологический анализ с историко-генетическим, историко-функциональным и текстологическим.
Модернизм, декларировав резкий разрыв с традицией, констатировав необходимость обновления художественных форм, не решил возникавших проблем и не избежал опасностей, связанных с утратой связующих произведение основ: бессюжетность легко оборачивалась
бесформенностью, сложность - потерей смысла, а внимание к мерцающим атомам сознания - бегством от характера.
«Модернистская художественная литература, - пишет видный английский литературовед и писатель Д. Лодж, - экспериментальна или инновационна по форме, представляет собой подчеркнутое отклонение от предшествующих моделей дискурса как литературных, так и нелитературных» [287,45]. Имея дело с сознанием и подсознанием, «бессознательной работой человеческого ума», произведение лишено настоящего начала, «поскольку погружает нас в текущий прток впечатлений, конец же открытый или туманный, оставляющий читателя в сомнениях относительно судьбы персонажей» [287, 45; 239; 288].
Чтобы компенсировать сокращение повествовательной структуры и нарушение ее внутреннего единства, писатели прибегают к «альтернативным», более рельефным методам эстетического упорядочивания, таким, как аллюзия или имитация литературных моделей, мифологических архетипов, и повторам с вариацией мотивов, образов, символов - иными словами, «ритмов», «лейтмотивов» и «пространственных форм» [287, 45].
В 30-е--50-е годы наряду с увлечением условными формами художественной изобразительности действует и противоположное тяготение к жизнеподобным приемам. Малькольм Брэдбери отмечает как характерную тенденцию времени «постоянное колебание между реалистическими и абстрактными импульсами», которое, по его мнению, эстетически доминирует, начиная со времени войны -«периода, который характеризуется реалистическим возрождением 1950-х годов, отмеченным экзистенциалистским влиянием, и наряду с этим в большей степени игровыми и абстрактными экспериментами 1960-х» [212, 38]. Художественная литература свободно выбирала между невымышленным романом (non-fiction) и новым журнализмом и романом как свободной формой, в котором широко используются
разнообразные формы художественной условности. «Накопление новых форм, - замечает В. В. Ивашева, - происходило постепенно в годы после Второй мировой войны (то есть в 50-70-х годах).„ А сегодня - в 80-х - перемены настолько очевидны, что, думается, пора поговорить о них, обобщая их признаки и уточняя сделанные наблюдения» [62, 6].
Наряду с романами, развивающими традицию классического реализма (Р. Олдингтон, Ч. П. Сноу, Д. Лессинг, Д. Уэйн), и тенденцией «викторианского возрождения» (Б. Пим, Б. Бейнбридж) значительное место в литературном процессе, определяя его, занимает проза таких классиков современности, как Г. Грин, У. Голдинг, А. Мердок, Д. Фаулз, П. Акройд. В произведениях этих писателей можно встретить самые разнообразные формы условной художественной изобразительности, роль и функции которых зачастую оказываются в их поэтике определяющими. К 90-м годам тяготение к использованию новых форм усиливается, о чем убедительно свидетельствуют и последние книги У. Голдинга, Д. Фаулза, и произведения более молодых прозаиков - А. С. Байетт, Дж. Уинтерсон.
Эксперименты модернизма не остались незамеченными современными романистами. Новые приемы иначе функционировали в рамках другой художественной системы, которая, опираясь на достижения классического романа XVIII-XIX веков, осваивает и ранее разработанные, и открытые в литературе XX века формы художественной условности. Сам процесс развития как модернистского, так и современного реалистического романа выдвинул в центр исследовательского интереса и внимания проблему художественной условности. Сегодня нет, пожалуй, серьёзного литературоведа, который в той или иной связи не затрагивал бы её [58; 59; 51; 61; 62; 182].
Д.Затонский, исследуя в своей книге «Искусство романа и XX век» «специфически новую» его часть, характерную для литературы XX века, предлагает называть такой роман центростремительным, замечая, что «формы романа, казавшиеся чуть ли не аксиоматическими, нередко сменяются структурами менее бесспорными и привычными <.„ >, условными (курсив наш. - Н. В.), гротескными, метафоричными» [58, 4]. В пример приводятся произведения Т. Манна, Р. Музиля, У. Фолкнера, М. Фриша, У. Голдинга.
Констатация этих изменений вызывает вопрос, в том или ином варианте возникающий на всем протяжении послевоенной истории развития прозы: могут ли они «сами по себе стать доводом в пользу пережиточности реализма, кончины романа или засилья в нем декаданса?» [58, 4]. Эстетически «сомнительна», с точки зрения Д. Затонского, «по сути лишь несхожесть с общепризнанными образцами реализма прошлого века» [58, 4]. Но не менее несхожа и современная действительность, так изменившаяся со времен Наполеоновской империи.
Реакция критиков и литературоведов на проблему романа условных форм была бурной. Заговорили об исчерпанности реализма, «смерти» жанра романа, о его принадлежности к декадансу, модернизму или постмодернизму. Однако проза продолжала идти по этому пути и делать значительные художественные открытия, связанные с использованием разновидностей условного типа художественного обобщения. В монографии «Зеркала искусства» Д. Затонский отмечает «искусственное нарушение правды характера, условность в мотивировке поведения героя», обращаясь к романам «Волшебная гора» (условным представляется исследователю образ Ганса Касторпа) и «Доктор Фаустус» (не вполне «жизненно правдоподобно финальное разоблачение Адриана Леверкюна») [57, 130]. Нарушение жизнеподобия известный филолог отмечает и в весьма
11 распространенном в современной прозе «притчевом» сюжете, который «не столько выражает, сколько символизирует действительность» [57, 131}. Притчевое начало отмечено в романах Г. Грина «Суть дела», «Наш человек в Гаване», общепризнано оно в книгах У. Голдинга и декларировано самим писателем, называвшем себя сочинителем «притч без вранья» («Повелитель мух», «Наследники»).
Т. Н. Красавченко отмечает сложную «игру» с традицией в этих произведениях У. Голдинга, первое из которых строится по модели «антиробинзонады» и приключенческого романа Р. М. Балантайна, во втором же исследователи усматривают перевернутую ситуацию «Краткой истории мира» Г. Уэллса [82].
Д. Фаулз «деконструирует условность так же, как деконструирует условности читательского восприятия» [82, I40J, давая три варианта концовки романа «Женщина французского лейтенанта» и применяя различные приемы авторской персонификации.
Реализм все чаще прибегает к условным средствам, имея дело с нематериальными сущностями, фантомами человеческого сознания, огромным миром духовной культуры, изображенным как факт воспринимающего сознания. Современный роман все интенсивнее обращается к художественной литературе прошлого, используя её для воспроизведения явлений современности наряду с непосредственным жизненным опытом в качестве материала для произведения. В этой связи особую роль играет миф как форма художественной условности и шире - диалектика взаимодействия в поэтике романа «своего» и «чужого» слова, то есть категория интертекстуальности, функции которой в современной прозе и новы, и традиционны.
Миф и мифологические, шире - литературные - аллюзии, игра и игровое начало, маска и масковая образность, пройдя к XX веку значительный историко-литературный путь и видоизменив св,ою природу, создают большое разнообразие стилевых моделей в рамках
условного типа художественного обобщения. Выступая в прошлом, как формы первичной художественной условности, соотносимой с генетически присущими искусству свойствами, они могут приобретать в современной литературе признаки вторичности.
Традиционно жизнеподобие и условность провозглашались как «плодотворно взаимодействующие тенденции художественной образности», - замечает В. Дмитриев, метафорически описывая их как «два крыла, на которые опирается творческая фантазия в неутомимой жажде доискаться до правды жизни» [50, 277].
На заре существования искусства, по справедливому замечанию В. Е. Хализева, «преобладали формы изображения, которые ныне воспринимаются как условные» [175, 18]. К таковым принято относить формы гиперболической, гротесковой образности. Арсенал условных приемов постепенно пополнялся, и особенно активизировался этот процесс в ХІХ-ХХ-м веках, когда наряду с традиционными гиперболой и гротеском в поэтике произведений стали нередкими «и всякого рода фантастические допущения («Холстомер» Л. Толстого, «Паломничество в страну Востока» Г. Гессе), демонстративная схематизация изображаемого (пьесы Б. Брехта), обнажение приема ("Евгений Онегин"), эффекты монтажной композиции (немотивированные перемещения места и времени действия, резкие хронологические разрывы» и тому подобное)» [175, 19].
Нарастание приемов художественной условности в прозе,
декларирующей художественное постижение правды жизни, делает,
порой, стертыми границы, разделяющие модернистские и
реалистические произведения. Недостаточная понятийная
разработанность художественной условности, ее многообразных форм и функций в современной прозе приводит иногда к парадоксальным оценкам. Так, известный англист, автор целого ряда монографий В. В. Ивашева, проницательно отметившая появление новых форм,
характеризующих послевоенную английскую литературу, и справедливо поставившая вопрос о переоценке ценностей «внутри реалистической прозы» [62, 18], с сочувствием пишет о попыткам Е. Гениевой «прочесть» «Улисса» Д. Джойса как сатирический реалистический роман и говорить в аспекте реалистического искусства о «Дублинцах», в то же время категорично заявляя, что У. Голдинг «к реализму... отношения не имел» [62: 9, 62], несмотря на четко сформулированное стремление писателя к созданию «притч без вранья».
Еще более непростой представляется ситуация с Д. Фаулзом, произведения которого, отмеченные новациями в области художественных форм, оценивались критикой и как модернистские, и как постмодернистские, и как реалистические ил» свидетельствующие о «взаимовлиянии и взаимодействии модернистских и реалистических эстетических норм» [62, 136]. Причина, на наш взгляд, в недостаточной изученности понятия художественной условности и существования в современной прозе значительного числа произведений с изменившейся по сравнению с классическим реалистическим романом тенденцией художественной образности.
Чаще всего о ней вели речь в связи с жанровыми формами притчи, басни, литературной сказки, научной фантастики как разных способов иносказания или в связи с исследованием типов открытой условной образности, таких, как гротеск или гротескная метафоричность и тяготеющая к ним гипербола, символ, аллегория.
Практика литературного процесса показывает, что в ряде случаев формы художественной условности как явление содержательной формы оказываются не связанными с определенным творческим методом или направлением, проникая в самые разнообразные художественные системы.
Наиболее острые споры возникали при попытках определить демаркационную линию, разделяющую модернистскую и реалистическую условность. Сегодня признано, что и «реализм деформации не исключает» несмотря на то, что это означает «отход от реальной видимости вещей» [61,75]. Крайности в суждениях приводят к искажениям по любую сторону невидимых границ, будь то абсолютизация приема, характерная для любой из модернистских модификаций или же попытки отстаивать безусловную жизнеподобность повествования как единственного и универсального условия реализма, приводящие к «странной идее, что отход от "реальной формы" уже непременно означает модернистскую творческую ориентацию» [61, 76]. Модернизм по своей философской сущности - это отрицание «идеи художественной истины как адекватности реальному опыту», который трактуется негативно [61, 81]. Современный мир ему представляется мертвым, а кризисные явления универсализуются. Разновидности художественной условности могут быть обнаружены в разнообразных художественных системах. Но и роль они выполняют несходную, входя в поэтику реалистического или модернистского, постмодернистского художественного произведения.
Реализм может подавать явление «в форме, непосредстверно присущей ему в жизни; он может подавать его и абстрагированно, отвлеченно, даже откровенно условно. Но и в этом последнем случае сохраняется тесная связь между изображением и изображаемым, причем связь диалектическая, а не случайная, поверхностная или формально-логическая» [57, 137].
В. Е. Хализев выделяет две тенденции художественной образности, «которые обозначаются терминами "условность" (акцентирование автором нетождественности, а то и противоположности между изображаемым и формами реальности) и "жизнеподобие"
(нивелирование подобных различий, создание иллюзии (курсив наш, -Н. В.) тождества искусства и жизни)» [174, 56] .
Что же представляет собой художественная условность? Согласно определению О. В. Шапошниковой, это «многоплановое и многозначное понятие, принцип художественной изобразительности, в целом обозначающий нетождественность художественного образа объекту воспроизведения» [185, 458]. В современной науке о литературе разграничивают условность первичную, неосознанную (А. Михайлова) [ПО, 182], или «безусловную» (С. Батракову) соответственно - вторичную, сознательную (А. Михайлова), акцентированную (О. В. Шапошникова [185]). Предприняты пока сравнительно немногочисленные попытки их дефиниций. Л. Гинзбург делит поэтические представления на жизнеподобные, то есть соответствующие «представлениям, возникающим из эмпирического опыта людей той или иной социально-исторической формации» и «дифференциальные, когда литература сознательно (курсив наш т Н. В.) нарушает эти подобия в каких-либо своих целях». Дифференциальное, по терминологии Л. Гинзбург, «искони принимало форму комического, гротескового» и, говоря более обобщеннр, «строило мир идеального», исходившего «не из эмпирии, но из модели должного» [36, 12]. Первичную и вторичную условность принято дифференцировать в зависимости от степени правдоподобия (или жизнеподобия) образов, осознанности, обнаженности приема и специфики используемого в искусстве материала. Как ни парадоксально, но «сама проблема условности возникла только после того, как искусство научилось создавать иллюзию достоверности» [110, 180]. Однако в литературе прошлого, в периоды стабилизации эстетических отношений, первичная условность была тесно связана с
4 Само слово иллюзия указывает на «безусловную», или первичную, условность как генетически присущее искусству свойство.
16 нормативностью, традиционностью художественных форм в искусстве. В XX веке художественная условность - синоним резкого слома традиций, разрыва с ними.
Уже на ранних этапах развития литературы и искусства доминировали формы, которые мы сегодня, не задумываясь, отнесли бы к условным и бытовавшим в таких высоких жанрах, как эпопея и трагедия [174, 56-7]. Однако в искусстве, как замечает Э.Ауэрбах, изначально присутствуют и жизнеподобные образы, которые можно обнаружить и в Библии, и в классических эпопеях древности [10, 23-44]. Более того, если «в свою эпоху» нормативность художественных средств (например, знаменитые классические три единства) считается необходимой и правдоподобной, то осмысленные с позиций другой эпохи, они воспринимаются как очевидная условность, изжившая себя традиционность, трафарет, штамп.
Попытки дифференциации условности и жизнеподобия предпринимались неоднократно. Их можно увидеть в статье Гете «О правде и правдоподобии в искусстве», подступы к ней намечаются и в разграничении С. Т. Кольриджем воображения на первичное и вторичное в труде «Литературная биография» (1817, глава XIII). О «совершенно особой правде», притчи размышлял и А. де Виньи в предисловии к роману «Сен-Map» - «Размышление о правде в искусстве» (1826; 1829), где он пишет о «всецело идеальной, всецело мысленной правде», которой он «хотел бы найти определение, решаясь отличить ее здесь от жизненной правды» [27, 422].
Чем ближе к рубежу ХІХ-ХХ вв., тем острее ставится вопрос о жизнеподобии и условности в теоретических размышлениях о литературе и искусстве. И здесь вступают в оппозиционные отношения две разнонаправленные тенденции: одни, канонизируя миметические, жизнеподобные формы (особенно это характерно для отечественных теоретиков 30-50-х годов XX века), условность отождествляют с
формализмом, модернизмом, фальшью в искусстве; для других условные формы становятся синонимом новизны, и их удельный вес и значение абсолютизируется.
Вторичная условность нередко возникает в результате трансформации первичной. Непременное условие такого перерождения - использование «открытых приемов обнаружения художественной иллюзии» [185, 458}. «Вторичная условность, или условность в современном понимании, - демонстративное и сознательное нарушение правдоподобия в стиле произведения», - пишет О. В. Шапошникова, считая вторичную условность стилевой чертой. А. Михайлова именует ее способом художественного обобщения, связывая со спецификой структуры художественного образа. Это может быть и одна из форм художественной изобразительности (условный сюжетный прием, маска, «игра», зеркало). В связи с этим упоминается и условная среда, условное движение, «способ допытаться тайны бытия», придать философичность произведению. Многоообразие вариаций художественной условности позволяет их сгруппировать в «иносказательные формы, постигающие и объясняющие один предмет посредством изображения другого предмета, одну сумму фактов через другую сумму фактов» [110, 204]. Это характерно для жанра притчи, аллегории, использования символа, «игры» автора с читателем.
Наиболее характерный пример перерастания первичной условности во вторичную демонстрирует миф и преломление мифологической образности в многообразных функциях в современном романе, а также такое широко распространенное явление, как интертекстуальность. Вторичная условность может выступать и как одна из форм художественного обобщения и художественной изобразительности.
Таким образом, говоря о вторичной, или акцентированной условности, чаще всего имеют в виду отход от жизнеподобного принципа изображения персонажа и действительности, тогда как
первичная условность подразумевает ее как генетическое свойство искусства в целом [НО, 25-6; 184: 160, 230]. Особенно активно проблему акцентированной условности стали изучать в 1920-30 годах русские формалисты. Обратились к ней и ученые Пражской лингвистической школы, сформулировав ее как «литературность» литературы. В 1921 году в работе «Новейшая русская поэзия», опубликованной в Праге, Р. О. Якобсон писал: «...предметом науки о литературе является не литература, а литературность, то есть то, что делает данное произведение литературным произведением» [198, 275]. Он сетовал на то, что до сих пор литературоведение не воспринимается как самодостаточная наука о литературе, а подменяется конгломератом внелитературных дисциплин, однако, если она «хочет стать наукой, она принуждается признать «прием» своим единственным "героем"» [294, 275].
Вопрос свелся к выяснению того, что же делает «текст» литературным. С точки зрения формалистов, это прием.
По существу же речь идет о художественной условности как генетическом свойстве литературы и искусства, в самой приррде которых заложено стремление к образному воспроизведению явлений реальной действительности, что и отличает текст художественный от нехудожественного.
Проблема литературности литературы современными учеными ставится и в иной плоскости. Д. С. Лихачев отмечает как важнейшую линию развития литературы «нарастание художественной достоверности за счет достоверности прямой» [90, 7]. В узком значении слова под «литературностью литературы» ученый подразумевает «различные формы отражения в литературе предшествующей литературы», отмечая «линию постепенного усиления в литературе ее "ассоциативной литературности"» [90, 179]. В данном случае речь идет
о многообразных явлениях интертекстуальности, то есть использовании
в создаваемом произведении предшествующих текстов. Тот же вопрос вновь привлек внимание критиков-структуралистов в 60-70-е годы. В
орбиту размышлений попали извечные вопросы: что есть литература и что такое реализм. Ян Мукаржовский замечает, что подобные аспекты не имеют отношения ни к проблеме правдивости или содержания поэзии, ни к эстетической ценности произведения, а соотносятся лишь со сферой документальной ценности [294, vii-viii). Цветан Тоддров возражает, считая ошибочной дихотомию литература-не-литература. Эти проблемы, включая и феноменологические аспекты, так или иначе ставились и дебатировались во многих работах современных критиков-структуралистов [227, 303, 278, 272]. Сопоставляя различные дефиниции, можно прийти к выводу, что «литература» становится открытым понятием, наполняясь все более разнообразным смыслом в зависимости от принадлежности автора к той или иной критической школе. Правомернее, на наш взгляд, использовать категорию художественности литературы, выделяя жизнеподобие и условность как две тенденции художественной образности, и вести речь об интерпретации, приемах, поэтике литературного произведения, подходя к нему как к художественному целому. Условность мы рассматриваем как явление содержательной формы, не имеющее жесткой укорененности в том или ином литературном методе или направлении.
М. М. Бахтин связывает условную манеру автора с «чисто техническими узкоформальными моментами рассказа, композиции произведения», которое «выходит сделанным, а не созданным» (курсив наш. - Н. В.). В приведенном высказывании ученый дифференцирует первичную и вторичную условность, замечая, что при этом «стиль как совокупность убедительных и могучих приемов вырождается в условную манеру» [15, 19]. Выделяет он и случаи отсутствия «единого лика автора», который характеризуется каїс«условная личина», а также
приводит примеры неслиянности «внешней выраженности героя» «с его внутренней познавательно-этической позицией», причем «эта первая облегает его как не единственная и несущественная маска...» [15, 19]. В приведенных высказываниях ощущается негативный оттенок, вполне объяснимый полемической настроенностью автора к формализму, что не перечеркивает их значений по существу сделанных М. М. Бахтиным наблюдений.
Ю. М. Лотман отмечает «связь феномена искусства с удвоением реальности» [99, 73], то есть имеет в виду условность как генетическое свойство искусства. Функционирование форм художественной условности он связывает со знаковой его природой. «Возможность удвоения, - пишет известный филолог, - является онтологической предпосылкой превращения мира предметов в мир знаков: отраженный образ вещи вырван из естественных для нее практических связей (пространственных, контекстных, целевых и прочих) и поэтому легко может быть включен в моделирующие связи человеческого сознания» [99, 74]. Если первичная условность связывается с воспроизведением действительности как ее образным отражением, то вторичной условности чаще всего свойствен механизм удвоения или двойного удвоения (то, что Ю. М. Лотман называет удвоением удвоения, когда «явственно выступает неадекватность объекта и его отражения» [99, 75] и «на участке вторичного удвоения происходит резкое повышение меры условности <... >» [99, 76]).
Современный зарубежный роман все чаще прибегает к разнообразным приемам такого удвоения: мифологическая и современная реальность в романе Д. Джойса «Улисс», Д. Апдайка «Кентавр», Д. Бауэна «Затерянный мир»; совмещение и многочисленные вариации взаимопереходов театрального, игрового пространства и действительности («Театр» С. Моэма, «Комедианты» Г.
Грина, «Маг» и «Мэггот» Д. Фаулза); многообразные формы «романа в романе» или так называемого «переписанного», пересозданного романа известного автора-предшественника (Д. Лодж «Хорошая работа» или роман о Франкенштейне Д. Олдисса), а также использование «чужого слова» или явление, которое Д. С. Лихачев назвал «ассоциативной литературностью», отметив линию её постепенного усиления [90, Т79]. Согласно более распространенной терминологии это многообразные формы интертекстуальности наряду с аллюзиями, реминисценциями, цитатами и другими. Характерными приемами многократных удвоений являются и «обыгрывание» нескольких вариантов концовок романа (например, варианты моделирования возможных «развязок» основной коллизии в романе Д. Фаулза «Женщина французского лейтенанта» или наличие по меньшей мере пятикратных послесловий в романе «Черный принц» А. Мердок), и использование приемов «маски», «зеркала», «игры».
Ю. М. Лотман особо выделяет случаи применения фирм художественной условности, когда текст строится на игре между реальным и ирреальным пространством, или распространенные примеры, «когда объект изображения кодируется сначала театральным, а затем уже поэтическим (лирическим), историческим или живописным кодом» [99, 79]. Предшествует последнему «предварительное осознание жизни как театра» [99, 82J. Еще в эпоху классицизма возникает своеобразный «театр повседневного поведения» с характерными для той и последующих (включая XX век) эпох «стабильных наборов амплуа». В современном романе используется понятие поведенческой маски как оппозиция спрятанной глубоко в тайники личности сути человека [58, 230-85].
Объектом писательского изучения и воспроизведения становится и сам процесс постижения и поисков способа изображения действительности в произведении («Портрет художника в юности» Д.
Джойса, «Дэниел Мартин», «Женщина французского лейтенанта» и «Башня из черного дерева» Д. Фаулза, «Конец одной любовной связи» Г. Грина, «Черный принц» А. Мердок).
века» (Новгород, 1998 г.) и в ряде научных статей и публикаций, появившихся в научных сборниках и коллективных трудах. Ввиду стертости границ между творческими методами и литературными направлениями и наличия в современном романе большого разнообразия «пограничных» явлений, задача их строгого разграничения не ставится в качестве специального предмета исследования. Для нас представляют интерес произведения, в поэтике которых вышеназванные условные формы оказываются определяющими, придавая оригинальность и новизну художественному целому. Обращаясь к мифу с точки зрения исторической поэтики, автор диссертации не ставит задачу системного и исчерпывающего для каждого историко-литературного периода изучения той или иной его функции. Динамичность и изменчивость семантики мифа и мифологического образа прослеживается на примере мифа о Прометее, многократно интерпретировавшегося и обновлявшегося, начиная с античности и до наших дней. Выбор этот не случаен. «Ибо в этом мифе, - по справедливому суждению Г. -Г. Гадамера, - с ранних времен западное человечество несомненно истолковывало само себя в своем культурном самоосознании. Он как бы миф европейской судьбы» [30, 243].
Исследовательский интерес сосредоточен на появлении тех своеобразных черт и художественных возможностей, которые, с нашей точки зрения, помогали представить то новое и характерное, что отличает использование форм художественной условности в современной прозе. Специальное внимание в диссертации уделяется зрелому творчеству классиков современной английской литературы: Г.Грина, У.Голдинга, Д.Фаулза.
Научно-практическая ценность данного исследования определяется следующими моментами. Во-первых, общие положения и конкретные наблюдения, содержащиеся в диссертации, могут существенно изменить представления о поэтике современного романа Великобритании. Во-вторых, они могут быть использованы при разработке вопросов развития и эволюции английского литературного процесса XX столетия. В-третьих, выдвинутые в работе проблемы и решение их могут найти применение при чтении основных и специальных курсов по истории зарубежной литературы XX века.
Основные положения диссертации апробированы в монографии «Формы художественной условности в литературе Великобритании ^Х Концептуальные моменты диссертации докладывались на международных конференциях ученых-англистов в Перми (1995) и Вятке (1996), в Поморском Международном гос. университете в Архангельске (1995), в МГУ (1995 и 1997), в педагогическом гос. университете в Орехово-Зуево (1995), а также на межвузовских научных конференциях в Санкт-Петербурге (Герценовские чтения, 1996), Иваново (ИвГУ, 1995), Ставрополе (1995) и Твери (Тверской гос. университет, 1996), на научных конференциях профессорско-преподавательского состава НовГУ по итогам научно-исследовательской работы (Новгород, 1994-98).
ЧАСТЬ I.
МИФ КАК ФОРМА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ УСЛОВНОСТИ
(ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ).
Формирование мифологической аллюзивной парадигмы (от Эсхила к Ф. Бэкону)
Герман Брох назвал XX столетие мифологическим веком. Справедливость этого наименования подтверждается и широким проникновением мифологических реминисценций в ткань современного западного романа, и созданием новых мифологических квазижанровых форм, и рождением своеобразного стилевого течения, получившего распространение в литературе XX века и определяемого как мифологическое.
Плодотворное взаимодействие мифа и литературы породило некий феномен, вызвавший ряд проблем, начиная с дефиниции терминов: миф, мифологический и кончая выяснением вопросов, почему миф и современный роман оказались так необходимы друг другу в наш космический век, какова функция мифа в структуре современного повествования и как художественно переосмысляются не только сам мифологический материал, но и принципы создания мифологического образа или организации мифологического повествования. Ответы на многие из этих и ряда подобных им вопросов таит в себе историческая поэтика, которая позволяет изучить художественное явление как движущееся, становящееся явление и благодаря этому понять закономерность и специфику столь активного обращения современной литературы к мифу.
Миф и словесное искусство, миф и художественное творчество связаны генетически, ибо миф представляет первооснову духовной культуры человечества. В древние времена мифология являлась ранней и основной формой осознания мира, единственной и обобщенной моделью бытия человека и социума, поэтому она обладала универсализмом и идеологическим синкретизмом.
В силу специфики своего генезиса миф был не только формой мышления, общественного сознания, но и своеобразной повествовательной моделью, изначальной формой художественной словесности, кладезем поэтической фантазии.
Это свойство мифа явилось основанием для некоторых исследователей считать его «жанром искусства», в частности эпическим, как об этом писали А. Нуйкин и Л. Софронова [117; 137]. М. И. Стеблин-Каменский, Е. М. Мелетинский, Д. В. Затонский [Г40; 106; 107; 58] и другие авторитетные исследователи не видят оснований для выделения мифа в особый жанр искусства и литературы. «Миф -это не жанр, не определенная форма, а содержание, как бы независимое от формы, в которой оно выражено», - замечает М. И. Стеблин-Каменский. Его вывод категоричен: исконную форму мифа установить невозможно. Сущность мифа как своеобразного творчества ученый видит в неразграниченности фантазии и реальности, нечеткости границы между субъектом и объектом. Миф он именует «повествованием, которое принималось за правду, каким бы неправдоподобным оно ни было» [140, 82]. Н. Г. Медведева также не видит «оснований выделять миф в качестве особого жанра искусства» [105, 60]. В мифотворчестве, с точки зрения Е. М. Мелетинского, содержится «лишь бессознательно-поэтическое начало и потому применительно к мифу нельзя говорить о собственно-художественцых приемах, средствах выразительности, стиле и тому подобных объектах поэтики» [Т06, 7].
Стиле - и жанрообразующую роль он сыграет в дальнейшей истории литературы в силу того, что античная мифология, являясь способом первоначального мышления, создавала «как бы единый рассказ человеческого духа - общее лоно всех последующих более развитых и отвлеченных духовных форм», и, следовательно, «миф - это царство фабулы, передающей известную ситуацию, и форма изложения здесь менее важна, чем в художественной литературе» [89, 70].
Универсализм, характеризующий мифологическое мышление, заложенная в нем бессознательная художественность таили в себе плодотворную перспективу дальнейшей реализации творческого потенциала мифа в системе разнообразных видов познавательной деятельности человека, в сфере искусства и художественной литературы.
Мифология, таким образом, была не только формой мышления, общественного сознания, но и особым способом первоначального образного осознания действительности, изначальной формой фабульного повествования. Особая эмоциональность, поэтичность, присущая мифологическому мышлению, могли стать и стали в процессе последующего исторического развития основой художественного осознания реальности. В этой связи важно подчеркнуть, что «мифам свойственно претворение общих представлений в чувственно-конкретной форме, то есть та самая образность, которая специфична для искусства и которую последнее в известной мере унаследовало от мифологии...» [106, 7].
Прометеевский миф в романах М.Шелли, Б.Олдисса, Г.Грина
Своеобразное преломление мифологические реминисценции нашли в художественной системе романтизма. Именно здесь можно обнаружить истоки современного неомифологизма.
Миф не случайно был так любим романтиками. Романтизм понимает мир как онтологическое целое, отсюда и представление об искусстве как многомерном и многозначном целом. Личность соотнесена с универсумом, мировым сверхличным Я, а микрокосм - с макрокосмом. Универсальность мифа сопрягалась с онтологическими представлениями о мире, а романтической космичности как нельзя более соответствовала мифологическая архетипичность.
В связи с обращением романтической литературы к мифу и мифологическим реминисценциям необходимо отметить два существенных момента, которые определяют новизну и своеобразие этого интереса. Во-первых, использование мифа и связанных с ним аллюзий расширяет палитру изобразительных средств, дефицит которых так остро ощущается писателями, в связи с чем они смело вводят формы художественной условности. И, во-вторых, к XIX веку складывается литературная традиция использования мифологического материала. Она приобретает не только устойчивые черты инварианта, но и актуальную деривацию в контексте национальной культуры и сложившейся в той или иной литературе традиции истолкования мифа и мифологического образа. Подтверждает это трансформадия образа Прометея в разнонациональных литературах.
«Легко заметить, что изображение Прометея способно вместить широкий спектр интерпретаций; он может быть творцом, спасителем, предсказателем, похитителем, падшим ангелом, бунтарем и так далее», - пишет исследователь классической мифологии в искусстве Филипп Маерсон [293, 45]. Разнообразие и новизну интерпретаций этого образа и связанной с ним коллизии дает и английская литература.
В тесном временном промежутке между стихотворением Байрона (1816) и лирической драмой П. Б. Шелли (1820) появляется роман Мэри Шелли (первая публикация 1818 года). В предисловии 1831 года автор выросшей из повести книги «Франкенштейн, или Современный Прометей» пишет, используя сервантесовскую аллюзию: «Все имеет начало, говоря словами Санчо; но это начало, в свою очередь, к чему-то восходит. ... Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы и в умении сформулировать вызванные ею мысли» [186,233].11
Что же стоит у «начала» произведения? «Текст этого знаменитого состязания в готике ... подчеркивает, сколь многим она обязана возвышенным прометеевским образам Байрона и Шелли», - отмечает Стивен Коннор [225, 173]. Отразил он и бурные обсуждения философских вопросов, в числе которых секрет зарождения жизни и возможность когда-нибудь его открыть и воспроизвести, навеянных опытами доктора Эразма Дарвина, достижениями английской науки в области химии и естествознания.
Роман вырастает на структурной основе переосмысленного мифа о Современном Прометее. Миф не получает в произведении фабульного развертывания, как это можно было видеть у Ф. Бэкона. Он редуцирован до определяющего его смыслового ядра - мотива творения, осмысленного с точки зрения этической, философской и естественнонаучной.
Книга посвящена жизненной истории и судьбе молодого ученрго Виктора Франкенштейна и строится по модели романа-биографии, включающего в свою жанровую структуру элементы воспитательного романа. В этой связи автор выбирает форму повествования от первого лица, которая позволяет углубить психологическую мотивированность рассказа, усилив одновременно впечатление достоверности того, о чем поведали сменяющие друг друга повествователи (вначале это Роберт Уолтон, описывающий свою неожиданную встречу с «демоном» и Виктором Франкенштейном в «краях туманов и снегов» в четырех письмах, адресованных сестре - м-с Севилл; затем рассказывает страшную повесть своей жизни и научных открытий, имевших трагические последствия, Виктор Франкенштейн, а Роберт Уолтон каждый вечер записывает услышанное в дневнике, «стараясь как можно точнее придерживаться его слов» [186, 249]. После смерти Виктора он продолжает и завершает эту историю, рассказывая о последней встрече с гомункулусом. Есть в романе и повествовательные фрагменты, которые даются от имени «демона», как называет его Виктрр.
Интертекстуальность как предмет рефлексии метакритики
Интертекстуальность - явление, имеющее свой генезис и св,ои истоки в литературе и литературной критике, свою длительную историю развития, в процессе которой менялось как оно само, так и представление о его содержании.
Вместе с тем это явление и новое, если иметь в виду его терминологическое определение и сам процесс его теоретического осознания во всей сложности и неоднородности. До настоящего времени оно до конца не изучено, несмотря на то, что накоплен значительный опыт исследования. В научном обращении находится большое разнообразие концепций, подходов и дефиниций.
Предметом специального теоретического внимания «чужое слово» (М. М. Бахтин) или «образ литературы в литературе» (В. Е. Хализев) стало сравнительно недавно. Отсюда и неоднородность терминологии и множественность толкований.
Современные филологи единодушны в признании того, что термин интертекстуальность был изобретен и введен в научный оборот Юлией Кристевой в Т967 году в связи с осмыслением концепции диалогизма М. М. Бахтина, изложенной в его работе 1924 года «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» [14, 6-70J. В основе размышлений Ю. Кристевой -теоретическая посылка о стирании границ текста, который не содержит отныне внутреннего единства и, представляя собой соединение фрагментов, становится производным общества или общественной истории. Интертекстуальность, с точки зрения французской исследовательницы, является зоной пересечения гетерогенной массы текстов и предметом семиотических поисков, в процессе которых конструируется человеческая индивидуальность.
Автономный текст способен «прочитывать» историю. В работах Ю. Кристевой интертекстуальность связывается с интеракцией, действием познающего ее субъекта, выбором способа «прочтения» текстом истории и вписывания в нее. Здесь видится исток дальнейших изысков структуралистских теоретиков.
В самом общем значении термин интертекстуальность подразумевает наличие межтекстовых связей. В этом смысле первые примеры можно обнаружить в античной литературе. Гораций, имя которого стоит у истоков европейской поэзии и ассоциируется с серией последующих «Памятников», «полагал свою основную заслугу в том, что он сумел транспонировать греческие песни на римскую почву...» [55, 18]. Когда называется текстом любое речевое высказывание, а не только письменно зафиксированное, то и греческая драма, сюжет которой вырастает из прамифа, тоже считается одним из древнейших проявлений интертекстуальности, своеобразие которой определяется взаимодействием устной и письменной литератур.
В этой связи дебатировался и вопрос о так называемых «бродячих» сюжетах, изучением которых плодотворно занималась сравнительно-историческая школа литературоведения. История художественного взаимообогащения человечества возводилась к опыту исследования кочующих сюжетов эпоса и сказок. А. Н. Веселовский замечал: «...поэт связан материалом, доставшимся ему по наследству от предшествующей поры; его точка отправления уже дана тем, что сделано до него» [118, 29-30]. Однако если критерием интертекстуальности считать сознательность апелляции к «чужому» слову, то попытки обращения к «бродячим» сюжетам как к истокам «образа литературы в литературе» вряд ли можно считать обоснованными.
Высказывалось и другое, существенное, на наш взгляд, возражение, логически связанное с вышеприведенным. Ранние формы словесности выражают коллективное сознание. Бродячие сюжеты эпоса и сказок принципиально не диалогичны, а, следовательно, «не ведут к см ене субъектов речи» [9, 16].
В античной литературе мы встречаем и первые примеры использования «чужого» слова как чуждого в целях пародирования и полемики (Аристофан «Батрахомиомахия», «Лягушки»).
Опыт изучения особенностей бытования устной литературы не прошел бесследно. Милман Пэрри, обобщая его, выдвинул гипотезу, согласно которой новый текст вбирает в себя не только отдельные элементы другого текста или единичные тексты, но элементы литературы в целом или отдельного ее жанра.
В дальнейшем эта концепция была распространена и на письменную литературу и здесь речь шла уже об определенном стиле, традиции, приеме [298]. M. Пэрри, как и Р. А. Брауэр [216: 191-2], не делали существенного различия между сознательной имитацией формы и содержания и фактами неосознанного писателем влияния на свое творчество, так называемого стихийного воспроизведения идей, идеалов и форм, которые присущи эпохе в целом. В этих суждениях слышатся отголоски давних рефлексий о литературе, характерных еще для поры возникновения национальных поэтик в Европе. Если рассматривать этот вопрос в общем плане, с точки зрения исторической поэтики, то неизбежен вывод о том, что внимание теоретиков фокусировалось на постановке и последовательном изучении проблемы традиции и ее усвоения. Она рассматривалась как применительно к отдельным произведениям или литературным направлениям, стилям, так и к целым складывающимся национальным литературам.
Парадоксы игры в романах Г.Грина
Поведение человека в социуме нередко идентифицируется с актерской игрой. Такое осознание мира как театра можно наблюдать уже в эпоху Возрождения, и из сферы драматургии, где понятие игры -сущностный признак, оно постепенно переходит в сферу романа. Вспомним шекспировское: «Весь мир - театр, в нем женщины, мужчины - все актеры» («Как вам это понравится»).
Эта линия получила развитие в пикарескном романе и связывается со стремлением авантюрно-героической личности испытать Фортуну, изведать безграничные возможности индивида. Игра с вероятностью, азарт, представления об изменчивости счастья и судьбы диктуют выбор ролей персонажа, что влечет за собой преобразование личности, а, следовательно, и ролевую инверсию. Обратимся к «Истории жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» (1743) Филдинга. «Плутовские страсти», ошеломляющая самоуверенность, игра с Фортуной влекут за собой двойничество персонажа и смену масок: он закоренелый злодей, выдающий себя за респектабельного человека. Филдинг сопоставляет и характеризует своих персонажей по их изощренности в искусстве плутовства. Например, граф Ла Рюз играл в карты «всегда наверняка», то есть мошенничал, а такого типа персонажи, как граф и Уайльд «смотрят на трюки в жизни, как актер на театральные трюки» [166, 127]. Посему «наш герой», как называет Уайльда автор, «в совершенстве владел собой или, вернее, мускулами своего лица, - условие, столь же необходимое для формирования великого характера, как и для его воплощения на сцене...» [166, 166]. Граница между жизнью и театром прозрачна, подвижна, проницаема, жизненные драмы сродни сценическим, посему и персонажи романа овладевают, доводя до совершенства, искусством лицедейства.
Джонатан Уайльд «умел играть на страстях людей», - пишет Г. Филдинг, - «его оружие - "искусные намеки", "которые толпа называет лицемерием, коварством, обольщением, ложью, предательством", что именуется "великими людьми" "политикой или "политичностью"» [166, 174]. Поведение героев в жизни идентифицируется с актерской игрой.
Соотносимость театра и жизни поддерживается и авторскими рассуждениями об отличиях сцены жизни от сцены Друри-Лейн, сравнениями «высокой драмы» великого плута Джонатана Уайльда с «кукольным спектаклем», а кукольного спектакля с жизнью высшего света. Если читатель «никогда не видел этих кукольных спектаклей» «на большой сцене» - это «значило бы почти совсем отказать ему в знании света...» [166, 220]. Условность светской жизни ассоциируется с условностями театральными: фарсы «почти ежедневно можно наблюдать в каждой деревне нашего королевства» [166, 220].
Сама фабула в одних эпизодах развивается у Филдинга по законам театральной драмы (история м-ра и миссис Хартфри, или поданная в ироническом ключе история Файрблада, которому, как замечает автор, — «впредь предстоит играть довольно видную роль в нашей повести -роль Ахата при нашем Энее, Гефестиона при нашем Александре...» [166, 201}), в других - это фарс или драма, которую разыгрывает беспечная Фортуна, и автор сетует: досадно, когдаг она «проводит развязку спустя рукава», «дает улизнуть тишкож со сцены герою, в первой части драмы совершившему такие замечательные подвиги...» [166, 269]. Однако просветительская убежденность, что нельзя преступать «известную меру злодейства и несправедливости», не принятая во внимание Джонатаном Уайльдом, приводит к иной развязке. Герой пытался «тихо уйти со сцены» (принял большую доз у опия), но оказался бессилен перед этой дамой - Фортуной: «назначила ли она вам умереть на виселице или стать премьер-министром» [166, 272]. «Чертой, какую он (Джонатан Уайльд) наиболее ценил в себе самом и главным образом почитал в других, - как пишет Филдинг, -было лицемерие», без него «в плутовстве далеко не пойдешь» [166, 274].
XVIII век демонстрирует метафорическую убежденность в том, что «жизнь - игра судьбы», и лицемерие, одевавшее на лица «ириличъем стянутые маски», стимулирует лицедейство, у одних по убеждению, у прочих - по принуждению. «Игра судьбы и театр - это близко -замечает В. Харитонов. - И лишь один шат отделяет подмостки сцены от реальной жизни» [176, 15]. «Однако и моральная сторона жизни, - по мнению Г. Грина, - у Филдинга напоминает игру...» [41, 376]. «Тома Джонса» Г. Грин считает «архетипом плутовского романа», замечая, что «Генри Джеймс и Джойс обязаны ему в такой же мере, как и Диккенс» [41, 371].