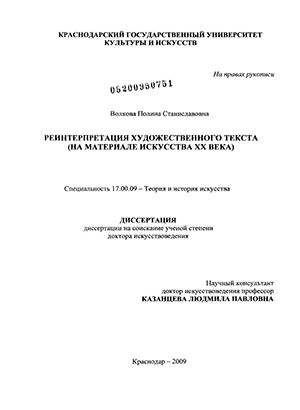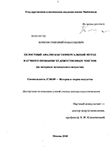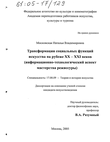Содержание к диссертации
Введение
Глава Первая. Интерпретация и реинтерпретация: общее и особенное 19
1.1. Интерпретация: к истории вопроса 19
а) интерпретация в контексте герменевтики 19
б) интерпретация в контексте эстетики 28
в) интерпретация в контексте искусствознания (музыкознания) 36
1.2. Рентерпретация: к истории вопроса 54
а) реинтерпретация в контексте филологии (лингвистики и литературоведения) и философии 54
б) реинтерпретация в контексте кинематографа 65
в) реинтерпретация в контексте искусствознания (музыкознания) 82
1.3. Реинтерпретация как социокультурный феномен 98
Краткие выводы по Первой главе 112
Глава Вторая. Риторика художественного текста 114
2.1. Художественный текст как объект искусствоведческой рефлексии 114
а) вербальный художественный текст 114
б) невербальный (изобразительный и музыкальный) художественный текст ... 123
в) синтетический художественный текст 145
2.2. Риторическая программа творца 157
а) риторика и герменевтика: сходство и различие 157
б) сигналы текста: эмотивное значение, эмотивная коннотация, эмотивныи потенциал слова 164
2.3. Искусство понимать искусство: актуализация эстетического объекта 172
а) смысл и значение 175
б) типология понимания текста 183
Краткие выводы по Второй главе 203
Глава Третья. Реинтерпретация в искусстве XX века 205
3.1. Музыка и кинематограф (анимация) 206
а) Виктор Екимовский. «Mondscheinsonate».Композиция 60 206
б) Андрей Тарковский. «Ностальгия» 220
в) Гарри Бардин. «ЧучаЗ» 239
3.2. Кинематограф и литература (поэзия и проза) 246
а) Кира Муратова. «Три истории» 247
б) Иосиф Бродский. «Ниоткуда с любовью...» 261
в) Людмила Улицкая. «Пиковая Дама» 278
3.3. Балет и живопись 292
а)Ролан Пети. «Пиковая дама» 295
б) Пабло Пикассо. «Алжирские женщины» 306
в) Сальвадор Дали. «Фигура на скалах» («Спящая женщина») 309
Краткие выводы по Третьей главе 316
Заключение 318
Литература 323
- интерпретация в контексте искусствознания (музыкознания)
- реинтерпретация в контексте искусствознания (музыкознания)
- невербальный (изобразительный и музыкальный) художественный текст
- Кинематограф и литература (поэзия и проза)
Введение к работе
Актуальность диссертационного исследования.
В этюде, посвященном проблеме взаимодействия музыки и слова, его автор – Август Вильгельм Амброс – размышляет о том, что линия границы между всеми искусствами всегда имеет известную ширину. Более того, она нередко расширяется до пределов целой пограничной полосы, вследствие чего бывает довольно трудно отделить одно искусство от другого.
Сегодня, почти сто лет спустя, слова Амброса представляются особенно актуальными. Речь в данном случае идет о возникшей на рубеже XX – XXI вв. качественно иной художественной парадигме, становление которой обусловлено спецификой постмодернистской идеологии. Именно постмодернистские эксперименты стимулировали стирание граней между традиционными видами и жанрами искусства, развитие тенденций синестезии, о чем свидетельствуют всевозможные арт-практики, арт-проекты и т.п. деятельности и их продукты.
Выступая, с одной стороны, как радикальный консерватизм, сдерживающий познавательные способности субъекта, с другой – как наиболее революционное художественное обновление, постмодернизм делает ставку не столько на художественное творчество, сколько на конструирование артефактов. В результате, к обозначенной Амбросом проблеме прибавляется еще одна: сложность, связанная с необходимостью отделить искусство от того, что, собственно, таковым не является.
Имеется в виду ситуация, согласно которой современное искусство, будучи как авангардом, так и его антиподом, демонстрирует неоднозначную целостность, заданную бриколажем прошлого и настоящего. При этом наряду с «репродукциями прошлой продукции» (Г. Гадамер), получившими в терминологии Ж. Бодрияра название «симулякра», существуют подлинные, отвечающие закону эстетического воздействия образцы, авторы которых не только не ограничивают свободу мыследеятельности воспринимающего субъекта, но, напротив, предполагают конгениальность читателя, зрителя, слушателя.
На фоне тотальных неупорядоченности, перекодировки и радикальной философской свободы область «пограничной полосы» на современном этапе ассоциируется также и с терминологической многозначностью. Последняя заявляет о себе не только в сфере искусства, но и в равной степени в самых разных отраслях гуманитарного знания. В результате мы становимся свидетелями «вавилонского столпотворения» многочисленных частных наук, каждая из которых тщится занять доминирующее положение. При этом, «работая» по инерции, заданной их классическими предшественниками, все они зачастую оказываются неспособны понимать друг друга.
Чтобы почувствовать остроту проблемного поля исследования, обратимся к одному из серьезных философско-культурологических журналов, издаваемых Европейским гуманитарным университетом. В первом номере за 2007 год практически на соседних страницах, отведенных разным авторам, прежде находим вопрос о том, «удастся ли философской эстетике протиснуться между двумя полюсами современного эстетического дискурса, между искусствоведением и cultural studies, представляющими собой Сциллу и Харибду для «полнокровного» эстетического исследования?». А несколько позднее обнаруживаем оптимистическую констатацию следующего факта: «Многозначность выражения «эстетический» представляет собой скорее индекс продуктивности, нежели признак непригодности термина».
Примечательно, что, проявляя широту взглядов, именно автор второй сентенции – немецкий теоретик искусства Вольфганг Вельш – предлагает дифференцировать эстетику, различая в ней три основные «формации»: аристику, каллистику и аистетику. В итоге традиционная философская дисциплина распадается на три относительно самостоятельных «подраздела»: философию искусства, теорию прекрасного и универсальное учение о восприятии. При этом в роли общего знаменателя этих трех субдисциплин выступает диагностированная Вельшем «глобальная эстетизация», под которой он понимает социально-культурную и интеллектуальную констелляцию современности.
Признавая объективность авторской оценки социокультурной ситуации, которая подтверждается наличием в научной среде многочисленных исследований, посвященных так называемому «визуальному повороту», позволим себе усомниться в том, что предложенная Вельшем дифференциация кардинально меняет «ситуацию постмодернизма» (Ж. Лиотар). Как правило, недостаточная разработанность понятийного аппарата в одной сфере с неизбежностью порождает терминологическую многозначность в другой, непосредственно с ней соприкасающейся.
Такое положение дел особенно тревожно в контексте современной научной парадигмы, практически узаконившей междисциплинарный статус гуманитарных исследований. Объединяя специалистов из смежных областей знания и, соответственно, требуя от них выработки единого словаря, гуманитарная наука нередко становится свидетелем того, что выполнение данного требования приводит к некоторым упрощениям и как следствие – примитивизации существа вопроса. В результате происходит неизбежная в данном случае подмена реальной сложности желаемой простотой, что негативно сказывается на становлении и развитии каждой отдельной дисциплины.
В качестве примера обратимся к такой смежной области, как «философия искусства», одним из главных затруднений которой оказывается то, что, размышляя об искусстве, современный философ нередко стремится исчерпать предмет «суждениями а priori». Подобное желание представляется, на наш взгляд, тем более сомнительным, что музыка точно так же, как литература или изобразительное искусство, выставляет громадное количество произведений, созданных творцами без всякого предварительного «разрешения» со стороны философии. Нередко именно вопреки прогнозам философов произведения искусства становятся впоследствии культурным знаком своей эпохи, а их авторы – признанными гениями, оставляющими след в мировом художественном процессе.
Иллюстрацией перенесения чисто философской рефлексии в область искусства может быть опыт А. Гелена – автора книги «Картины времени. К социологии и эстетике современной живописи». В своей работе исследователь отстаивает положение, согласно которому кубизм заложил новые, революционные основания с учетом «фундаментальных философских идей» – имеется в виду философия неокантианства.
Однако даже если не принимать во внимание ситуацию, согласно которой ни Пикассо, ни Брак эту теорию не разделяли, то обстоятельство, что в неокантианстве понятие вещи является лишь относительной мыслительной точкой (некой «бесконечной проблемой»), ни в коей мере не проясняет «знаменитые парадоксальные нововведения кубистов…». Более того, верхом абсурда было бы полагать, что «фацетирующая техника в живописи является практическим воплощением гуссерлевской теории предмета восприятия».
Получить достаточно полное представление о существующей проблеме тем более важно, что в сложившихся обстоятельствах именно искусство становится для постмодернизма прообразом многих его философских построений. Как справедливо пишет А. Рыков, «новая “эстетическая” логика определяет стиль мышления уже не первого поколения постмодернистов, служа своего рода алиби для иррационализма их философии». Другими словами, постмодернистская философия и теория современного искусства оказываются связанными между собою множеством уз.
Все вышеизложенное позволяет утверждать необходимость:
– во-первых, разработки критериев оценки постмодернистского искусства;
– во-вторых, последовательно-упорядоченного, логически четкого соотнесения связанных между собой по смыслу понятий, способствующих состоятельности диалога творца и ценителя в таких видах искусства, как литература, живопись, поэзия, музыка, балет, кинематограф, анимация;
– в-третьих, обоснования современной философии искусства.
Поскольку все три положения фокусируются в одной точке, позиционируемой нами как феномен реинтерпретации, избранная в диссертационном исследовании тема представляется не только современной, но и своевременной. Речь в данном случае идет о попытке противостоять нынешнему веку, который, по мнению А. Тойнби, являет собой новую страницу в истории цивилизации, когда подвергаются эрозии многие традиционные понятия, в том числе и гуманизм.
Действительно, трудно не согласиться с тем, что эра постмодернизма отвечает фазе беспокойства, иррационализма и беспомощности. Окончательно утратив системность и гармоничность, мир становится поприщем хаотического взаимодействия случайностей. Более того, согласно прогнозам западных исследователей, отношение к искусству кардинально изменится: перестав почитаться как высшее творение человеческого духа, оно превратится в простой товар.
«В культуре, где все добытое человечеством знание сведется к дискурсу, – пишет по этому поводу Патрисия Во, – нельзя будет больше говорить о трансцедентальном. Исчезнет та внешняя точка опоры, на которую можно было встать, чтобы дать объективную характеристику культуре, уступив место лишь совокупности фрагментарных “взглядов изнутри”».
С учетом сложившейся ситуации, именно опыт реинтерпретации обеспечит, на наш взгляд, способность актуализации «диалога сознаний» (М. Бахтин). Это тем более важно, что постмодернизм самым непосредственным образом связан с непрерывностью знакового обмена, взаимопровокациями и перекодировками. В то же время, когда «постоянный обмен смыслами стирает различия между “своим” и “чужим” словом», а «введенный в ситуацию обмена знак становится потенциальной принадлежностью любого участника обмена», мы надеемся реанимировать человеческую субъективность, которая, по мысли М. Фуко, всего лишь пережиток прошлого. Констатируя мифологичность традиционного понимания человека, Фуко предрекает скорый конец последнего, что обусловлено сменой индивидуального «авторства» на анонимную стихийность. В итоге «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке».
В противоположность представленной позиции, мы убеждены в следующем. Когда «в непримиримом противоречии сталкиваются “слишком человеческое” желание оставаться или стать собой и постмодернистская “муравьиность”, невозможность вычленить себя из “квантовой” анонимности культуры», именно искусство будет тем «спасительным кругом», который даст человечеству возможность «держаться на плаву». Здесь вопрос о смысле познанного оказывается равнозначным вопросу о смысле существования (М. Хайдеггер).
В соответствии с той ролью, которая отводится сегодня функционирующему в обществе потребления искусству, цель диссертационного исследования заключается в выяснении сущности феномена реинтерпретации, позиционируемого одной из универсальных стратегий современного художественного творчества. При этом объектом изучения выступает художественный текст, представленный вербальными, невербальными и синтетическими образцами. Предмет исследования – опыт реинтерпретации в искусстве ХХ века.
В числе научных задач, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, назовем следующие:
– выявить общее и особенное между такими понятиями, как «интерпретация» и «реинтерпретация»;
– дать характеристику реинтерпретации как социокультурного феномена;
– определить место и роль феномена реинтерпретации в становлении диалогической культуры субъекта;
– эксплицировать феномен реинтерпретации на примере инструментальной музыки, литературы, живописи, а также в таких синтетических видах искусства, как балет, кинематограф, анимация;
– обозначить сходство и отличие характерного для неоклассицизма «метода работы с моделью», интертекстуального метода и метода реинтерпретации;
– выяснить, в каком соотношении находится феномен реинтерпретации с такими образцами художественного творчества, как пародия, транскрипция, парафраза, переложение;
– предложить алгоритм анализа художественных произведений, созданных посредством метода реинтерпретации;
В качестве исследовательского материала нами рассматриваются художественные образцы, которые являют собой как классические тексты, так и тексты, рожденные эпохой постмодернизма. В их числе «Пиковая дама» А. Пушкина, П. Чайковского и Л. Улицкой; Симфония № 9 Л. ван Бетховена, «Ностальгия» А. Тарковского; «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина, «Чуча 3» Г. Бардина; «Лунная соната» Л. ван Бетховена и одноименная композиция московского композитора В. Екимовского; «Записки сумасшедшего» Н. Гоголя и стихотворение И. Бродского «Ниоткуда с любовью…»; «Палата № 6» Чехова, «Гамлет принц Датский» В. Шекспира, «Девушка и смерть» М. Горького и «Три истории» К. Муратовой; «Алжирские женщины» Э. Делакруа и П. Пикассо; «Женщины, бегущие по пляжу» П. Пикассо и «Фигура на скалах» («Спящая женщина») С. Дали.
Полипарадигмальный характер диссертационного исследования, осуществляемого на стыке таких областей гуманитарного знания, как искусствознание, музыкознание, философия, герменевтика, семиотика, музыкальная психология, психолингвистика, литературоведение, эстетика и другие науки, обусловил теоретико-методологический фундамент работы, который условно может быть поделен на три тематических блока.
Первый включает в себя исследования философско-искусствоведческих проблем, которые решаются в работах по эстетике и аксиологии (Г. Шпет, Я.Мукаржовский), герменевтике (Г. Гадамер, В. Кузнецов), семиотике (Ю. Степанов), интерпретации (Е. Гуренко, О. Корыхалова), феноменологии, как восходящей к М. Хайдеггеру (В. Вольнов), так и представленной социальными контекстами феноменологического философствования (Г. Шеметов).
Следующая тематическая группа источников складывается вокруг работ по филологической и психологической герменевтике (субстанциальная сторона понимания текста Г. Богина и А. Брудного), психолингвистике и общему языкознанию (теория эмотивности В. Шаховского, процедура интерпретации и реинтерпретации в лингвистике В. Демьянкова, текст как объект лингвистического анализа И. Гальперина), коннотативной семиологии («текст как партитура», «интертекстуальный анализ» Р. Барта), философии языка (проблема смысла Р. Павилениса; «внутренняя форма языка» Г. Гумбольдта; «предметно-языковой код» Н. Жинкина), риторике («школа мысли» А. Михальской, «риторика поступка», И. Пешкова), лингвориторической парадигме (А. Ворожбитова, П. Пихновский), литературоведению («познавательный и этический моменты текста», «данное и созданное» М. Бахтина, поэтическая реинтерпретация А. Фокина) и др.
Третья группа исследований, рассматриваемых нами в качестве методологического фундамента диссертационной работы, принадлежит области искусствознания, в том числе музыкознания. Здесь следует упомянуть исследования музыкального содержания, осуществляемые Л. Казанцевой, А. Кудряшовым, В. Холоповой; музыкальной герменевтики и семиотики, представленные в работах М. Бонфельда (музыка как язык, речь и мышление; музыка с точки зрения семантики, синтактики и прагматики), Ю. Захарова (музыка как факт и как означающее); феномена синестезии, выявленного на материале искусства ХХ века Н. Коляденко (синестетичность музыкально-художественного сознания).
В данном контексте назовем и имена ученых-музыковедов, реализующих интертекстуальный подход к анализу содержательного плана музыкальных произведений (М. Арановский, Л. Дьячкова, Б. Кац, А. Климовицкий, М. Раку, О. Спорыхина).
Помимо этого, в сферу искусствоведческих работ вошли труды по семиотике кино Ю. Лотмана, согласно которому «элементом киноязыка может быть любая единица текста (зрительно-образная, графическая или звуковая)» и семиотике картины (С. Даниэль), а также исследования, осуществляемые в рамках общей теории искусства (Л. Лиманская, Е. Мурина).
В данном блоке важно отметить и труды, связанные с проблемой интерпретации музыкальных, поэтических, изобразительных и синтетических художественных текстов Г. Головатой (текст и версии «Евгения Онегина» Чайковского), В. Грачева (интерпретирующий стиль музыки ХХ века), И. Роговина (интерпретация сюжетов «Метаморфоз» Овидия в европейском искусстве), Н. Хилько (изобразительное начало в программной музыке; двойственная роль композитора, выступающего одновременно творцом оригинального нотного текста и интерпретатором программного источника), С. Наборщиковой (включение балетной интерпретации в контекст художественного перевода).
В этом же ряду следует назвать как посвященные транскрипции работы Б. Бородина, М. Кирилловой, Г. Когана, В. Руденко и др., так и немногочисленные исследования, в которых специальному рассмотрению подвергаются оперное и балетное либретто (А. Гозенпуд, С. Городецкий, И. Пивоварова, И. Соллертинский, А. Шавердян, В. Яковлев, Б. Ярустовский ), а также взаимодействие музыки и хореографии (Б. Асафьев, М. Друскин, А. Занкова, Ю. Слонимский).
В целом изучение феномена реинтерпретации в контексте искусства ХХ века осуществляется с применением комплексного культурологического подхода. Данный подход предполагает использование единой системы анализа различных видов искусства посредством взаимодействия методологии разных научно-исследовательских отраслей. В нашем случае это искусствознание (музыкознание), литературоведение, киноведение, эстетика. Еще один – лингвориторический метод исследования – формируется на пересечении трех категориальных рядов: Этоса, Логоса и Пафоса (нравственно-философского, словесно-мыслительного и эмоционального начал речи) как идеологии любого речевого поступка.
Новизна диссертационной работы обусловлена тем, что впервые в специальном исследовании в центр научной рефлексии поставлен феномен реинтерпретации, под знаком которого обретает свое бытие современное искусство. Для осмысления последнего разработан алгоритм анализа художественного текста, обеспечивающий единство «данного и созданного» (М. Бахтин). Помимо этого, выявлена сущность феномена реинтерпретации, заключающаяся в синтезе таких противоположных, но при этом необходимых для развития искусства тенденций, как подчинение традиции импульсам современного развития. Впервые опыт реинтерпретации позиционируется как школа рефлексии методологического типа, что придает феномену реинтерпретации статус одной из универсальных методологий современного искусства.
Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день феномен реинтерпретации оказывается в сфере научных интересов исключительно представителей филологической науки. В противоположность проблеме интерпретации, по которой насчитываются сотни исследований практически во всех областях гуманитарного знания, в том числе философии, музыковедению, эстетике и культурологии, проблема реинтерпретации до настоящего времени не стала предметом специального рассмотрения в рамках теории искусства. Более того, когда данный термин встречается в искусствоведческих (музыковедческих) работах, у каждого из авторов его трактовка оказывается отличной от другого.
Так, в статье Ю. Кона, посвященной жанру фуги в творчестве Лютославского, читаем: «Высказывания самого Лютославского свидетельствуют о том, что он сознательно, п р е д н а м е р е н н о осуществил “пересмотр” формы, ставшей художественным каноном. По сути дела, в своей “Фуге” он провел то переосмысление исторически сложившейся схемы, структуры, которое в литературоведении получило наименование р е и н т е р п р е т а ц и и , т.е. обновления формы, преодоления устоявшихся норм».
В свою очередь, в работе Ю. Захарова «Истолкование музыки: семиотический и герменевтический аспекты» реинтерпретация подразумевает привлечение новых интерпретативных реальностей, связи трактуемого объекта с которыми запечатлеваются в новых текстах», вследствие чего понятие «реинтерпретация» оказывается синонимичным понятию интертекст». Интересующий нас термин встречается также в работе И. Роговина, выступая синонимом понятия «художественный трансферт» (от лат. «переношу», «перемещаю»).
Аналогичным образом для оценки современных произведений искусства, созданных кинематографом, литературой, популярной музыкой, в том числе джазом, актуальными становятся такие понятия, как: «remake» (от англ. «сделать заново», «обновить», употребляемое по отношению к новой постановке старого сюжета, хотя, как отмечают кинокритики, вероятно, уже осуществленную переделку правильнее было бы называть «remade»); «псевдоремейк» как оппозиция к ремейку; «кавер-версия» (от англ. «покрывать»; вариант исполнения песни другим певцом, часто в новой аранжировке); «ремикс» (от англ. «заново смешать»: по сути, речь идет о «переделке оригинального произведения с другой аранжировкой, часто с перестановкой, повторением фрагментов и/или с добавлением новых, при этом новое произведение может сильно отличаться от оригинала; «апгрейд», т.е. доведение «до современного уровня» «устаревшего» классического текста; «экуменизм» (от греч. «обитаемый мир»: в контексте философской проблематики это понятие трактуется как «эклектика», в эстетике – «безвкусная аппликация»); «повторная интерпретация»; «трансакция» (сделка) – акт воплощения вторичного художественного образа в новую чувственно воспринимаемую форму; «трансплантация художественного произведения», целью которой, по мнению А. Луначарского, является стремление выразить его (произведения) душу на языке другого искусства; «парафраза» (от греч. описание, пересказ); «эволюционная трансформация»; «деконструкция»; «перевод» и т. п.
По сути, созвучным данным терминам представляется и понятие «транскрипция», являющее собой «зафиксированную интерпретацию художественных ценностей». В контексте музыкального искусства транскрипция выступает средоточием «метода трансформации», который «связан с преобразованием произведений искусства и предполагает такие изменения оригинала, в результате которых он (оригинал) предстает в новом качестве, сохраняя при этом – в большей или меньшей степени – общие черты со своим первоначальным обликом».
Вне всяких сомнений, подобное положение дел со всей очевидностью демонстрирует необходимость пересмотра существующей понятийной системы. В процессе ее становления важно учитывать следующее требование: «Термины, относящиеся к понятиям одного порядка, одной категории, создаются по одной словообразовательной модели и, следовательно, обозначают группу сходных по облику слов, гнездом их, а термины иного порядка, характеризующие иной класс понятий и явлений, формируются иначе, по другой модели» .
Положения, выносимые на защиту:
1. В противоположность интерпретации как вторичной художественной деятельности, в процессе осуществления которой «продукт первичной художественной деятельности обязательно воспроизводится как система» (Е. Гуренко), реинтерпретация выступает в качестве такой художественной системы, в которой «продукт первичной художественной деятельности» присутствует лишь на уровне элемента. Поскольку последний «работает» исключительно на актуализацию закона эстетического воздействия, реинтерпретация приобретает статус первичной художественной деятельности.
2. Опыт реинтерпретации манифестирует собой переосмысление традиции, выступая в качестве формирующего заново понятие истины творческого акта, вследствие чего опыт реинтерпретации квалифицируется с позиции оригинального, самостоятельного художественного целого, которое требует от реципиента последующего осмысления;
3. В силу того, что суть феномена реинтерпретации заключается в актуализации противоречий, складывающихся между «данным» и «созданным», их согласование ставится в прямую зависимость от культуры мышления реципиента. Потому осмысление опыта реинтерпретации оказывается одним из действенных механизмов, способствующих обучению рефлексии методологического типа, что самым непосредственным образом выводит нас на человеческую субъективность, включенную в «диалог сознаний» (М. Бахтин).
4. Пародия, транскрипция, парафраза, переложение рассматриваются как исторические формы реинтерпретации, от которых последнюю отличает осознанный характер художественной провокации с целью актуализации диалогической ситуации;
5. Алгоритм анализа опыта реинтерпретации складывается из следующих процедурных норм:
а) знакомство с классическим текстом, который в новой художественной системе присутствует исключительно на уровне элемента последней;
б) сравнительная характеристика классического и нового оригинального текста, осуществляемая на уровне диалектики части и целого;
в) актуализация концептуальной информации нового оригинального текста через обращение к риторическому канону, выступающему аналогом системного анализа деятельности (Г. Щедровицкий).
6. Сходство метода реинтерпретации и интертекстуального метода заключается в активном использовании цитат, реминисценций, аллюзий и т.п., отличие – в том, что если в случае с интертекстом речь идет об «авторитете письма», то в случае с реинтерпретацией – об «авторитете автора». В свою очередь, «реставраторскому конструктивизму» (Б. Ярустовский) «модельного метода» противостоит осуществляемое в рамках реинтерпретации смысловое развертывание представленной в классическом тексте темы. Важность последней обусловлена тем, что реинтерпретация всегда осуществляется под знаком идеологии, что позволяет говорить о реинтерпретации как о социокультурном феномене.
7. Реинтерпретация являет собой всеохватывающую, интегративную стратегию, которая одновременно принимает во внимание как основные свойства текста, так и аспекты его значений. При этом метод интертекстуальности становится базовой категорией для данной стратегии. В рамках последней на смену парадигме открытого и поливалентного текста, обусловившей разрушение мифа о его единстве и целостности, приходит новая риторика – риторика художественного текста. Задавая границы читательскому произволу, риторическая программа творца позволяет противостоять «дурной бесконечности», опознаваемой в многочисленных повторах и имитациях.
Научно-практическая значимость диссертации состоит в возможности дальнейшего использования в рамках теории искусства понятий «реинтерпретация» и «псевдокультурная реинтерпретация», обращение к которым будет способствовать: а) упорядочиванию терминологической системы, которая оказывается на сегодняшний день перенасыщенной иноязычными заимствованиями, входящими в диссонанс с таким традиционным для искусствознания понятием, как «интерпретация»; б) устранению смысловой путаницы, возникающей в связи с наличием дуплетов – речь идет о различных терминах, соотносимых с одним и тем же понятием, которые затрудняют восприятие научной информации.
Помимо этого, в числе перспективных для последующего развития теории искусства представляется разработка такого направления, как риторика художественного текста, обеспечивающая совершенствование процедуры искусствоведческого анализа художественных текстов, представленных современными авторами.
В целом полученные в процессе диссертационного исследования результаты могут быть включены в лекционные курсы по философии искусства, истории искусств, культурологии, истории музыки, современной музыки, эстетики, семиотики и др.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в освоении навыков анализа произведений искусства ХХ века, являющих собой опыт реинтерпретации. Поскольку осмысление данного опыта невозможно вне пробуждения рефлексии методологического типа, особенную ценность полученные в процессе диссертационной работы результаты представляют для специалистов, занимающихся художественной критикой в области музыкального искусства, искусства кино, театра и изобразительного вида искусства.
Аналогичным образом неизбежная в процессе осмысления опыта реинтерпретации актуализация диалогической природы художественного текста обеспечит формирование культуры диалога и, соответственно, совершенствование коммуникативной компетенции специалиста-гуманитария, в том числе, развитие способности отличать искусство от кич-продукции как неотъемлемой составляющей общества потребления.
Апробация работы. Материалы диссертационного исследования обсуждались на кафедре музыкальных медиатехнологий и кафедре философии и политологии Краснодарского университета культуры и искусств. Результаты диссертационного исследования освещались в рамках учебных курсов для предметников-гуманитариев, которые проводились Астраханским институтом усовершенствования учителей (Астрахань, 1997 – 2000), на уровне всероссийского методологического семинара по семиотике (Краснодар, 2007), всероссийского семинара по музыкальному содержанию (Волгоград, 2007), в лекциях для студентов и аспирантов кафедры звукорежиссуры и мультимедийных технологий Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов (Санкт-Петербург, 2006 – 2007).
Основные результаты и выводы работы докладывались на международных и всероссийских научных, научно-методических и научно-практических конференциях в Астрахани (1997, 2002, 2007 – 2008), Волгограде (2006 – 2008), Горячем Ключе (2008 – 2009), Иванове (2005 – 2009), Казани (2004, 2008), Краснодаре (2005 – 2009), Москве (2006 – 2009), Новосибирске (2004), Санкт-Петербурге (2005 – 2009), Твери (2007) и опубликованы в четырех монографиях, пяти учебных пособиях и 68 статьях общим объемом 82,5 п.л.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, а также приложения. Последнее представлено репродукциями картин П. Пикассо («Женщины, бегущие по пляжу», «Алжирские женщины», «Три музыканта») и С. Дали «Фигура на скалах» («Спящая женщина»), а также стихотворениями А. Тарковского («Пауль Клее») и И.Бродского («Ниоткуда с любовью…»). Использованная при написании диссертационного исследования литература включает в себя 537 источников на русском и иностранных языках.
интерпретация в контексте искусствознания (музыкознания)
Созвучным данным терминам представляется и понятие «транскрипция», являющее собой, по Б. Бородину, «зафиксированную интерпретацию художественных ценностей». В контексте музыкального искусства транскрипция выступает средоточием «метода трансформации», который «связан с преобразованием произведений искусства и предполагает такие изменения оригинала, в результате которых он (оригинал) предстает в новом качестве, сохраняя при этом — в большей или меньшей степени — общие черты со своим первоначальным обликом» [Бородин: 2006, 15].
Охарактеризованное положение дел свидетельствует о необходимости пересмотра существующей понятийной системы. При этом важно учитывать следующее требование: «Термины, относящиеся к понятиям одного порядка, одной категории, создаются по одной словообразовательной модели и, следовательно, обозначают группу сходных по облику слов, гнездом их, а термины иного порядка, характеризующие иной класс понятий и явлений, формируются иначе, по другой модели» [Реформатский: 1959, 8].
Положения, выносимые на защиту:
1. В противоположность интерпретации как вторичной художествен ной деятельности, в процессе осуществления которой «продукт первичной художественной деятельности обязательно воспроизводится как система» (Е. Гуренко), реинтерпретация выступает в качестве такой художественной системы, в которой «продукт первичной художественной деятельности» присутствует лишь на уровне элемента. Т.к. последний «работает» исклю чительно на актуализацию закона эстетического воздействия, реинтерпре тация приобретает статус первичной художественной деятельности.
2. Опыт реинтерпретации манифестирует собой переосмысление традиции, выступая в качестве творческого акта, заново формирующего понятие истины. Вследствие этого опыт реинтерпретации квалифицирует ся как оригинальное, самостоятельное художественное целое, которое тре бует от реципиента последующего осмысления;
3. Поскольку суть феномена реинтерпретации заключается в актуа лизации противоречий, складывающихся между «данным» и «созданным», их согласование ставится в прямую зависимость от культуры мышления реципиента. Поэтому осмысление опыта реинтерпретации оказывается од ним из действенных механизмов, способствующих обучению рефлексии методологического типа, что самым непосредственным образом выводит нас на человеческую субъективность, включенную в «диалог сознаний».
4. В отличие от более ранних исторических форм (пародия, транскрипция, парафраза, переложение и др.) реинтерпретации свойствен осознанный характер художественной провокации с целью актуализации диалогической ситуации;
5. Алгоритм анализа опыта реинтерпретации складывается из следующих процедурных норм: а) знакомство с классическим текстом, который в новой художест венной системе присутствует исключительно на уровне элемента послед ней; б) сравнительная характеристика классического и нового (ориги нального) текста, осуществляемая на уровне диалектики части и целого; в) актуализация концептуальной информации нового оригинального текста через обращение к риторическому канону как аналогу системного анализа деятельности.
6. Сходство метода реинтерпретации с интертекстуальным методом заключается в активном использовании цитат, реминисценций, аллюзий и т.п. Отличие состоит в следующем. В случае с интертекстом речь идет об «авторитете письма», в случае с реинтерпретацией - об «авторитете авто ра». «Реставраторскому конструктивизму» (Б. Ярустовский) «модельного метода» противостоит осуществляемое в рамках реинтерпретации смысло вое развертывание темы, представленной в классическом тексте. Реинтер претация всегда осуществляется под знаком идеологии, что позволяет го ворить о ней как о социокультурном феномене.
7. Реинтерпретация являет собой всеохватывающую интегративную стратегию, которая принимает во внимание как основные свойства текста, так и аспекты его значений. При этом метод интертекстуальности выступает базовой категорией для данной стратегии. В рамках последней на смену мифу об «открытом», «поливалентном» тексте, разрушившем идею о единстве и целостности классических культурных образцов, приходит осознающая эту целостность риторика художественного текста. Ставя гра ницу читательскому произволу, риторическая программа творца позволяет противостоять «дурной бесконечности», опознаваемой в многочисленных повторах и имитациях.
Научно-практическая значимость диссертации состоит в возможности дальнейшего использования в теории искусства понятия «реинтер-претация», обращение к которому: - способствует упорядочению терминологической системы, которая на сегодняшний день перенасыщена иноязычными заимствованиями, размывающими границы категорий искусствознания; - создает оппозицию понятию «интерпретация»; - устраняет смысловую путаницу, возникающую при наличии дуплетов - различных терминов, соотносимых с одним и тем же понятием, что затрудняет восприятие научной информации. В числе перспективных для теории искусства нам представляется разработка такого направления, как риторика художественного текста, обеспечивающего совершенствование процедуры искусствоведческого анализа современных художественных текстов.
Полученные в процессе диссертационного исследования результаты могут быть включены в лекционные курсы по философии искусства, истории искусств, культурологии, истории музыки, современной музыке, эстетике, семиотике и др.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается также в освоении навыков анализа произведений искусства XX века, являющих собой опыт реинтерпретации, что особенно ценно для специалистов, занимающихся художественной критикой в области музыкального искусства, искусства кино, театра и изобразительного искусства. Речь идет о ситуации, согласно ко горой осмысление опыта реинтерпретации невозможно вне пробуждения рефлексии методологического типа.
Неизбежная в процессе реинтерпретации актуализация диалогической природы художественного текста обеспечит формирование культуры диалога и совершенствование коммуникативной компетенции специалиста-гуманитария: способности отличать искусство от китч-продукции - неотъемлемой составляющей общества потребления.
Апробация работы. Материалы диссертационного исследования обсуждались на кафедре музыкальных медиатехнологий и кафедре философии и политологии Краснодарского университета культуры и искусств. Результаты диссертационного исследования освещались в рамках учебных курсов для предметников-гуманитариев, которые проводились Астраханским институтом усовершенствования учителей (Астрахань, 1997-2000), на уровне всероссийского методологического семинара по семиотике (Краснодар, 2007), всероссийского семинара по музыкальному содержанию (Волгоград, 2007), в лекциях для студентов и аспирантов кафедры звукорежиссуры и мультимедийных технологий Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (Санкт-Петербург, 2006-2007).
Основные результаты и выводы работы докладывались на международных и всероссийских научных, научно-методических и научно-практических конференциях в Астрахани (1997, 2002, 2007, 2008), Волгограде (2006-2008), Иваново (2005-2009), Казани (2004, 2008), Краснодаре и Горячем Ключе (2005-2009), Москве (2006-2009), Новосибирске (2004), Санкт-Петербурге (2005-2009), Твери (2007) и опубликованы в четырех монографиях, пяти учебных пособиях и 68-ми статьях общим объемом 82,5 п.л.
реинтерпретация в контексте искусствознания (музыкознания)
Среди имеющихся у разных авторов десятков разнообразных значений понятия «текст» (см.: Гальперин: 1988; Гиндин: 1978; Горшков: 1999; Задорнова: 1984; Ипполитова: 1992; Лотман: 1997; Сорокин: 1983 и др.) можно выделить, как минимум, три подхода, согласно которым: 1) текст рассматривается в качестве объекта лингвистики (лингвистический); 2) текст выступает в качестве предмета литературы (литературоведческий); 3) текст определяется как форма коммуникации (семиотический)45. Соответственно, в первом случае, речь идет о таком понимании текста, при котором последний представляет собой «последовательность вербальных (словесных) знаков» [Текст: 1990, 507]. Во втором — уместно говорить о такой особенности текста, которая характеризуется связностью и цельностью [Текст: 1987, 436]. Наконец, с точки зрения семиотики, текст характеризуется а) выраженностью, б) структурностью и в) отграниченно-стью [Лотман: 1998, 62-63], вследствие чего понятие текста «расширилось до границ культуры» и «читать как текст оказалось возможным не только произведения словесного творчества, но и картины, кинофильмы, ритуалы и образ жизни» [Штайн: 1994, 1].
Вместе с тем, ни один из представленных подходов не исключает такой трактовки понятия, при которой текст осмысляется с позиции речевого высказывания. Так И. Гальперин рассматривает текст как результат рече-творческого процесса аналогично В. Апухтину и Б. Шахнаровичу, по мнению которых «текст представляет собой опредмеченную ситуацию общения...» [Апухтин, Шахнарович: 1976, 88]. Точно так же и О. Белый называет литературу такой формой общения, которая несводима к передаче информации [Белый: 1986, 7]. Раскрывая направления в изучении текста как системы, организованной по своим законам, - как целое, обладающее ря дом специфических категорий (собственно лингвистика текста), как часть (грамматика текста), как тип речи (стилистика текста), Н. Ипполитова пишет о необходимости изучить «текст как ... результат речевой деятельности, но с учетом тех механизмов и условий, которые определяют его структуру и содержание в целом» [Ипполитова: 1992, 7-11].
Однако, акцентирование именно речетворческого аспекта при рассмотрении интересующего нас понятия выводит текст за пределы указанных дисциплин и ставит его в центр риторической ситуации, возникновение которой обусловливается наличием предмета речи (текста), адресанта (говорящего) и адресата (слушающего). Поскольку прследовательность речевых действий бесконечна, в каждом звене этой последовательности получатель речи (адресат) становится создателем речи (адресантом), чередуя моменты слушания и собственно говорения.
Специально заметим, что включение данного понятия в пространство речевого общения осуществляется на фоне отсутствия в среде исследователей единодушия в констатации идейных и методологических перекличек, существующих между риторикой и теорией (лингвистикой) текста как особого раздела филологии, а также разности мнений об актуальном соотношении предмета, задач и научного багажа этих двух областей знания, вследствие чего сведения по данному вопросу весьма противоречивы. Так, если В. Дресслер настаивает на том, что сфера интересов риторики затрагивает лишь некоторые аспекты современной теории текста, поскольку построенные на незыблемости риторических канонов выводы оказываются малопригодными для решения современных научных задач [Dressier: 1972, 5], то в концепции Р. Барта риторика и теория текста оказываются лишь разными стадиями в истории развития одной дисциплины.
Отстаивая собственную точку зрения, в качестве аргумента учёный привлекает тот факт, что в течение многих столетий риторика ставила ту же задачу, что и теория текста. В свою очередь, аналогично Ц. Тодоро-ву, который считает возможным «употреблять выражение "семиотика ли тературы" только в том случае, если разуметь под этим риторику» [Тодо-ров: 2006, 373], Ю. Лотман отождествляет риторику не только с семиотикой, но и с лингвистикой и с поэтикой [Лотман: 1998, 495]. При этом весьма важной представляется оговорка, согласно которой «риторическая структура лежит, — по мнению Ю. Лотмана, — не в сфере выражения, а в сфере содержания» текста [Лотман: 1988, 611]. На наш взгляд, необходимость подобного уточнения была обусловлена тем, что собственно текст позиционируется Ю. Лотманом как такое речевое высказывание, которое являет собой «отображение устной речи в письменной» [Лотман: 1988, 105]. Значимость данной формулировки опознается в особом отношении античных мыслителей к письменной речи: согласно Аристотелю, именно письменная речь по причине своей точности менее всего соответствовала требованию риторики. «То; что убеждает само по себе, то, что очевидно, -учит философ, - не слишком интересно для риторики» [цит. по: Михаль-ская: 1996, 21]46.
Примечательно, что отмеченная особенность письменной речи стала отправным моментом в предпринятой Аристотелем классификации стилей. Выделяя роды речи в опоре на положение, согласно которому каждый род имеет свои «виды посылок», т.е. частные топосы47, и поэтому - свой «стиль», философ приходит к следующим дефинициям. Речи делятся на роды (жанры) в соответствии с целями речевого общения (справедливость, польза, прекрасное), местом его (суд, народное собрание, торжество), отношением обсуждаемого события (прошлое, настоящее, будущее) [Пешков: 1998].
невербальный (изобразительный и музыкальный) художественный текст
Отталкиваясь от приведенной цитаты, можно смело утверждать, что художник слова только потому способен обогащать наш внутренний мир, что его речь идет из глубины души, являясь знаком внутреннего мира. Неслучайно В. Гумбольдт считал, что внутренняя сторона языка «и составляет собственно язык». Соответственно, именно внутренняя речь «есть тот аспект, ради которого языковое творчество пользуется звуковой формой». Более того, на эту сторону языка опирается его способность наделять выражением все то, что стремятся вверить ему по мере прогрессивного развития идей величайшие умы позднейших поколений» [Гумбольдт, 1984, 100]. В то же время, в силу того, что отношения между невербальными и вербальными элементами системы равно как и отношения, складывающиеся между невербальными элементами, представленными разными модальностями (слух, зрение, обоняние, осязание, тактильность), носят характер релевантной несовместимости, производить манипуляции с теми и другими оказывается возможным для языкового носителя только при соблюдении фундаментального принципа интерпретации. Последний, по словам Р. Павилениса, включает в себя два момента: 1) непрестанное пополнение системы новой информацией; 2) последовательное конструирование этой внешней по отношению к самой системе информации в элементы данной системы.
Требование неукоснительного- соблюдения отмеченных моментов обусловлено рядом обстоятельств. Первое связано с тем, что непрерывность поступления новой информации является, по сути, залогом жизнедеятельности самой системы: человеческий индивид обладает сознанием лишь постольку, поскольку он чувственным образом воспринимает внешний мир [Ойзерман: 1994]. Если же «чувственная связь с внешним миром прерывается (например, путем экспериментального создания сенсорного «голода»), человек впадает в бессознательное состояние» [там же]. Второе требование оказывается следствием того; что вербализация? (кодирование} непрерывного сенсорного потока возможна только при условии, что- хао-тичное смешение информации, поступающей по разным каналам восприятия, будет упорядочено (оформлено): «идеал», предел внутренних форм-не в исчерпании смысла, а в извлечении смысла из объективных связей и во включении его в другие субъективные связи» [Шпет: 1999, 861].
Соответственно, операция кодирования;может состояться только тогда, когда раздельность впечатлений преобладает над совокупностью ощущений. Преодоление хаоса достигается; здесь за счет перевыражения внешней по отношению к системе информации во внутреннюю. Причем,, невербальные элементы системы выступают в качестве анализаторов, «отвечающих» за упорядоченность сенсорного потока. Наконец, когда в искомой: раздельности та- или иная модальность приобретает доминирующее значение, говорят об открытии «значения для; меня» или иначе - о возникновении эмоционально-непосредственного личностного1 смысла, который впоследствии объективируется. Потому Е. Шпет особо настаивал на том,. что «для анализа самой внутренней формы имеет насущное значение вопрос об о т н о ш е н и и "переносного" смысла к "прямому"» [там же, 112], что, в свою очередь, подтверждает безусловную правоту Н. Жинкина. Называя, смыслом «синонимию или уравнивание разноименных вещей», под осмыслением ученый видит операцию, «при помощи которой в сообщение вводится информация о вещах еще не названных через вещи уже названные» [Жинкин: 1998; 25].
О своеобразии протекания данного процесса в индивидуальной смысловой системе рассказывал А. Эйнштейн: «Слова, так как они пишутся или произносятся; по-видимому, не играют какой-либо роли в моем механизме мышления; В качестве элементов мышления выступают более или менее ясные образы и знаки физических реальностей, эти образы и знаки как бы произвольно порождаются и комбинируются сознанием. Существует, естественно, некоторая связь между этими элементами мышления и соответствующими логическими понятиями. Стремление в конечном счете прийти к ряду логически связанных одно с другим понятий служит эмоциональным базисом достаточно неопределенной игры с упомянутыми выше элементами мышления. У меня эти элементы зрительные и некоторого мышечного типа. Слова и другие символы я старательно ищу и нахожу на второй ступени, когда описанная игра ассоциаций уже установилась и может быть воспроизведена... Игра с первоначальными элементами мышления нацелена на достижение соответствия с логической связью понятий» [цит. по: Кузнецов: 1979, 25-26]. Другой опыт связан с именем И. Стравинского. На вопрос Р. Крафта: «Не была ли когда-нибудь подсказана вам музыка или музыкальный замысел зрительным впечатлением от движения, линии или рисунка?», Стравинский ответил: «Бесчисленное число раз» [цит. по: Друскин: 1979,26].
Важно подчеркнуть, что непрерывность поступления новой информации самым непосредственным образом влияет на динамический характер невербальных элементов системы, вследствие чего внутренняя форма слова не может оставаться неизменной. Поскольку же операция кодирования сопровождается «выделением дискретных моментов содержания представлений» [Жинкин: 1998, 161] («код, - пишет М. Бахтин, - нарочито установленный, умерщвленный контекст» [Бахтин: 1986, 372]), вербальная информация, пополняющая индивидуальную систему, не может не подвергаться перевыражению со стороны ее невербальных элементов. Тогда же, когда субъект пользуется внешней по отношению к собственной системе информацией вне этого обязательного перевыражения, деятельность системы ограничивается лишь расширением сферы пользования значений, что приводит к неизбежной деградации системы.
Кинематограф и литература (поэзия и проза)
Таким образом, опыт реинтерпретации, представленный в «Котельной № 6», позволяет осознать ужасающее по своим масштабам разложение человеческого материала. Имплицитно присутствующая в названии истории отсылка к повести Чехова, помогает задуматься над тем, что временной отрезок в сто лет не только не сказался на улучшении людской породы, но, напротив, обозначил границу еще большего духовного обнищания, на фоне которого доктор Рагин и его окружение уже выглядят не самыми худшими особями.
Название второй истории - «Офелия» (сценарий Р. Литвиновой)87 -также вызывает в памяти шекспировскую трагедию, в центре которой стоит Гамлет, принц Датский. Примечательно, что уже в контексте пьесы судьбы Гамлета и Офелии, пусть вразнобой, некоторым образом повторяют друг друга. Так, Он и Она (каждый по-своему) теряют отца; оба они в глазах окружающих безумны; Один терпит обиду от женщины (Мать), Другая - от мужчины (Гамлет); наконец, и Офелия, и Гамлет в итоге погибают.
Возможно, именно поэтому характеристика, которую шекспировский герой дает сам себе в минуту откровения, практически отвечает характеристике Офелии Муратовой. В первом случае мы читаем: «К чему плодить грешников? Сам я - сносной нравственности. Но и я стольким мог бы попрекнуть себя, что лучше бы моя мать не рожала меня. Я очень горд, мстителен, самолюбив. И в моем распоряженье больше гадостей, чем мыслей, чтобы эти гадости обдумать, фантазии, чтоб облечь их в плоть, и вре мени, чтобы их исполнить. Какого дьявола люди вроде меня толкутся меж небом и землею? Все мы кругом обманщики. Не верь никому из нас. Ступай добром в обитель» [Шекспир: 1968, 178-179]. Во втором слышим еле-дующее: «Я так неопытна. И наверное я сегодня сделалась беременной. Это что, я должна вынашивать твоего зародыша? Но я не хочу вынашивать твоего зародыша в себе. Я должна делать карьеру... Я не люблю мужчин, я не люблю женщин, я не люблю детей. Мне не нравятся люди» [Литвинова: 2007, 19].
В то же время, точкой отсчета, которая помогает зрителю разобраться в хитросплетениях истории про девушку Офу, становятся, на наш взгляд, слова Призрака, обращенные к принцу в момент прощания: «Однако, как бы ни сложилась месть,/Не оскверняй души, и умышленьем/ Не по-сягай на мать. Судья-ей бог/ И совести глубокие уколы» [Шекспир: 1968, 150]. Нельзя сказать, что Гамлет внял совету отца, поскольку, несмотря на то, что его месть непосредственно Гертруды не касается, сын не устает упрекать мать, разуверившись в ее лице во всех остальных женщинах. Отсюда, несмотря на влечение к Офелии, он постоянно сдерживает себя, вызывая в девушке недоумение своими непрестанными колкостями и двусмыс ленностями .
Офелия Муратовой пошла еще дальше. Узнав, что когда-то от нее, новорожденной, отказалась мать, Офа решила непременно разыскать ее и отомстить, а пока, занимаясь в больничном архиве поиском местожительства своей жертвы, героиня Р. Литвиновой убивает молодую женщину, оставившую в роддоме своего только что увидевшего свет ребенка. Знаменательно, что поступком очаровательной медсестры движет отнюдь не любовь и сострадание к малышу: как мнится Офе, она вершит праведный суд, выступая от имени всех лишенных материнской ласки детей.
Следует подчеркнуть, что, осуществив задуманное (Офа помогает своей матери уйти из жизни подобно шекспировской Офелии), героиня в заключительных кадрах картины передает принадлежащую утопленнице клюку двум слепцам, которые прогуливаются у воды под звуки доносящегося издалека марша «Прощание славянки». И здесь на память приходит библейская притча о слепцах, запечатленная Питером Брейгелем в одноименном живописном полотне, разве что коннотация несколько другая. Россия-матушка, в которой граждане страны чувствуют себя пасынками и падчерицами, вследствие чего у нескольких поколений людей инстинкт материнства безвозвратно утрачен, - обречена. Это тем более очевидно, что сама Офа являет собой, по сути, alter ego задушенной ею роженицы Тани, а также своей матери.
В первом случае о сходстве Тани и Офы говорит влюбленный в медсестру доктор, во втором — любовь обеих женщин к персонажу шекспировской трагедии (безвинно утонувшей Офелии) и пристрастие к одному и тому же цвету (и Офа, и ее мать, будучи блондинками, на момент знакомства одеты в платья красного цвета). Другими словами, осуществляя воз мездие, Офа тем самым с неизбежностью пополняет ряды женщин-кукушек. «Моя героиня, — признается сценарист, — очищает путь от тех, кому никто не нужен, и кто никому не нужен. В сущности, она сама такая» [Литвинова: 2007, 8].
Примечательным в данном контексте оказывается сцена, отсутствующая в сценарии Р. Литвиновой. Речь идет о «диалоге» двух старушек, одна из которых - мать, другая - дочь. Разделенные пространством (мать находится на балконе второго этажа, дочь стоит внизу, у дома), они пытаются докричаться друг до друга. Однако взаимопонимание так и не достигнуто: каждая слышит только себя. Возможно, подобный трагический псевдодиалог демонстрирует разрыв времен. Неслучайно каждая из старушек живет отдельно, что, на наш взгляд, свидетельствует о невозможности совместного сосуществования близких по крови людей. Их биологическое родство — формальность, обусловленная природой. Тогда, если даже кровные узы не в состоянии стать связующим звеном между представителями разных поколений, что ждет в итоге всех тех, кто остался друг для друга просто чужим?
Здесь на память приходят две, на первый взгляд, взаимоисключающие сентенции: «Глас народа - глас божий»; «Не подлежит сомнению, что всякая общая мысль, всякая общепризнанная условность - бессмыслица, ибо они — достояние большинства» (Н. Шамфор). Однако, такое впечатление ошибочно. По-видимому, в данном случае необходимо принимать во внимание разность понятий «народ» и «большинство». Если первое включено в синонимичный ряд таких лексем, как «родители», «Родина», «родные» и, по сути, определяет собой некую общность людей, поколениями которых выработаны единые для всех ценностные ориентиры, чья значимость превышает индивидуальные потребности каждого отдельного представителя этого народа, то второе -указывает на случайный характер кратковременно возникшего сообщества. «Офелия» Муратовой с очевидностью демонстрирует то обстоятельство, что нас, нынешнее поколение россиян, лишь с большой натяжкой можно именовать народом.