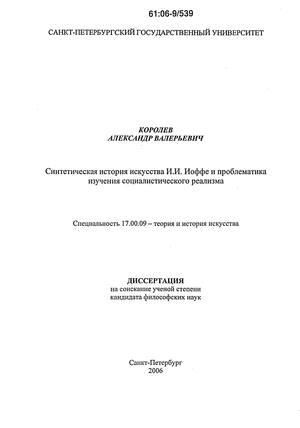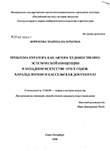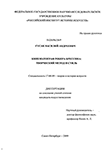Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Постановка проблемы социалистического реализма в теории Синтетического изучения искусства И.И. Иоффе
1.1. И.И.Иоффе и основные принципы теории Синтетического изучения искусства с. 51.
1.2. Система построения истории стилей досоциалистического искусства в теории Иоффе с. 67.
1.3. Концепция соцреализма как компонент теории Синтетического изучения искусства Иоффе с.73.
1.4. Художественное наследие в теории И.И. Иоффе и И.Л. Маца. Проблемы и противоречия с.95.
Глава 2. Художественная история 1920-х - начала 1930-х и ее влияние на формирование теории и практики социалистического реализма
2.1. Теоретические аспекты идеологического понимания искусства в трудах Иоффе с.106.
2.2. Борьба художественных группировок в советском искусстве на рубеже 1920-х- 1930-х годов и ее значение для формирования соцреализма с.117.
2.3. Становление социалистического реализма в советском искусстве и его осмысление в теории Иоффе с. 123.
Глава 3. Социалистический реализм и его место в истории искусства 20 века
3.1 Соцреализм в истории искусства 20 века. Взгляды Иоффе на проблему контекстуализации нового стиля с.138.
3.2. Проблема оригинальности соцреализма в теории Иоффе с. 152.
3.3. Выводы с.161.
Список литературы с.169.
- И.И.Иоффе и основные принципы теории Синтетического изучения искусства
- Концепция соцреализма как компонент теории Синтетического изучения искусства Иоффе
- Теоретические аспекты идеологического понимания искусства в трудах Иоффе
- Соцреализм в истории искусства 20 века. Взгляды Иоффе на проблему контекстуализации нового стиля
Введение к работе
Эта работа посвящена современным проблемам изучения советского искусства сталинской эпохи. Материалом для ее написания послужили тексты1 по теории и истории искусства, написанные в 1920-1930-е годы ленинградским искусствоведом Иеремией Исаевичем Иоффе. Если предельно кратко сформулировать тему исследования, то речь пойдет о содержащихся в этих текстах идеях, которые представляют собой обоснование доктрины социалистического реализма и специально затрагивают вопрос о его стилистической концепции. Эти идеи будут рассмотрены в работе как важный материал, необходимый для обогащения современных взглядов на соцреализм и преодоления тех заблуждений, которые в настоящее время существуют по поводу данного явления в истории искусства 20-го века. Поскольку допускаемая нами возможность использования текстов советского периода по искусству в целях корректировки принципов анализа соцреализма, выглядит достаточно спорно, мы бы хотели в первую очередь обосновать данный тезис. Это позволит не только мотивировать идейную направленность предлагаемой работы и ее актуальность, но также объяснить формальную структуру диссертации.
Первоначально интерес к текстам Иоффе возник в связи с обращением к проблематике стиля в советском искусстве и, в частности, к вопросу о влиянии административных решений советского государства по делам искусства в период 1932 - 1934 годов, когда была официально принята доктрина соцреализма, закрылись независимые художественные организации и были вновь созданы государственные союзы деятелей искусств. Тексты Иоффе, содержащие в себе теоретическое изложение принципов стиля советского искусства, были написаны как раз в это время, что и подтолкнуло к их внимательному изучению. Таким образом, сначала Иоффе заинтересовал нас исключительно с точки зрения документально-исторической. Можно было предполагать, что официальные заявления и практическое вмешательство партии в дела культуры непосредственно отразились на его рассуждениях, что само по себе уже должно было послужить полезным материалом в деле изучения советского искусства.
Такое отношение к автору, писавшему в 1930-е годы, вполне подпадает под ту оценку, которую дал советскому литературоведению и искусствоведению Борис Гройс в своей известной книге «Стиль Сталин»: «Изобилие официальной литературы по теории социалистического реализма может вызвать впечатление, что о нем уже достаточно сказано, хотя на самом деле вся эта литература является не рефлексией его механизмов, а их простой манифестацией - советская эстетическая теория, как это часто имеет место и в случае других художественных течений 20 века, представляет собой интегральную часть социалистического реализма, а не его метаописание»2. Разумеется, любое эстетическое высказывание советской эпохи, если оно было предназначено для печати и прошло необходимое испытание цензурой, несет на себе отпечаток времени и соответствует определенным идеологическим стандартам, что справедливо и в отношении Иоффе. Однако в случае с «Синтетической историей искусства» - главным сочинением Иоффе - возможности интерпретации оказались совсем другого масштаба, что и определило общую концепцию диссертации. Эти возможности связаны не с внешним характером самого текста (присутствие официальных формулировок, понятийный словарь, тип цитат, ориентация на актуальный курс партии - борьба с формализмом или против натурализма и т.д.), а с его внутренним содержанием. Ценность идей, которые излагает
Иоффе, объясняя законы стиля в искусстве советской эпохи, в том, что они позволяют рассматривать феномен искусства, детерминированного политическими нагрузками, целиком зависимого от политических условий существования, в гораздо более связном и непротиворечивом виде, чем это имеет место в современной науке. Обоснование, которое получает стиль советского искусства в теории Иоффе, оказывается во многом более логичным, глубоким и убедительным, чем попытки интерпретации языковых средств соцреализма, которые делаются сейчас с большой исторической, и что особенно важно политической дистанции. Исходя из этого, мы хотим сказать, что предложенная Иоффе в «Синтетической истории искусств» концепция соцреализма способна обогатить современный опыт изучения советского искусства и указать на важные принципы, без представления о которых наука, изучающая советское искусство, и прежде всего стиль ее произведений, испытывает теперь значительные затруднения. Причина, которая позволяет нам отнестись к текстам Иоффе не просто как к историческому документу, а как к явлению более сложному с точки зрения своего содержания, связана с тем мировоззрением, от имени которого писал автор «Синтетической истории искусств». Идейную основу трудов Иоффе составляет марксизм, что совершенно логично, коль скоро речь идет о советской гуманитарной науке 1930-х годов. Однако, если мы касаемся проблематики соцреализма - искусства целиком поглощенного идеологическими задачами - этот факт приобретает совершенно новый смысл.
В европейской философской традиции марксизм был тем учением, в недрах которого созрело новое отношение к такому явлению в жизни общества и его истории как политика. Политика впервые была оценена и проанализирована марксизмом как ведущая проблема бытия и сознания. Постигая мир сквозь призму законов классовой борьбы, марксизм распространил влияние политики, ее логики на все сферы существования, в том числе и на сферу духовного, осознав последнюю как область целиком детерминированную политическими интересами класса, т.е. область идеологии. Все это дало толчок для возникновения новой традиции интерпретации явлений искусства как феноменов идеологического свойства. В рамках марксистской традиции были в конечном счете разработаны все те основные проблемы, которые возникают при рассмотрении искусства как субъекта идеологического воздействия и как одной из форм идеологии3.
Это в полной мере касается авторов социологического направления в советской науке 1920-х - 1930-х годов и, в частности, Иоффе. В созданной им «Синтетической истории искусств» развернута выдающаяся по своему масштабу концепция идеологического понимания искусства. Это и составляет сущность нашего интереса к его идеям в данном случае, когда речь идет о вопросах изучения советского искусства. На наш взгляд без обращения к наследию таких искусствоведов-марксистов как Иоффе эффективное изучение соцреализма во многом затруднено. Тексты тех авторов, кто на различных исследовательских уровнях развивал тему отношений искусства и идеологии, описывал искусство как форму идеологии, необходимы для пополнения наших представлений о советском искусстве, которое, как известно, возникло в результате подчинения художественной сферы интересам власти.
Выдвинуть этот тезис нам позволяет как раз тот опыт изучения соцреализма, который мы имеем на сегодняшний день. Сложившаяся за последние десятилетия традиция критического освоения советского художественного наследия свидетельствует, что тема отношений искусства и власти, тема идеологического содержания искусства рассматривается как
важнейшая в изучении советского искусства. Нет ни одной статьи о советском искусстве, ни одной монографии, которая бы не затрагивала такую проблему как «искусство и власть»4. Понятно, что это объясняется самой природой советского искусства, инспирированного государством и его политическими программами. Открыто заявленное советской властью требование подчинить культуру политическим целям, факты использования репрессивных методов для проведения партийной линии в искусстве, невиданный прежде расцвет направляемой политическим руководством цензуры - все это говорит о том, политика и в самом деле определила судьбу советского искусства. Было бы странно отрицать то, что искусство сталинской эпохи не имеет непосредственного отношения к власти, не реализует ее политические программы и не несет в себе ее идеи. Вряд ли бы кто-то решиться оспаривать и тот факт, что творчество писателя или архитектора, работавшего в СССР, было в первую очередь определено воспитавшей его традицией, собственной творческой индивидуальностью, личными впечатлениями от окружающего мира, сексуальным влечением и т.п., а не политическими обстоятельствами его существования.
Разумеется, кратко объяснить возникновение такой специфической культурной ситуации довольно сложно. Однако можно в интересах данной работы обратить внимание на один существенный момент. Приведем здесь классическое высказывание Маркса из «Тезисов о Фейербахе», смысл которого, кстати, является опорным пунктом для теоретических построений Иоффе при рассмотрении соцреализма: «Философы лишь различным
образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»5. Марксизм дал не только новые средства для объяснения действительности и истории, но и для их изменения. Это прежде всего означает, что возникшие в рамках марксизма представления, сколь бы ни были они противоречивы и противоестественны, стали в России основанием для преобразования существующей реальности, в том числе и на территории искусства. Как бы искусство не соотносилось с властью в истории европейской и русской культуры, в создававшихся после революции условиях на территории России эта связь искусства и власти превратилась в самый актуальный художественный вопрос. Благодаря революции возникшая в рамках классического марксизма идея о тотальной зависимости искусства от интересов идеологии стала реальностью для целого периода в истории отечественного искусства. Таким образом, задачи изучения советского искусства сами по себе требуют того, чтобы основное внимание уделялось вопросам отношений искусства и власти. Не вызывает сомнения тот факт, что с исторической точки зрения эта проблематика уже исследована достаточно подробно6. Теперь нет никаких иллюзий по поводу того, на основе чего строились эти отношения на практике. Цензура, администрирование, монополизация художественного рынка, принуждение к эмиграции, эстетическая критика как повод для уголовного преследования так действовало государство, подчиняя себе искусство, так проходил процесс его формирования и институциализации7.
С другой стороны, вопросы, которые выходят за рамки исторического освещения событий и касаются общего осмысления феномена политически детерминированного искусства, пока не решены на требуемом уровне. То есть, другими словами, с теоретической точки зрения тема отношений искусства и власти в нужной мере не освоена. Речь, причем, идет не только о таких конкретных проблемах, как, например, причины обращения советской власти к художественным вопросам или роль государственного деятеля как художника. Важной является сама по себе феноменология искусства как явления идеологического порядка. Не выясненным остается проблематика влияния политики на имманентные свойства искусства, т.е. прежде всего на его форму.
Эта тема остается в целом неразработанной по той причине, что для ее освоения было бы необходимо воспользоваться не только понятийным аппаратом, но и обратиться к основным идеям марксистского мировоззрения. Этого, однако, не происходит, поскольку марксизм не признается эффективным методом исследования как раз в тех случаях, когда речь идет о явлениях советской культуры. Будучи стержнем официальной идеологической платформы советской власти, марксизм не только стал эффективным инструментом, легитимирующим новый порядок, но в условиях культа личности теоретиков диалектического материализма он превратился в некое подобие религиозного учения (откровения). Другими словами, марксизм сам стал, как выразился Гройс, интегральной частью тоталитарной культуры . Таким образом, на пути к освоению марксистских идей об искусстве существует серьезное препятствие. Если авторы марксистского толка и интересуют современных исследователей, то это как правило не касается идейного содержания их трудов.
Примерно так обстоит дело с наследием И.И. Иоффе. Как историк и теоретик искусства Иоффе принадлежал к сложившейся в России после Октябрьской революции марксистской социологической школе. Поэтому обращение к его наследию непосредственно сталкивается с той ситуацией, которой характеризуется отношение к этой школе в отечественной науке. Не будет преувеличением сказать, что советское марксистское искусствознание 1920-х — 1930-х годов в настоящее время заслуживает внимание исследователей только в связи с рассмотрением процесса оформления тоталитарной культуры и ее идеологии. Социологический метод в истории, литературоведении и искусствознании был подвергнут в 1930-е годы жесткой критике со стороны государства как пример вульгаризации марксизма-ленинизма, что и положило конец его распространению в гуманитарной науке. На основе этого факта и формируется отношение к социологическому методу в советском искусствоведении и его авторам. Современную советологию интересует только то, почему социологизм не был признан, что именно в его методике не удовлетворяло политическим интересам власти, шло вразрез с нормами формировавшейся тоталитарной идеологии. В целом же обсуждается единственная тема: как и почему проводилась сталинская ревизия марксизма9. То, что не могло бы стать материалом для критики тоталитаризма, выходит
за рамки интересов и не соответствует методологическим принципам советологии. Таким образом, внутреннее содержание социологического метода, конкретные идеи, их имманентная логика, различные пути социологического исследования искусства - все это оставалось и остается пока вне поля зрения. В целом же историографическая ситуация свидетельствует, что, несмотря на существование богатого по содержанию материала по истории марксистского искусствознания, интерес к нему крайне ограничен.
Отсутствие публикаций и еще в большей степени однообразие интерпретаций социологического искусствознания характеризуют сложившуюся ситуацию. (Можно заметить, что в отношении другого явления в советской науке 1920-х - 1930-х годов, а именно формальной школы все выглядит совершенно иначе. В последние десятилетия были опубликованы все ее программные тексты, а большинство представителей русского формализма и их идеи обратили на себя заслуженное внимание).
Такое невнимание к наследию советской марксистской традиции в искусствознании представляется большим упущением, причем именно со стороны тех, кто изучает теперь советское искусство. Мы не случайно упомянули здесь советологию, т.е. ту отрасль современной науки, которая непосредственно связана с изучением советского культурного наследия. Речь идет об отечественной и западной советологии и тех авторах, кто специально пишет о советском искусстве. Необходимость открытого диалога с текстами авторов-марксистов станет понятной, если мы обратим внимание на ту двойственную связь, которая соединяет современный, исходящий из советологии, этап рассмотрения советского искусства с марксистскими идеями в советском искусствознании. Дело в том, что несмотря на общее недоверие к марксизму в искусствознании современные исследователи советского искусства всегда вынуждены обращаться к тем идеям, которые были предложены и разработаны в рамках марксистского учения. Речь идет о понимании искусства в качестве средства легитимации политической власти, когда язык искусства и его формальные свойства рассматриваются как непосредственный источник политически ценного содержания.
Это тезис выступает в качестве базового во всех случаях, когда необходимо приступить к рассмотрению советского искусства, однако его использование чаще всего имеет отрывочный, некритический и так сказать слепой, бессознательный характер. Последнее приводит, в частности, к тому, что истолкование стиля советского искусства современной наукой оказывается неудовлетворительным, исполненным противоречий. На основании этого тезиса стилистическая неопределенность советского искусства, его эклектичность объясняются тем, что советская власть использовала самые различные формы из истории мировой художественной традиции как политическое оружие, поскольку эти формы имели/имеют в себе нечто такое, что соответствовало политическим интересам советской власти. Другими словами допускается мысль о том, что партия, утверждая в соцреализме формы старого искусства, извлекла из классической традиции необходимый политический капитал.
На наш взгляд подобное допущение несправедливо, поскольку оно не только не имеет достаточного теоретического обоснования, но и приводит к серьезным ошибкам и противоречиям при анализе конкретных явлений советского тоталитарного искусства. Представление о том, что мировая художественная традиция может стать эффективным средством идеологического воздействия в условиях политической диктатуры является не более чем одним из допустимых в рамках марксистского мировоззрения взглядов на проблему искусства. Однако насколько этот взгляд соответствовал действительной истории формирования советского искусства, следует еще доказать. С другой стороны, некритическое освоение этого тезиса, что как раз имеет место в современной науке, наглядно демонстрирует его ошибочность. Как представляется нам, для того чтобы составить достаточно прочное представление об идеологическом функционировании искусства в СССР, необходимо более внимательно отнестись к марксистской эстетической теории в целом и в частности к тем концепциям искусства, которые бытовали в реальности советской культуры, и в которых эта реальность находила свое отражение.
В границах этой проблематики осуществляется в диссертации обращение к текстам Иоффе. В его теории изложена оригинальная концепция искусства, целиком зависимого от политических интересов государства. Обращение к наследию Иоффе позволит восполнить тот дефицит сведений о логике идеологического функционирования искусства, который испытывает современная наука при необходимости интерпретировать соцреализм. Другими словами, текст Иоффе будет рассмотрен как явление, раскрывающее внутреннюю логику идеологического функционирования искусства в СССР. Это также означает, что на автора Теории синтетического изучения искусства мы будем смотреть не как на ученого-историка искусства в привычном смысле этого слова, а как на теоретика, мыслящего идеологическими категориями и развивающего в своем тексте программу искусства в соответствие с данными политическими условиям. Этот исследовательский фокус диссертации определяет также и отношение к традиционным задачам, которые обычно связаны с изучением истории науки. В центре нашего внимания будет не конкретный исторический материал, характеризующий личность Иоффе и события его научной карьеры, а исключительно текст. Речь также не пойдет и о тех связях, которыми связана теория искусства Иоффе с традициями и течениями в западной и отечественной гуманитарной науке, поскольку это не затрагивает тему нашего исследования. В поле зрения будут прежде всего те идеи Иоффе, которые позволяют определить связь искусства и политики в истории советского искусства в период формирования стиля соцреализм.
Советское искусство безусловно рассматривалось властью и в действительности было ее идеологическим оружием, т.е. специальным средством, которое обеспечивает власть, укрепляет ее. Нет ничего удивительного в том, что для Иоффе, как и для современной советологии, вопрос о связи политики и искусства является центральным при рассмотрении проблематики соцреализма. Однако господствующие в современной науки интерпретации этой связи не только принципиально отличаются от идей Иоффе, но и содержат в себе противоречия, которые указывают на не преодоленные ошибки и недостатки. Именно в свете этих противоречий угадывается актуальность трудов Иоффе. Предпринятое нами обращение к советскому искусству и его истории направлено на то, чтобы выработать новый взгляд на соотношение политики и искусства и вместе с тем предложить новую интерпретацию событий возникновения соцреализма - официального стиля сталинского СССР. Эта интерпретация, которая позволяет преодолеть ключевые противоречия существующих представлений о феномене соцреализма и прежде всего о стиле его произведений, находится в большом долгу перед идеями Иоффе. Она показывает то, насколько могут быть интересны и актуальны воспринятые по-новому идеи советского искусствоведа. Наша цель, таким образом, не только преодолеть исторический и идеологический барьер, который существует между современностью и искусствоведческими текстами советской эпохи, но и эффективно использовать их идейный потенциал для решения современных искусствоведческих задач в совершенно конкретной области - истории советского искусства сталинской эпохи.
Сделанное выше указание на зависимость современных исследователей соцреализма от тезисов, принадлежащих советскому идеологизированному пониманию искусства, может показаться необоснованным. Этому противоречит значительное число научных работ о советской культуре, которые исследуют ее с самых современных теоретических установок, не имеющих отношения к идеям диалектического материализма. Однако при внимательном изучении текстов новейших исследователей советской культуры использование ими логических конструкций марксистского метода в искусствознании становится очевидно.
Одной из наиболее характерных черт сталинской культуры была ее убежденность в собственной целостности. Тексты ее самоописания призваны внушить нам, что мы имеем дело с неким абсолютно целостным мировоззрением, в котором органически соединены политика, экономика и культура, отсутствуют противоречия между личностью и обществом, индивидуальностью и нормой, мышлением и действительностью, произведением искусства и жизнью. С точки зрения этой культуры, все, что происходит в ней, происходит в пространстве полной свободы, и поэтому, во-первых, обладает внутренним единством, а, во-вторых, органично вписывается в саму реальность, является ее венцом. Конец сталинизма, а затем и всей советской эпохи в истории России явился общим доказательством ложности исторических, экономических, эстетических и проч. притязаний этой культуры во всех тех формах, которые она принимала в течение многих десятилетий, начиная с 1917 года. Таким образом, традиция критического рассмотрения феномена цивилизации советского типа обрела основной, итоговый аргумент своей правоты. Однако этот факт вовсе не означает, что современная критика обладает внутренним единством мнений. Здесь мы имеем известное разнообразие методов анализа и способов объяснения истоков этого исторического явления, характера его эволюции, природы основных движущих сил, материальных форм его культуры. Разумеется, такая ситуация вполне закономерна - в этом отражается реальное состояние исторических дисциплин в современной науке. Но, несмотря на разнообразие подходов и выводов, в большинстве исследований последних лет, прослеживаются некоторые общие принципы в понимании связи искусства и политики. В полной мере это касается рассмотрения вопроса о законах формообразования в советском искусстве (имеется в виду не только изобразительное искусство, но также литература, архитектура, кино). Обращает на себя внимание тот факт, что объяснение этой связи повторяет целый ряд канонических положений марксистско-ленинской эстетики.
Как уже было отмечено выше, отказ марксизму в исторической правоте (по крайней мере марксизму в том его варианте, который разрабатывался в СССР) имеет основополагающее значение для всякой работы, нацеленной на объективный анализ советской культуры. Самоописание советской культуры, основанное на положениях марксизма, признается ложным, в связи с чем и возникает необходимость рассматривать по-новому этот феномен, искать в нем объективные связи и закономерности, но уже на основе других, далеких от марксизма теоретических предпосылок. Однако ряд специфических эстетических положений, которые постулировались и присваивались искусству в рамках советской культуры, продолжают использоваться ее критиками в качестве ключевых для объяснения законов формирующих соцреализм как особый стиль, своеобразный язык.
Стиль советского искусства выводится из общего представления о том, что используемые в соцреализме традиционные по своему происхождению художественные формы непосредственно несут в себе политическое содержание, т.е. являются политическим оружием в руках партии. Таким образом, один из возникших в рамках советской эстетики тезисов, который гласит, что между политикой партии и классическим художественным наследием есть внутреннее родство, оказывается базовым понятием и для критики советской культуры.
Примат политики над искусством в случае соцреализма очевиден, однако сама очевидность факта влечет за собой вопрос, ответ на который получить гораздо сложнее, чем признать сам факт: каким образом мог осуществляться обмен между искусством и политикой, как интерпретировать феномен превращения искусства в политическое оружие? Все это пока остается не ясно. Отсутствие твердых теоретических представлений об этом и заставляет некритически использовать те принципы идеологического понимания искусства, которые теоретически разрабатывались самой советской культурой. В результате современное представление о соцреализме является переосмыслением и переработкой той бытовавшей в советское время точки зрения, согласно которой соцреализм и классика мирового искусства идейно родственны, обладают внутренней связью. Однако, не вызывает сомнения то, что такой взгляд на связь советского искусства с политикой является слишком ограниченным и требует пересмотра. Главным его недостатком оказывается как раз недостаточное внимание к различиям между соцреализмом и той художественной традицией, на основе которой создавались произведения советского искусства.
Если современное искусствознание обладает достаточным теоретическим опытом, объясняющим влияние на судьбы искусства индивидуальной одаренности, национальной идентичности, имманентных закономерностей художественного процесса, тендерных факторов и т.д., то, судя по результатам изучения советской культуры, в отношении политического влияния на искусство, проблема остается по многим пунктам не решенной. Свидетельством тому может послужить вышедшая в 2000-м году на русском языке книга «Соцреалистический канон». Это результат пяти конференций и междисциплинарных исследований, проходивших на протяжении нескольких лет в университете Билефельда. Более тысячи страниц этого сборника объединили труды многих авторитетных исследователей советской культуры со всего мира. Но, несмотря на разнообразие подходов и поднимаемых проблем, вопрос о том, каким образом формируется под влиянием политики художественная форма, как политические интересы сказываются на языке искусства получает здесь решение, которое следует признать неудовлетворительным. Если кратко сформулировать общепринятую логику, то можно заметить, что она основана на рассмотрении произведений советского искусства и свойственных советской культуре мифов с точки зрения тех политических функций, которые могли выполнять известные для истории искусства, входившие в их состав, мотивы, жанры, художественные концепции. Основной сюжет истории советской культуры определяется здесь тем, что власть в своих интересах использовала готовые средства из культурной традиции, обнаружив в них необходимый источник политически ценного содержания, уловив потенциал их возможного политического использования. Возможность синтеза политики и искусства объясняется тем, что само искусство оказалось генетически близко к политическим интересам тоталитарного государства. В результате при помощи классического культурного наследия новый политический режим сумел обрести свою легитимность в истории. Рассмотрим эту проблематику подробнее.
Если для Ленина прямая функциональная связь политики и искусства имела определенные философские объяснения10, то современный исследователь советской культуры, как можно убедиться, вынужден принимать эту связь как историческую данность, не вдаваясь в понимание того, как именно могла осуществляться эта связь на самом деле. Такая зависимость от логики леворадикальной политической мысли связана с необходимостью объяснить тот неоспоримый факт, что целиком подконтрольное интересам власти советское искусство действительно создавалось на основе использования уже известных приемов и мотивов, художественного языка культурной традиции. Поскольку присутствие в произведениях архитектуры и живописи соцреализма элементов классического искусства, бытописательского реализма или, например, конструктивистских форм не вызывает сомнения, то, следовательно, это должно было отвечать политическим задачам государства. Таким образом, на признании внутренней близости художественной традиции и политических интересов советской власти строится значительное число аналитических суждений о феномене сталинской культуры, связанных с проблемами идентификации ее языка. Любая попытка по-новому описать советскую культуру, создать на месте официальных мифологем и идеологем объективную картину истории советского искусства, обнаруживает необходимость в привлечении вполне ленинской по своей радикальности идеи о возможности политически мотивированного и преднамеренного использования уже закрепленных в истории художественных концепций и форм.
Например, полемизируя с теорией Гройса о главенствующей роли авангарда в оформлении проекта тоталитарной культуры, один из ведущих исследователей соцреализма Ханс Гюнтер пишет: «В процессе формирования тоталитарных культур все элементы, заимствованные от авангарда, проходят строжайшую функциональную селекцию, причем отбирается лишь полезное с официальной точки зрения. 1920-е годы в советской культуре представляют собой огромную лабораторию, в которой проводился эксперимент по созданию социалистического реализма»11. Принципы работы этой лаборатории основывались, по мнению автора, на сознательно проводимом отборе (разумеется, не только из современной культуры) всего того, что позволяет укреплять власть. Советская культура востребует из традиции монументальные формы классики, т.к. это необходимо для репрезентации идеи господства, для подавления человеческой личности, для утверждения вневременного вечного статуса СССР. Китчевый характер советского искусства, стилистически отсылающий к натурализму и салонному искусству, понимается как условие навязывания сладкой мечты, скрывающей суровые будни стройки социализма. Жизнеописательный реализм - дань традиции, необходимость учитывать местный колорит российской культуры, исторически свойственные ей формы (чтобы проще было манипулировать сознанием людей, предлагая ему под видом ценностей старой культуры новые, выгодные режиму идеологические представления). Таким образом, в описании Гюнтера эклектичное собрание форм советской культуры приобретает внутренний смысл, их соединение оказывается закономерным. Все вместе - это результат утилизации культурной традиции в целях осуществления при помощи ее форм политического господства12.
Искусство легитимирует власть в прошлом и настоящем. Язык искусства, способный задевать глубинные пространства человеческого сознания, становится на службу политическому прагматизму. Примерно так, как об этом заявлял в 1933 году московским художникам идеолог Иван Тройский: «Если мы будем использовать примерное определение, то можно сказать, что социалистический реализм - это Рембрандт, Рубенс, Репин на службе рабочего класса».
Соцреализм не только утилизирует определенные мотивы и приемы классического и современного искусства для создания эффективного оружия пропаганды. Сама идея использования искусства в политических целях, т.е. в целях укрепления власти, может рассматриваться как результат заимствования.
Бернис Розенталь в статье «Соцреализм и ницшеанство» связывает происхождение основной стратегии официальной советской культуры с идеями немецкого философа. «Он (Ницше - А.К.) описал связь искусства, лжи, мифа и жизни. Поэтому создатели соцреализма (Луначарский и Горький) адаптировали концепцию искусства-лжи (взятую из учения Ницше) для защиты и укрепления власти Новая форма искусства должна была укреплять мораль, поддерживать перманентно высокий градус энтузиазма масс и предупреждать критику партии, поставляя вдохновляющие и заслуживающие доверия (отсюда потребность в реалистических формах) образы новой действительности, прямо противостоящие фактическому опыту людей»14.
Согласно данному пониманию логики политического функционирования искусства, также как формы стиля или философская идея частью соцреалистического канона становятся целые внеисторически существующие пласты культуры, априорные модели человеческого поведения. Евгений Добренко, автор статьи «Соцреализм и мир детства», рассматривает политический режим в сталинском СССР как результат утверждения в общественных отношениях идеи патриархальной семьи (здесь он во многом следует той традиции изучения соцреализма, которая связана с именем американской исследовательницы Катерины Кларк). По мнению Добренко такого рода взаимоотношения специально насаждались властью. Это было необходимо для оформления живых социальных связей в государстве, поскольку, как замечает автор, «политические мифы лишь формулируются вне массы, но не живут вне ее; социальный вакуум губителен для политического мифа»15. Миф необходимо было сделать реальностью, только тогда новый порядок будет надежно защищен; этим мотивировано обращение к определенным формам культурной традиции. Источником адекватных форм, способных заполнить вакуум, созданный мифом, оказывается архаичный мир семейных отношений, скрепляющих нерушимыми родовыми связями отца и детей. Анализ сталинской культуры, проделанный на основе данного тезиса, поддерживается мыслью, что «соцреализм, будучи языком власти и массы, не создает своих художественных кодов, но использует уже наработанные культурой, внутренне их перестраивая». При этом (далее Добренко цитирует слова Сергея Зимовца «Дистанция как мера языка искусства» // Даугава. 1989. №8 с.248.) «из множества социо-культурных кодов выбираются наиболее устойчивые, суггестивно наработанные, наиболее действенные и «физиологически» простые, ближе всего стоящие к бессознательному опыту массы, врожденные ей как способы ее автоматического бытия»16.
Исходя из того же комплекса причин, в статье «Возвращение в рай: соцреализм и фольклор» Урсула Юстус рассматривает историю народного творчества в СССР в 1930-е - 1950-е годы. Возрождение фольклора сталинским режимом, огромное к нему внимание институции советской культуры, популярность таких народных певцов как Соломон Стальский или Джамбул Джубаев объясняется той специальной политической функцией, которую призвано было исполнять «народное» искусство в стране строящегося социализма. Здесь «фольклор не только служил пропаганде новой советской действительности в традиционных и доступных широким массам формах Тексты советского фольклора, превращенные в фактографические документы, принимали, таким образом, участие в сталинском мимезисе, в котором они отражают не «объективную» действительность, но предписанную ей фикцию. Обладая способностью превращения реальности (в том числе и прошлого) в мифологию, фольклор вместе с литературой оказывается средством замены советской действительности 1930-х годов мифической современностью фольклорных текстов»17. То же самое мы читаем по поводу природы советского фольклора в книге Катерины Кларк «Советский роман: история как ритуал»: «преимущественной функцией «фольклорной» литературы 1930-х годов была легитимизация сталинского руководства»18. Таким образом, свойственная народному искусству мифологизация действительности используется властью как готовое к употреблению политическое оружие.
Как можно убедиться, связать стиль соцреализма с интересами власти удается и в том случае, если он будет рассмотрен в категориях психоанализа. Так, например, Ханс Гюнтер объясняет природу образа героя в тоталитарной культуре: «Пропагандирование молодого героя может быть очень хорошо использовано для целенаправленного достижения психической инфляции, то есть, героического раздувания инфантильного Я. Увековеченный архетип молодого героя нацелен на то, чтобы препятствовать взрослению «сыновей-героев» и всех, кто идентифицирует себя с ними, а право на зрелость оставить исключительно за мудрыми «вождями-отцами» .
Приведенные примеры интерпретации сталинской культуры указывают не только на сходство современных подходов с некоторыми идеями марксистско- ленинской эстетики о политических функциях культурного наследия, но и дают также возможность оценить характер имеющихся разночтений. Как можно убедится, последние связаны с критической переоценкой общественно-исторической сущности советской власти и носят потому этический смысл. По мнению критиков, идеологическая программа режима не имела никакого положительного содержания и не преследовала никаких других целей кроме специфических интересов укрепления власти как таковой. Отсюда возникает новое качество в объяснении связей искусства и политики. Влияя на искусство и создавая его, государство действительно обращалось к художественной традиции, но только заимствования из нее шли не по официально обозначенному принципу «прогрессивное»/«упадническое», «идейное» / «безыдейное», «народное»/«антинародное», как о том говорилось в 1930-е - 1950-е годы. Государство интересовалось тем искусством прошлого и настоящего, которое было способно служить укреплению власти, усилению позиций правящей политической силы, созданию выгодного имиджа существующего режима и его вождей.
Не вызывает сомнения, что необходимая критическая переоценка нравственного содержания советской политики, а, следовательно, и советского искусства заставляет нас совершенно по-другому, чем это допускается советской идеологией, взглянуть на вопрос о связи художественной традиции и политики в рамках советской культуры. Для упомянутого нами партийного функционера от культуры Гронского мысль о том, что искусство, традиционные духовные ценности человечества могут служить политическим целям, не содержит в себе никакого противоречия.
Поскольку коммунизм, к которому устремляется политика партии, полагается как высшая форма гуманизма, то все, что ведет (или вело в прошлом) к его победе, имеет тот же высокий статус. Политическое использование искусства партией и государством есть с этой точки зрения высшее благо для самого искусства, оно аутентично его природе. Искусство всегда было связано с политикой, а в наступившую эпоху социализма эта связь только достигла своего синтеза.
Сейчас очевидно, что тождество политической системы тоталитарного государства и высших достижений художественной традиции признать так же сложно, как и то, что исторически искусство всегда было целиком зависимо от вопросов идеологии, что идеологический смысл произведения исчерпывает смысл художественный. Взятая сама по себе, данная эстетическая программа исполнена неразрешимых противоречий. Однако, поскольку для ее утверждения использовался весь авторитет государства, стало возможным возникновение искусства, которое и в самом деле представляло собой насквозь идеологизированное явление. Последнее действительно является историческим фактом и указывает между прочим на инновационный характер данного феномена. Соцреализм никак не тождественен художественной традиции, по сравнению с ней он представляет собой нечто иное. Это значит, что в самой художественной практике, т.е. в реальной истории культуры была решена в условиях тоталитарного общества неизвестная другим эпохам эстетическая задача -создание политически эффективного искусства, искусства чистой политической функции.
Тот факт, что для создания советского искусства действительно были использованы классические стилистические модели, заставляет теперь думать, что именно они были здесь главными носителями политического содержания. Однако при таком подходе остается не учтенным выявленное нами актуальное противоречие, которое существует между политическими целями советской власти и художественной традицией. Большевики использовали художественное наследие в политических целях, но сделали они это не потому, что классика родственна политике с точки зрения традиционных норм гуманизма. Они обнаружили в художественной традиции нечто совершенно новое - оценили возможность ее использования в антигуманных целях, для эстетического оформления основанного на насилии режима. Обращение партии к художественной традиции было связано с примитивными интересами укрепления власти, то, к чему культурная традиция в целом не имела прямого отношения. Таким образом, она была насильно вовлечена в сферу политических интересов государства, что и привело в итоге к возникновению соцреализма. Однако факт насилия еще не позволяет снять вопрос о наличии противоречия между политическими интересами советской власти и художественной традицией и объяснить те формообразующие законы, в силу которых в искусстве возникло совершенно новое явление.
Если мы допускаем, что советская власть действительно успешно утилизировала в политических целях духовные ценности мировой культуры, то в таком случае следовало бы также допустить, что эти духовные ценности должны были сохранить в новых условиях свою идентичность и действенность. На этом основывается вся логика рассуждений о том, почему партия обращается к классическому наследию европейской культуры. Язык классического искусства именно благодаря своим имманентным свойствам потребовался для создания образов светлого, прекрасного, вечного - того, с чем стремилось отождествить себя сталинское государство. Следовательно, классика остается классикой, даже если она служит делу пропаганды тоталитарного режима. Речь, очевидно, идет не только о конкретных мотивах (например, о пропорциях или элементах ордерной системы), но и о самой идее классического искусства во всей его духовной целостности, универсальности ее внутренней структуры. Так, во всяком случае, рассуждают те авторы, которые, ссылаясь на идеи «античного искусства», «реализма», «романтизма», стремится объяснить присутствие элементов языка старой культуры в тексте произведений соцреализма и принципы политического функционирования советского искусства.
Однако такое понимание использования в соцреализме классических художественных идей несет в себе неразрешимое противоречие. Большевики говорили о величайшей жизненности классических традиций, об их значимости и при этом добавляли, что заключенный в них дух способен выполнять политическую работу, воздействовать на общественное сознание, но не со знаком минус, как объясняет современная критика, а со знаком плюс - для воспитания высших нравственных ценностей, для укрепления радостного мироощущения, для украшения советской действительности. Поэтому с точки зрения эстетики соцреализма, классика и соцреализм тождественны, они одинаково духовны, причем в самом традиционном смысле. Однако в рамках современных представлений о политических задачах советской власти, принять такое тождество не представляется возможным: в этой политике, главным инструментом которой являлось насилие, а целью - власть (во всяком случае в тот период истории советского государства, когда формировался соцреализм), нет ничего, что могло бы быть признанно соответствующим ценностям, заложенным в художественную традицию. Поэтому и существующие взгляды на использование советской властью форм старой культуры должны быть пересмотрены.
Теперь, когда политические цели, в которых советская власть использовала художественную традицию, были рассмотрены по-новому, когда есть возможность оценить природу ее интереса к искусству, можно понять всю новизну данной эстетической установки. Добившись того, что искусство вообще и художественная традиция в частности стали в ее руках политическим оружием, советская власть осуществила эстетическую инновацию. Художественная традиция стала тем, чем она до этого никогда не была - политическим оружием. Мотивы классического искусства были использованы в таких целях, к которым они генетически не имели никакого отношения. Поэтому следовало бы говорить о том, что использование традиционных форм и мотивов в политических целях целиком меняет внутреннюю природу этих форм, целиком их перестраивает. Всякое рассмотрение феномена тоталитарного искусства на основе анализа его традиционных черт, без учета свойственной этому стилю новизны будет неизбежно наталкиваться на неразрешимые противоречия.
Если мы станем, к примеру, анализировать характер композиций и стилистические приемы многочисленных произведений живописи и скульптуры, посвященных изображению Сталина, то нетрудно будет убедиться в том, что мы имеем дело с культурой, в которой большую роль имели некие религиозные представления. Такой вывод позволяет сделать наш опыт знакомства с культурной традицией - мы можем наблюдать в этих произведениях известные формы и мотивы религиозного искусства (специфический характер композиционных построений, световое решение, психологически аспекты и т.д.). Очевидно, что мы в праве задать вопрос о том, чем мотивирована эта вера, почему используется язык религиозного искусства.
Если мы можем констатировать наличие культа вождя, то скорее всего следовало бы предположить его искусственное происхождение, как это и делается большинством авторов. Он порожден культурной политикой государства, заинтересованной в тех формах репрезентации, которые поддерживают власть наиболее эффективным способом. Однако при такой постановке вопроса оказывается весьма сложно решить проблему происхождения форм этого культа. Раньше, в других исторических условиях, религия, никак не сводимая к политическим интересам власти, порождала определенные формы культа и вместе с ним формы религиозного искусства. Теперь же приходится предполагать, что использованные государством формы религиозного искусства сами порождают религиозный культ как феномен общественной жизни. То есть его формальные элементы создают культ, снова проигрывая как по нотам когда-то имевшую место в истории культурную парадигму.
Если исторически существовало тождество между формальной стороной и самим содержанием культа, то в случае советского культа вождя мы имеем дело с несоответствием между формой и содержанием. Наблюдается политическое - насильственное использование форм. Форма, аутентичная культуре, исторически зависевшей от религиозных представлений, не имеет ничего общего с теми целями, в которых она используется в новых условиях. Принципы формообразования в советском искусстве иные - они мотивированы политически. Следовательно, их подлинное содержание теперь, в контексте сталинской культуры, становится политическим. В таком случае рассуждение упирается в непреодолимое противоречие. С одной стороны, сами по себе формы порождены закономерностями истории культуры, не имеющими отношения к политике. С другой стороны, эти формы становятся проводниками нового политического содержания, т.е. из них извлекается то, чего в этих формах никогда не было. Единственным выходом из этого тупика будет признание того, что связь политики и искусства в советской культуре имела иной характер, и источники возникновения тоталитарного культового искусства имеют более сложный характер.
Например, с точки зрения Владимира Паперного, автора книги «Культура-Два», посвященной описанию форм сталинской культуры, выход из этой ситуации обнаруживается в объяснении сталинской культуры без учета политики как основной культурной составляющей - ее формообразующей силы. История культуры в его понимании имеет циклический характер. Когда в самой реальности возникает культ - тогда возникают формы репрезентации культа. Возрождение религиозной формы культуры ставится им в связь с внутренней структурой советского общества, типологически повторяющей общественную структуру средневековой Руси с ее византийской идеей божественного происхождения власти. Сталин действительно превратился в подобие бога, и искусство - это форма репрезентации духа эпохи, породившей данный культурный феномен.
Очевидно, что подобное описание характера советской культуры также не выдерживает критики. Если предполагается, что сталинизму соответствует вполне традиционная форма культуры, то в таком случае в нем нет ничего нового. Она есть либо провал в мифологию, возвращение в некое первобытное состояние, либо результат действия каких-то циклических законов культуры. Однако нельзя не видеть оригинальности этого культа. Если же мы будим заострять внимание только на общем с предшествующими историческими эпохами, то мы упустим оригинальность.
Разумеется, нельзя отрицать того, что в отдельные периоды истории искусство имело прямое отношение к политическим интересам власти и до возникновения советской культуры (например, в наполеоновской Франции). Однако только в соцреализме политическое содержание стало играть роль смыслового центра. В отношении политической содержательности этому искусству нет равных, и, оценивая смысл соцреалистического произведения через политический коэффициент использованного при его создании классического мотива, невозможно прийти к верным выводам относительно его специфики. Это не позволяет правильно определить сущность произведения соцреалистического стиля, выяснить его структурные характеристики. Очевидно, что соцреалистическое произведение формально устроено так, что его политическое содержание имеет гораздо более интенсивный характер, чем может дать использованный при его создании классический прототип. Политическая составляющая в соцреализме вытесняет все другие смысловые слои, тогда как в досоциалистическом искусстве ничего подобного не было.
Художественная форма, созданная не в рамках соцреалистического канона, гораздо многозначное по содержанию, его контекстуальные связи значительно шире, круг формирующих ее факторов несравненно богаче. Именно с этим связано принципиальное отличие стиля сталинского искусства от всей предшествующей ему культурной традиции. Здесь подобная многозначность отрицается в принципе, более того, она должна быть подавлена. С точки зрения норм соцреалистической эстетики выход содержания произведения за рамки политических задач, рассматривается как тревожный признак плохого качества. Идеальной формой в соцреализме может быть названа только та, весь смысл которой редуцирован до чистых политических значений, т.е. до значений идеологически максимально адекватных. На основе такой эстетической программы и идет процесс стилистической обработки классического мотива. Чтобы стать подлинно политической - соцреалистической - формой, классический мотив должен внутренне преобразиться, стать чем-то совершенно новым. Поэтому соцреализм не может быть рассмотрен адекватно как стиль, извлекающий из культурной традиции политическое содержание. Соцреализм - это стиль, который сам порождает политическое содержание, он превращает художественные ценности старой культуры в политические, обрабатывает их так, что политическая функция становится единственным содержанием искусства.
Тот факт, что художественное наследие претерпевало в рамках советской культуры глубокое переосмысление, а вместе с тем и преобразование, не вызывает сомнения. При этом характер изменений, затронувших традиционные элементы изобразительного языка, свидетельствует о невозможности определить их смысл с традиционных эстетических позиций, что, между прочим, прямо связано с проблемой качества. Если допустить, что именно «учеба у классиков», обращение к культурному наследию человечества позволили большевикам увязать политический миф с реальностью, то в таком случае следовало бы ожидать, что конкретные произведения этой культуры должны представлять собой образцы художественного качества, соответствовать рангу исторических прототипов. Иначе, каким образом посредственное искусство могло бы выполнять предложенную ему функцию? Однако на деле «язык власти и массы» не выдерживает никакой критики с точки зрения традиционных норм оценки художественного качества. Внутренне перестроенные, по-своему переработанные советским искусством социокультурные коды и художественные традиции, несмотря на определенное соответствие прототипам, не могут быть идентифицированы с точки зрения качества. На фоне генезиса той или иной изобразительной формы опыт использования сходного мотива в произведении советского искусства как раз выделяется либо своей тривиальностью либо вообще вопиющей безграмотностью. Всегда с точки зрения выработанных культурой норм вкуса перед нами будет общее место, посредственность, но не вызывает сомнения тот факт, что именно такого рода решение соответствовало новым нормам стиля.
Тривиальность формальных решений затрудняет возможность стилистической идентификации произведения. Его связь с историческим прототипом оказывается неопределенной, двусмысленной. Невозможно говорить о прямом влиянии, т.к. остается не ясен принцип заимствования, смысл именно такого способа обращения с источником. При этом очевидно, что изменения, которым подверглись традиционные формы, несут основную смысловую нагрузку в соцреализме. Именно они превращают традиционные мотивы в политическое оружие партии. Это, на наш взгляд, говорит о том, что подход к изучению соцреализма, основанный на анализе политического содержания самих использованных в нем форм классического искусства или авангарда, содержит в себе ошибку. Чтобы адекватно анализировать соцреализм, необходимо в первую очередь принимать во внимание тот факт, что только преобразование взятой из художественной традиции формы создает соцреалистическую форму - насыщенную политическим содержанием. Поэтому сам собой напрашивается вывод, что только правильная оценка характера этих преобразований позволит отказаться от ошибочных эстетических оценок произведений соцреализма и выйти к пониманию той особой системы ценностей, которую выработала эстетика тоталитарного искусства.
Изменение контекста вырванного из истории культуры мотива влечет за собой изменение его содержания, но, как мы видим, при описании советской культуры на место контекста заступает абстрактная категория политической функции, идея политического прагматизма, руководящего эстетическим отбором. Такой принцип описания оставляет неясным, что именно происходит, например, с классикой, когда она подвергаются политической утилизации. Политика, интересы власти рассматриваются в качестве казуального объяснения присутствия в сталинской культуре уже известной философской идеи или художественной концепции. При этом сама власть, генератор политической (творческой) активности, остается некой непознаваемой вещью в себе, способной принимать при случае любую конкретную форму, удобную для осуществления господства. Очевидно, что понимание природы основного протагониста советской культуры - власти -как чего-то бесструктурного, внеисторичного, абсолютного не может удовлетворять целям критического анализа.
В вопросе об источниках программы соцреализма обнаруживается сходство между концепцией Бориса Гройса о ведущей роли авангарда в истории создания соцреализма и мнением тех авторов, кто полемизирует с этой точкой зрения (например, Гюнтер, Ленерт). Согласно концепции Гройса, изложенной в книге «Стиль Сталин» истинным автором советской культуры является только Сталин, однако культурно-историческая роль его не самостоятельна20. Созданный и. практиковавшийся русским авангардом абстрактный образ демиурга, избранного художника, которому дано право участвовать в преобразовании мира, обретает в Сталине и его политической деятельности реальные исторические черты. Отсюда берется и способ рассмотрения советской культуры - тот же, что адекватен для произведений эпохи модернизма. Цель анализа - увидеть произведение с авторской концептуальной точки зрения, ибо только автор в случае авангардного искусства соответствует образу идеального созерцающего лица — единственного зрителя, способного улавливать истинный смысл. Реконструкция этого зрителя и есть в конце концов задача критика. Если Гройс принципиально настаивает на этом, то большинство исследователей соцреализма, отвергая мысль об авангардной природе советской культуры, тем не менее анализируют ее с подобных методологических позиций. Произведение соцреализма рассматривается ими с точки зрения косвенного автора - партии и ее вождя, а цель этого рассмотрения - выяснить, какой материал из сфер культуры использовала власть для осуществления
необходимой политической задачи. Можно заметить, что при таком подходе за творческим актом сохраняется своего рода мистическая аура, то, на что обычно ссылаются при описании произведений авангарда. Изначальная природа художественного проекта мыслится как нечто иррациональное, укорененное в глубинах творческого я (не важно политическое оно или эстетическое). Это творческое я (Сталина или Малевича) свободно существует в пространстве и времени, придавая форму хаосу, схватывая и закрепляя в творческом акте существенные стороны бытия (духовного или социального).
Противоречие в таком понимании творческого начала в искусстве соцреализма обнаруживается на самой поверхности вопроса, если увидеть его с исторической точки зрения. С одной стороны, история советской культуры совершенно справедливо представляется как неумолимый процесс подчинения независимого творчества отдельных художников и группировок воле партии. С другой стороны признается, что образцовое произведение соцреализма есть продукт политического творчества партии, результат ее свободного, ничем не сдержанного творческого усилия (определяемого только через внутреннюю природу власти и ее интересов). Теоретически, это противоречие между свободой и несвободой может быть снято только в очень условных рамках. Административно давя на искусство (как на определенную социально организованную структуру), партия смогла выделить из него своего рода эссенцию политически ценной формы: политическое давление мистическим способом преобразовывалось в материальные формы произведений.
Однако такое допущение кажется малоубедительным в силу своего откровенного идеализма. Выбор художественных средств, необходимых для создания политически полезного искусства, рассматривается здесь как результат осознанных действий партии (сравнимых с аналитической работой мастеров русского авангарда, например, Татлина, работавшего с различными естественными и искусственными материалами ). При этом сама реализация в искусстве партийной воли носит подчеркнуто бессознательный характер, поскольку конкретный исполнитель (художник) прямо не участвует в творческом процессе, т.к. не является субъектом власти. Последний, следовательно, должен был интуитивно (сердцем, как писали об этом в 1930-е годы) сделать правильный выбор. Однако можем ли и мы, рассматривая исторически советскую культуру, допустить ситуацию, в которой основной закон формообразования рассматривается как процесс сознательного давления со стороны партии на интуицию художника? В таком случае мы только повторим ход мысли сталинского официоза, не видевшего в этом трагического для судеб искусства противоречия.
Можно убедиться в том, что голый факт политического функционирования искусства не позволяет нам объяснить того, каким образом политическое содержание абсорбировалось искусством, как политика входила в искусство. Но именно отсутствие решения этого вопроса позволило создать Гройсу одну из самых смелых концепций советской культуры. Не испытывая никаких затруднений с интерпретацией фактов советской истории и культуры, он доказывает, что не политика вошла в искусство, а искусство вошло в политику, обеспечив новую власть основным стратегическим оружием и целиком сформировав его концептуальную структуру. Блестяще выполненная работа по сравнению концепций русского авангарда и опыта строительства советской культуры вождями партии обладает такой убедительностью именно потому, что она дает ясный, хотя и основанный на исторически труднодопустимых предпосылках, ответ, каким образом политика соединилась с искусством. Здесь хорошо известные и довольно определенные в своей эстетической сути концепции русского авангарда иллюстрируют те принципы, которые формируют как загадочные произведения соцреализма, так и рационально необъяснимые личины вождей революции и их действия. Связь политики и искусства под общим знаменателем творческой деятельности русских футуристов и супрематистов становится ясной, теряет свою конфликтную напряженность.
Однако допущение, что искусство может «естественно» прорасти в политике, кажется нам таким же демаршем, как и мысль о том, что политика прорастает в искусстве, находя в нем словно заранее приготовленные питающие силы. В обоих случаях движущие мотивы сталинской культуры оказываются за пределами исторической реальности. В мистике творческого акта идея тотальной власти обретает чувственную форму и задает действительности нужное направление. Можно только согласится с тем, что автор книги «Стиль Сталин» и не пытается отрицать этого. По его мнению художники русского авангарда эвристическим способом вывели на свет губительные для России теории и идеи, смогли вдохновенно соединить политику и искусство.
Идеализация творчества как особого рода деятельности человека оказывается необходимым условием для объяснения соцреализма с точки зрения тех политических функций, которые он призван был выполнять. Культурная традиция мыслится как своего рода архив, хранящий в себе средства, способные в чьих-то руках стать орудием для осуществления тоталитарного господства над обществом. Согласно принципу real politic происходит отбор нужных философских идей и художественных концепций. Партия, как авангардистский демиург форм и пространств, указует им соответствующие места и конфигурации, так как заранее обладает необходимым знанием (важнейший момент для идентификации творческого «Я» авангардного художника), а политический опыт приравнивается к эстетическому. Однако то, что мы получаем в результате такого взгляда на соцреализм - есть абсолютизированное представление о стиле, основанном на эстетике политического прагматизма. При таком подходе к рассмотрению феномена соцреализма может получиться нечто подобное концепции классического искусства, созданной Вельфлиным на основе известных пар понятий, только вместо формальных категорий в качестве стилеобразующих будут рассматриваться политические эквиваленты языковых средств искусства. Для создания подобного сочинения видимо пришлось бы обратиться к опыту Макиавелли, написавшего философское руководство для идеального правителя.
В концепции Гройса русский авангард рассматривается как реальность идеи, преобразовавшей действительность, а сама эта идея выступает как производное от творческой деятельности определенных людей. Точно также отвлеченно в представлении критиков теории Гройса рассматривается политическая деятельность партии. Подобная постановка вопроса предполагает убежденность в том, что абстрактная идея способна господствовать над действительностью. Однако такой принцип не подходит для исторического описания действительности. Абстракция, т.е. чисто мысленное образование не может быть причиной изменения вещей .
Идея не может подчинить себе действительность, какой бы актуальной или прагматичной эта идея не была. Она не может обнять всю реальность, не может отменить существование других идей и других реальностей, даже если принципиально отрицает (или уничтожает) их наличное бытие. Это подтверждает как судьба художественного модернизма, так и история государственного социализма. Оба этих проекта потерпели в 20-м веке предназначенное им фиаско. Поэтому было бы ошибочно определять произведения в категориях их создателей, идет ли речь о революционно-политических проектах большевиков или революционно-художественных проектах русского авангарда. То, что стало результатом их деятельности, с определенного момента, который трудно с точностью определить, не принадлежит им. Действительность вносит свои коррективы в идею, задает ей в процессе воплощения непредусмотренное направление, преобразует ее в пространстве исторического времени. Чтобы выяснить это, необходимо понять, каким образом идея соприкасается с действительностью, что является в ней исторически значимым содержанием, а что внешней, формальной оболочкой.
В работе «Классическое наследие в эпоху соцреализма»23 Стивен Моллер-Салли, ссылаясь на авторитет текстов Бурдье, пишет о том, что большевики в своей культурной политике опирались на традицию, т.к. видели в ней ценный культурный капитал. Как уже было замечено ранее, данное представление о культуре как о неком символическом капитале широко использовалось в рамках марксистской теории для критики буржуазного искусства, и нельзя не заметить, что современная советология во многом дублирует положения марксизма по этому вопросу24. Единственная разница заключается в классовой интерпретации проблемы. Согласно классовой - марксистской точке зрения власть в буржуазном обществе объединяется с церковью, культивирует музеи, поддерживает национальное движение в искусстве, преследуя при этом интересы определенной общественной прослойки. Это позволяет временно снимать антагонизмы в отношениях с рабочим классом и продолжать его эксплуатацию. Опираясь на искусство, власть контролирует не все общество в целом, народ вообще, как это обнаруживается в условиях сталинского государства, а только экономически эксплуатируемые рабочий класс и крестьянство. Государство при этом рассматривается как инструмент классовой, то есть социально-экономической по своей природе власти (тогда как при описании советского тоталитаризма государство мыслится так сказать ноуменально - как чистая, никак социально не детерминированная форма власти).
Такое сходство, как мы уже успели заметить, неизбежно, поскольку именно марксизм заложил основы идеологического понимания культуры, а в случае изучения соцреализма такой подход оказывается наиболее эффективным. Однако возникает вопрос, чем мотивировано то обстоятельство, что современное исследование сталинской культуры продолжает, хотя и с некоторыми поправками, то специфическое направление критики культуры как формы идеологии, которую марксизм связывал с историей буржуазного общества. Как можно убедиться, такой взгляд на отношения искусства и политики совершенно не подходит для описания истории советской культуры, поскольку он изначально предполагает политическую функцию искусства в качестве сдерживающего фактора.
С точки зрения марксизма характер политической функции искусства как сдерживающего фактора определяется из общего содержания политических задач классово устроенного государства. В любом обществе, основанном на эксплуатации, государство и его политика играют роль сдерживающего фактора и являются необходимым дополнением к экономическому принуждению, которое по отношению к политическому всегда остается первичным. Господствующий класс присваивает себе прибавочную стоимость, обрекая эксплуатируемый класс на нищету и тем самым провоцируя с его стороны возмущение. Именно это возмущение и призвано сдерживать государство всеми возможными способами, в том числе и при помощи различных форм культуры. При этом сдерживающий характер политической стратегии мотивирован тем, что насилие в его чистом виде, т.е. физическое уничтожение противника, невозможно, поскольку эксплуатируемый класс - основа существования господствующего, он есть то, что обеспечивает материальное производство. Из этого противоречия (половинчатость, ограниченность политики) следует и политическая функция культуры как одной из форм идеологии. Она призвана разглаживать противоречия, разрешать их таким образом, чтобы подверженный экономическому насилию эксплуатируемый класс сам не обратился к политической практике - т.е. к прямому насилию против классового врага. Скрывая реальность политических противоречий, нивелируя их, искусство тем самым скрывает правду самой жизни. Отсюда и возникает марксистское понимание искусства как формы ложного сознания.
Политическая функция советского искусства как идеологического оружия рассматривается ныне приблизительно в том же ключе. Правда жизни в СССР - это насильственно поддерживаемые властью невыносимые условия существования большинства его граждан. Эти условия неизбежно должны вызывать сопротивление, и для их амортизации создан миф о строительстве коммунизма. Идеология, в том числе в лице изящных искусств, должна внушать человеку положительные представления о существующем порядке, о его целях. Также как в условиях общества, построенного по законам эксплуатации, политическая функция тоталитарного искусства - скрывать насильственный характер системы и, например, противопоставлять насилию образы, основанные на гармонии, тем самым компенсируя насилие, легитимируя ту общественную силу, которая это насилие провоцирует. Таким образом, предполагается, что старое искусство изначально было призвано выполнять известную идеологическую работу, а советская власть лишь использовала и развила в своих политических интересах эту его функцию.
Такому пониманию политической функции советского искусства прямо противоречат общие сведения о характере политического дискурса в сталинском СССР, который в конце концов определяет и сущность искусства. Как известно, сталинская идеология вовсе не преследовала своей целью скрыть свойственный ей насильственный характер. Наоборот, политическое насилие признавалось (и действительно было) основным инструментом, при помощи которого государство регулировало отношения в обществе. Именно поэтому всеми доступными средствами постоянно внушалась мысль об обострении классовых противоречий, о необходимости применения насилия, о той общественной пользе, которое это насилие приносит. Беспощадное отношение к врагам революции, пролетариата, народа оставалось нормой общественных отношений на протяжении всего сталинского периода в истории СССР. Насилие было тогда языком власти, инструментом, регулирующим все основные вопросы общественной жизни. Оно никогда не имело характер реакции, поскольку удар всегда наносился заранее, опережая события, и не связывался с необходимостью защитить режим от объективной угрозы. Это была форма обращения, а не ответа.
Трудно предположить, что при таком общем направлении идеологии в задачи искусства входило противостояние насилию, его сдерживание, амортизация. Если партия и нуждалась в искусстве как в средстве идеологического воздействия, то только для того, чтобы популяризировать идею насилия, раскрыть ее как высшее благо, но не в коем случае противостоять ему. Однако в таком случае остается открытым вопрос, каким образом классическое наследие могло заинтересовать советское государство, какую политическую функцию оно имело в условиях тотального политического насилия, каким образом оно его обслуживало.
Вопрос о политической функции классического наследия в советском искусстве изначально связан с тем фактом, что партия одобрила культурную традицию, т.е. признала ее как источник политически ценного содержания25. Очевидно, что именно этим в первую очередь объясняется традиционалистский характер официального искусства СССР. Однако, как показывает проведенный нами обзор современных концепций, рассматривающих соцреализм, остается не ясным, как именно политическая функция была присвоена культурной традиции, и как она могла вообще работать на тоталитарное государство. Одна из главных причин, затрудняющих решение этого вопроса, заключается на наш взгляд в том, что сама реабилитация дореволюционной культуры советской властью оценена не достаточно полно, без учета специфических границ этой реабилитации. На самом деле, несмотря на то, что власть провозгласила соцреализм наследником лучших традиций мирового искусства, политический статус классического наследия не был определен ею с необходимой ясностью. Это, очевидно, не было случайностью и не может быть объяснено, например, тем, что власть просто не сумела этого сделать. Как показывают факты истории советской культуры, неопределенность статуса классического наследия поддерживалась властью сознательно, была частью ее культурной политики и, видимо, оказалась необходимым условием для возникновения соцреализма. Недооценка этого факта объясняет во многом те затруднения, которые испытывает современная наука при объяснении феномена политически детерминированного искусства. Представление о том, что советская власть, утверждая политическую. актуальность художественного наследия, намеренно избегала четкого определения своих предпочтений и тем самым обозначала дистанцию между сферой политики и искусством, необходимо для того, чтобы можно было оценить все специфику этого вопроса.
В первую очередь обращает на себя внимание то, что в самих произведениях советского искусства непосредственно обнаруживается их неопределенная связь с традицией. Их формальная структура будучи производной от известных прототипов, вместе с тем не позволяет с точностью выяснить характер зависимости. Если рассматривать соцреализм стилистически в контексте истории искусства, в нем нет ничего нового, ничего самостоятельного. Композиционные приемы, сюжетные линии, колористические, тональные решения и т.п. - все, чем пользуется это искусство, уже было открыто и творчески оформлено другими эпохами и культурами на гораздо более высоком художественном уровне. Все это позволяет говорить о цитатном, эклектическом характере советского искусства. Однако, с другой стороны, принципы этого эклектизма представляют собой нечто в высшей степени оригинальное. Для эклектического искусства, которое знакомо европейской художественной традиции, характерна установка на определенную эстетическую программу, санкционирующую избирательное отношение к истории и к художественной традиции. По типу цитат можно выяснить эстетические установки, определить, что именно подлежало валоризации, какие мотивы, выразительные приемы, символы и т.д. считались художественно ценными для нового, но ориентированного на традицию вкуса. Провести подобную операцию с произведениями соцреализма невозможно: принцип отбора и видоизменения используемых форм остается не ясен, т.к. валоризации подвергаются не прекрасное или безобразное, реальное или абстрактное, чувственно-рокальное или классически пластичное, а что-то совсем другое26.
Неопределенность характера соцреалистического эклектизма полностью соответствует той программе, которая после периода революционного нигилизма реабилитировала культурное наследство и заставила обратиться к нему советских художников. На вопрос «что брать из прошлого опыта» официальный рупор идеологии отвечал уклончиво: речь шла о «прогрессивных традициях», к которым относились прежде всего высокая греческая классика, итальянский ренессанс, русский критический реализм 19-го века . Очевидно, что разделение искусства по категориям на «прогрессивное» и «реакционное» не облегчало художнику задач по воплощению образа социалистической действительности «в ее диалектическом развитии», т.к. формальные (стилистические) границы между хорошим и плохим были едва ли различимы, и зачастую художники, исторически принадлежащие к одному стилю, с точки зрения эстетики соцреализма относились к разным политическим лагерям. Во всяком случае, о советском искусстве никак нельзя сказать понятно, сославшись на то, что оно сделано на основе обращения к прогрессивным традициям мировой культуры.
Все это объясняется, если мы примем во внимание особенности логики советской эстетической теории. В Теории Отражения, программном эстетическом документе соцреализма, речь идет только о видимости признания за традицией объективно существующих качеств28. Реабилитация культурного наследия, достигнутая за счет разделения всей мировой культуры на прогрессивное и упадническое течения, помещает традицию в такую перспективу, в которой уничтожается всякий намек на объективность. Поскольку эта перспектива задается только партией и той политической линией, которой в данный момент она придерживается, один и тот же стиль, один и тот же жанр, одно и тоже произведение - могут при случае оказаться как проводниками прогресса, так и знаками упадка - стать идейным оружием вражеских сил. Правильное понимание произведения, доступное только политически верно сориентированному взгляду, присваивает смысл, а не находит его в имманентной структуре произведения и факторах, его породивших. Именно так создается пролетарская культура, на словах оформляясь как «развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры». На деле значение имеет только точка зрения, которая задается политической волей партии. Поэтому здесь мы имеем дело не с признанием определенных качеств, а с насильственным навязыванием нового значения.
Очевидно, что апрельские постановления 1932 года сыгравшие в истории советского искусства решающую роль, не внесли ясности в проблемы формально-стилистического характера, но лишь подчеркнули их неопределенность29. В 1932 году завоеванный за годы борьбы авторитет отдельных авторов, художественных школ и творческих организаций, создававших актуальное искусство, был уничтожен. И близкие к официальному вкусу ахрровцы, и признанные ранее оппозиционными сторонники формалистских школ потерпели в тридцать втором году фиаско, ибо принцип формирования новых художественных союзов не учитывал обстоятельств недавней конъюнктурной борьбы среди художников и писателей революции. После образования союзов вновь признанные лидеры советской культуры стали только политическими авторитетами, не связанными ни с какими художественными школами или направлениями работниками советской культуры. Эти художники и писатели без прошлого были теперь организованы в официальное учреждение, куда их избирали другие люди, чей авторитет, в свою очередь, не объяснялся профессиональным знанием искусства - это были командиры советского государства. Новых академиков и лауреатов сталинских премий трудно представить в качестве примеров для подражания. Художники и писатели выдвигались в лидеры соцреализма, но это никак не было связано с конкретными особенностями того или иного авторского стиля, индивидуальными творческими достижениями. Иными словами, сочиняя историю советского искусства, невозможно бы было дать анализ стиля, руководствуясь иерархической лестницей Академии Художеств СССР. Этой политически ценной структуре не соответствует никакая формально- ценностная структура. Нельзя также допустить, что в формировании соцреализма первостепенное значение сыграла некая внутренняя свобода лучших художников - локомотивов советского искусства, таких как Шолохов, Бродский, Иофан. Политическая критика искусства имела в это время право голоса равносильное приговору, причем в случае негативной политической оценки снималась формальная ценность любого произведения, отрицалась творческая самобытность любого автора, не важно, современный он или нет. Относительная свобода немногих творческих личностей если и допускалась, то только как результат милостивого отношения властей, но, как правило, не к художественному таланту, а к авторитету политической благонадежности .
Прямое, определенное личным выбором автора, подражание всегда основано на дифференцирующем видении. Для подражания необходима некая искомая индивидуальная форма или «манера», но именно этот принцип поиска и утверждения образца был невозможен в условиях советской культуры, для которой характерна ситуация «снятия авторитета безусловно принимаемого художественного качества». Традиционно понимаемое подражание требует образцов стиля, а для советской культуры не признается безусловный авторитет единичных образцов, которые бы принимались целиком, без всяких оговорок31. Во всяком случае подражание конкретным произведениям или известной индивидуальной манере не могло обезопасить художника от риска политической критики его произведений.
Для советского художника, современника Академии Художеств СССР, эта проблема имела исключительное значение - т.к. в данных условиях для него крайне затруднялось определение собственного творческого пути, выбор индивидуальных стилистических предпочтений. Нельзя было понять «принцип внушения», с которым власть обращалась к художнику. С одной стороны, официально только и говорилось о громадной политической ответственности работы с формой, о риске политически необдуманного обращения с ней. С другой стороны, никакой четкости в определении политически правильной формы не было. Если можно представить себе, что стоит за требованием писать а ля Рубенс или а ля Пуссен, поскольку это означало бы подражать форме их произведений, то каким образом могла решаться задача писать «а ля соцреализм»? Этот вопрос важен, поскольку именно это требовалось от художников с того самого момента, как существование этого стиля было подтверждено авторитетом государства.
Своими действиями в отношении искусства партия только признала политическую ценность художественной традиции и некоторых явлений современной культуры (точнее некоего общего ее направления, которое известно было только ей одной), какой она сложилась за последние пятнадцать лет, но информация о том, как нужно обращаться с этим политическим капиталом, как его правильно использовать, оставалась полностью закрытой. Такое положение в культуре не только было тщательно спланировано (это касается в первую очередь административных решений 1932 года), но и поддерживалось затем на протяжении всей сталинской эпохи. Свидетельством тому служит советская художественная критика, которая как раз была призвана направлять художественный процесс, давать необходимые разъяснения по поводу нового и старого искусства, традиций и новаторства, учить тому, как следует создавать произведения соцреализма.
Как показывает опыт анализа фактов истории советской художественной критики, она, внушая советским художникам, что такое соцреализм, только смазывала, лишала четкости всякое явление в искусстве, независимо от того, давалась ли ему положительная или отрицательная политическая оценка. Восприятие искусства оказывалось до последней степени затруднено неопределенностью содержания самого критического дискурса в советской культуре. Наделяя искусство политическим смыслом, критика делала совершенно невозможным понимание того, в чем собственно этот политический смысл заключается. И дело здесь не в косноязычии авторов, неумении формулировать мысль, а в самой природе того иделогоизированного языка, которым они оперировали. Как можно убедиться, понятия советской эстетики вводят рассмотрение вопросов политического содержания искусства в такое положение, в котором не остается даже намека ясность.
Для рассмотрения специфических особенностей понятий соцреалистической критики, автор статьи «Функции и категории соцреалистической критики» Евгений Добренко использует идеи Павла Флоренского из его сочинения «Термин», где термину дается, в частности, такое определение: «Неподвижно стоящий перед мыслию, он (термин) на самом деле есть живое усилие мысли, наибольшее обнаружение ее направленности. И чем неподвижнее термин, тем отчетливее и тверже стоит он перед сознанием, тем больше требуется жизнь мысли. История термина есть ряд творческих усилий мысли, наслояющей себе вокруг основного ядра все новые препятствия, чтобы, сконцентрировав себя, приобрести новую силу и новую свободу»32. Сравнивая, далее, две журнальные статьи, написанные с разницей в целое десятилетие (тексты Б.С.Мейлаха 1946 г. и Л.И.Тимофеева 1955 г.), Добренко обращает внимание на тот факт, что оба автора пишут об одном и том же - о путанице в самой терминологии, о том, что не разработаны «самые основные понятия образа, стиля, направления, метода»33. Это, как будто должно означать, что для соцреализма была чрезвычайно важна проблема выработки четких значений всех понятий и терминов, и что суть критики во многом сводилась к усилиям по «удержанию неподвижности терминов». Однако, продолжает автор, поскольку эти усилия были в своем роде абсолютными, то и действие их было уничтожающим, в результате чего природа термина в советской культуре приобретала неслыханные черты. «Соцреализм доводил таким образом, до предела отмеченное Павлом Флоренским усилие к удержанию неподвижности терминов и тем самым сводил на нет то главное, что этим усилием должно было быть достигнуто, его цель и смысл - понятие переставало «действовать, усиливаться, жить» — сила действия была равна силе противодействия» . Это приводит к тому, что содержание термина несмотря на его огромную значимость оказывалось совершенно неопределенным. На фоне непрекращающихся на протяжении десятилетий споров о необходимости выработки четких критериев и понятий обнаруживается постоянная смена формулировок, вплоть до внутреннего противоречия, когда официальные высказывания 40-х годов совпадают с идеями разгромленных в 1920-е годы оппозиционных авторов.
Как пишет Марина Балина, ситуация, когда понятийный язык критики, призванной дать развернутое описание соцреализма, оказался погружен в неразрешимые противоречия, объясняется тем, что тексты советской критики были замкнуты на несколько ведущих категорий, внутреннее содержание которых изначально отсутствовало. «Все эти интерпретации пересекались между собой, оперировали одними и теми же категориями, составляя из них варианты трехчленного ряда идейность - классовость -партийность. В этой триаде принцип партийности, несомненно, являлся ведущим. Определить его границы крайне сложно. Поэтому разговор о нем часто переходит в сферу иррационального: это и главный методологический принцип исследования, и оценка художественных явлений, и душа советского искусства, и особый вид мировоззрения, и руководство к действию, и логика осознания идеологии класса, и эмоциональная приверженность, внутреннее неразрывное родство с интересами класса. Это и принцип, и качество, и чувство одновременно»35.
В свою очередь неопределенность основных категорий объясняется тем, что они прямо зависели от существовавшей на данный момент позиции партии. Изначально термин соотносился в советской культуре не с действительностью, а с политикой партии. «Высшая точка зрения на явление и соответственно, правильность понимания стоящей за ними (понятиями) реальности мыслилась как стоящая вне постигаемой реальности и находилась, соответственно, в сфере политики»36. Будучи всегда превосходной, позиция партии, определявшая смысл новых эстетических категорий, оставалась непостижимой и, соответственно, представление о политически правильном взгляде на искусство было недоступно. Непознаваемость политически правильной точки зрения непосредственно сказывалась на двусмысленности зависимых от нее категорий соцреалистической критики. Флоренский пишет, что функция термина состоит в том, что он «есть граница, которою мышление самоопределяется, а потому и самоосознается». Но для этого термин должен иметь «основное ядро». Только тогда мысль может обрести новую силу и новую свободу. Однако, как можно убедиться, никакого основного ядра в советской эстетике у таких понятий как образ, стиль, традиция или метод не было. Бесконечные попытки обрести его как в критике, так и в литературе, и в живописи, и в музыке были неудачны, т.к. мысль в советской культуре была неспособна самоопределиться, будучи всегда переменной под знаменателем политического авторитета. Все попытки самоопределения и самоосознания, все живые усилия мысли могли быть только попытками отождествления с руководящей линией партии, подчинения ее воле, растворения в ней, что, по сути, было недостижимой целью.
Свою статью о категориях соцреалистической критики Марина Балина заканчивает объяснением той функции, которую несла в себе данная неопределенность. «Категория партийности оформилась в механизм тотального контроля, т.к. наиболее соответствовала конечной цели: подчинению литературы идеологии партии»37. Неопределенность положения критического дискурса и его языка стоят в прямой зависимости от политического фактора. Неопределенность есть орудие контроля, она дает возможность раскритиковать практически любое явление в искусстве и доказать тем самым превосходство политического авторитета над объективными закономерностями художественного процесса. Этим мотивирована как специфика понятий соцреализма так и логика их употребления. Как пишет Леонид Геллер: «Давно замечено, что соцреализм нормативен, но только негативно: он точно указывает, что нельзя делать, и очень туманен в своем теоретизировании и своих положительных указаниях» .
Таким образом, имея довольно определенное представление о функциях соцреалистической критики, мы по-прежнему можем только догадываться о том, как в таких условиях входило классическое наследие в соцреализм, как оно могло выполнять непостижимые по своей сути требования партии, служить политическим интересам, сориентироваться в которых не представлялось возможным.
Разумеется, нельзя не согласится с тем, что, например, обращение советской архитектуры к формам ампира в определенный период своей истории носило политически мотивированный характер и было связано с тем, что рожденное революцией государство и в самом деле приобрело со временем выраженные имперские очертания. Формы ампира действительно были политическим оружием партии. Однако, как мы пытались показать здесь, решение проблем формообразования в советском искусстве не может непосредственно исходить только из подобных примеров и основывать на них общие выводы о феномене тоталитарного искусства. При таком подходе, допускающем массу противоречий, остается не ясно, каким образом соединялась политика с искусством и как правильно понимать феномен этого соединения. Политически мотивированный принцип отбора мотивов и концепций из истории искусств, который с успехом, но без учета известных противоречий, рассматривается исследователями соцреализма, составляет лишь часть до сей поры не объясненного принципа формообразования в соцреализме. Этот принцип не только подвергал все входящие в новое искусство традиционные мотивы качественной переработке; благодаря его воздействию происходило тотальное перерождение всех известных механизмов, участвующих в процессе формирования произведения искусства и его стиля.
В итоговой работе Ганса Зедльмайера «Искусство и истина» одна из глав посвящена критике духовно-исторического метода исследования искусства, созданного Венской школой и ее лидером Максом Дворжаком. Указывая на формалистические недостатки «истории искусства как истории духа», автор пишет: «Если духовное начало не находят уже в самой субстанции художественного произведения, то потом его можно будет привнести в произведение лишь извне, в качестве спиритуалистического фасада, скрывающего за собою глухое бездуховное ядро»39. Рассматривая опыт изучения соцреализма в свете данного высказывания, можно заметить, что политическое содержание также не было обнаружено в самой субстанции произведений советских художников и писателей. Эту субстанцию заменяют идеи и мотивы классицизма, реализма, романтизма, которые формально рассматриваются в качестве носителей политического смысла. Однако ясно, что политическое содержание им только приписывается, т.е., другими словами, оно вносится в произведения в качестве идеологического фасада. Как мы можем убедиться, то, что скрывается за этим фасадом, ускользает от внимания и не поддается анализу. Заканчивая свою мысль относительно данной «формально-спиритуалистической дилеммы» духовно-исторического метода, Зедльмайер указывает на необходимость овладения тем методом, который удовлетворял бы требованиям постигать дух в чувственном элементе - «в той зоне, где духовное получает чувственное воплощение, а чувственное одухотворяется»40. В рамках нашего исследования эта идея может быть переосмыслена как повод для постановки вопроса об овладении таким методом, который бы позволил постигать политическое содержание в чувственном воплощении, понимать, как чувственное проникается политическим.
Объявив все существующие и ранее существовавшие формы культуры манифестациями противоречивого политического содержания, большевики сделали тем самым выбор в пользу такого решения этой проблемы, которое само по себе мало что проясняет. Это заявление, хотя и имело решающее значение для судеб искусства, вряд ли может быть воспринято некритически. Как мы стремились показать на примере анализа существующей на этот счет литературы, взаимоотношения идеологии и искусства не однозначны и полны противоречий, о сути которых наши представления остаются неполными. Построенная Иоффе история искусства и в ее контексте концепция соцреализма дают такую картину развития художественного мышления, которая позволяет нам не только подойти к пониманию проблемы взаимоотношения искусства и идеологии, но также решить вопрос о месте соцреализма в истории искусства 20 века. Именно Иоффе, несмотря на многочисленные идейные ограничения и заблуждения, неизбежные в условиях тоталитаризма, удалось приблизиться к тому, чтобы сформулировать метод описания искусства, детерминированного специфической политической системой советского общества.
Проведенный нами анализ литературы породил больше вопросов, чем дал ответов, что объясняется той целью, которой мы придерживались. Было необходимо предельно остро передать те противоречия, которые на настоящий момент существуют в области изучения сталинской культуры и, в частности, в вопросе о связи искусства и политики. Именно в свете этих противоречий обнаруживается актуальность идей, изложенных в созданной Иоффе в 1930-е годы теории, что, в свою очередь, позволяет представить цели и задачи данной диссертации следующим образом:
- раскрыть проблематику взаимосвязи политики и искусства в теории Иоффе и показать актуальность положений его концепции стиля соцреализм для современной науки, изучающей советскую культуру сталинской эпохи.
- исследовать те процессы в советской культуре 1920-х - 1930-х годов, которые привели к утверждению доктрины социалистического реализма.
- рассмотреть вопрос о месте соцреализма в искусстве 20 века, показать новые возможности определения взаимосвязи соцреализма с различными направлениями и стилями в старом и новом искусстве.
И.И.Иоффе и основные принципы теории Синтетического изучения искусства
В работе «Классическое наследие в эпоху соцреализма»23 Стивен Моллер-Салли, ссылаясь на авторитет текстов Бурдье, пишет о том, что большевики в своей культурной политике опирались на традицию, т.к. видели в ней ценный культурный капитал. Как уже было замечено ранее, данное представление о культуре как о неком символическом капитале широко использовалось в рамках марксистской теории для критики буржуазного искусства, и нельзя не заметить, что современная советология во многом дублирует положения марксизма по этому вопросу24. Единственная разница заключается в классовой интерпретации проблемы. Согласно классовой - марксистской точке зрения власть в буржуазном обществе объединяется с церковью, культивирует музеи, поддерживает национальное движение в искусстве, преследуя при этом интересы определенной общественной прослойки. Это позволяет временно снимать антагонизмы в отношениях с рабочим классом и продолжать его эксплуатацию. Опираясь на искусство, власть контролирует не все общество в целом, народ вообще, как это обнаруживается в условиях сталинского государства, а только экономически эксплуатируемые рабочий класс и крестьянство. Государство при этом рассматривается как инструмент классовой, то есть социально-экономической по своей природе власти (тогда как при описании советского тоталитаризма государство мыслится так сказать ноуменально - как чистая, никак социально не детерминированная форма власти).
Такое сходство, как мы уже успели заметить, неизбежно, поскольку именно марксизм заложил основы идеологического понимания культуры, а в случае изучения соцреализма такой подход оказывается наиболее эффективным. Однако возникает вопрос, чем мотивировано то обстоятельство, что современное исследование сталинской культуры продолжает, хотя и с некоторыми поправками, то специфическое направление критики культуры как формы идеологии, которую марксизм связывал с историей буржуазного общества. Как можно убедиться, такой взгляд на отношения искусства и политики совершенно не подходит для описания истории советской культуры, поскольку он изначально предполагает политическую функцию искусства в качестве сдерживающего фактора.
С точки зрения марксизма характер политической функции искусства как сдерживающего фактора определяется из общего содержания политических задач классово устроенного государства. В любом обществе, основанном на эксплуатации, государство и его политика играют роль сдерживающего фактора и являются необходимым дополнением к экономическому принуждению, которое по отношению к политическому всегда остается первичным. Господствующий класс присваивает себе прибавочную стоимость, обрекая эксплуатируемый класс на нищету и тем самым провоцируя с его стороны возмущение. Именно это возмущение и призвано сдерживать государство всеми возможными способами, в том числе и при помощи различных форм культуры. При этом сдерживающий характер политической стратегии мотивирован тем, что насилие в его чистом виде, т.е. физическое уничтожение противника, невозможно, поскольку эксплуатируемый класс - основа существования господствующего, он есть то, что обеспечивает материальное производство. Из этого противоречия (половинчатость, ограниченность политики) следует и политическая функция культуры как одной из форм идеологии. Она призвана разглаживать противоречия, разрешать их таким образом, чтобы подверженный экономическому насилию эксплуатируемый класс сам не обратился к политической практике - т.е. к прямому насилию против классового врага. Скрывая реальность политических противоречий, нивелируя их, искусство тем самым скрывает правду самой жизни. Отсюда и возникает марксистское понимание искусства как формы ложного сознания.
Политическая функция советского искусства как идеологического оружия рассматривается ныне приблизительно в том же ключе. Правда жизни в СССР - это насильственно поддерживаемые властью невыносимые условия существования большинства его граждан. Эти условия неизбежно должны вызывать сопротивление, и для их амортизации создан миф о строительстве коммунизма. Идеология, в том числе в лице изящных искусств, должна внушать человеку положительные представления о существующем порядке, о его целях. Также как в условиях общества, построенного по законам эксплуатации, политическая функция тоталитарного искусства - скрывать насильственный характер системы и, например, противопоставлять насилию образы, основанные на гармонии, тем самым компенсируя насилие, легитимируя ту общественную силу, которая это насилие провоцирует. Таким образом, предполагается, что старое искусство изначально было призвано выполнять известную идеологическую работу, а советская власть лишь использовала и развила в своих политических интересах эту его функцию.
Такому пониманию политической функции советского искусства прямо противоречат общие сведения о характере политического дискурса в сталинском СССР, который в конце концов определяет и сущность искусства. Как известно, сталинская идеология вовсе не преследовала своей целью скрыть свойственный ей насильственный характер. Наоборот, политическое насилие признавалось (и действительно было) основным инструментом, при помощи которого государство регулировало отношения в обществе. Именно поэтому всеми доступными средствами постоянно внушалась мысль об обострении классовых противоречий, о необходимости применения насилия, о той общественной пользе, которое это насилие приносит. Беспощадное отношение к врагам революции, пролетариата, народа оставалось нормой общественных отношений на протяжении всего сталинского периода в истории СССР. Насилие было тогда языком власти, инструментом, регулирующим все основные вопросы общественной жизни. Оно никогда не имело характер реакции, поскольку удар всегда наносился заранее, опережая события, и не связывался с необходимостью защитить режим от объективной угрозы. Это была форма обращения, а не ответа.
Трудно предположить, что при таком общем направлении идеологии в задачи искусства входило противостояние насилию, его сдерживание, амортизация. Если партия и нуждалась в искусстве как в средстве идеологического воздействия, то только для того, чтобы популяризировать идею насилия, раскрыть ее как высшее благо, но не в коем случае противостоять ему. Однако в таком случае остается открытым вопрос, каким образом классическое наследие могло заинтересовать советское государство, какую политическую функцию оно имело в условиях тотального политического насилия, каким образом оно его обслуживало.
Концепция соцреализма как компонент теории Синтетического изучения искусства Иоффе
На основе положений о связи классовой борьбы и мышления Иоффе последовательно выстраивает схему развития истории стилей в искусстве. Поскольку самое главное в положении класса - это его социальные привилегии (то, что гарантирует ему экономическую власть), создаваемая классом система представлений о мире, о его сущности оказывается на деле системой репрезентации социального опыта и его абсолютизацией. Так, например, из социального опыта среднего дворянства возникает классицизм. «Живя за счет крестьянства, ремесленников и торговцев, стоя выше торговой сутолоки, аристократия возводит свою свободу от труда в признак социального превосходства. Физический труд - деятельность низшего порядка; все связанное с физическим трудом - тяжелая мускулатура, малая подвижность лицевых мускулов, следы забот, напряжения, усталости — считаются низменными, недостойными благородного человека Из социального превосходства одних людей над другими родилось превосходство одних представлений над другими, и общие представления закрепились в идеях господствующих над низшим реальным миром»58. Это прямо определяет стилистические особенности искусства целой исторической эпохи. «Классицизм таким образом закрепляет ограниченный круг форм, господствующих над множеством реальных форм; мир этих форм - абсолютный покой, чистое, неизменное, себе равное бытие: но так как материальная форма есть процесс, изменчивость, то закрепляется только один момент видимой формы: идея соответствует высшей (с точки зрения аристократии) форме вещей, моменту его силы, расцвета, если это организм («вечная юность»), полноты видимости, фронтальной видимости»59.
Социально значимое рассматривается как сущностное основание всего бытия. Мир постигается таким образом, что его структурообразующие принципы совпадают с той социальной системой, которая гарантирует господствующему классу его власть. На место истинных законов истории, приводящих мир в движение - законов общественного производства и классовой борьбы - выдвигается система представлений, которая абсолютизирует классовые привилегии. Таков экзистенциальный закон формирования мышления в условиях классового общества. Господствующий класс в своем мышлении закрепляет определенные формы познания действительности, связанные с его социальным опытом, и абсолютизирует их. Так возникает история мышления, которая развивалась «не прямолинейно, не путем развития, углубления, расширения человеческого познания, но путем закрепления отдельных моментов, сторон познания и превращения их в абсолютные системы в интересах господствующих классов»60.
Таким образом, стиль есть воспроизведенный специфическими художественными средствами социально обусловленный и социально постигнутый образ мира. Это построенный на основе классовых воззрений автономный мир художественных ценностей, структура, в которой соединены вместе и организованы абстрактные или реальные формы. В основе этой структуры может лежать перспективное построение или принципы абстрагирования, эмпирическое наблюдение за действительностью или ее подчинение декоративным мотивам, но классовый смысл структуры неизменен. Художественная трансформация действительности является выражением классовой воли. Внешний характер структуры меняется, но не меняется сам структурный принцип мышления. Так происходит потому, что не меняются основы классового общества.
Однако истинные законы истории - законы классовой борьбы не могут быть сдержаны подобным способом. Стили эволюционируют или перестают существовать вовсе в результате экономических сдвигов, которые уничтожают или видоизменяют прежнее мышление и прежний способ восприятия реальности. «Прогрессивные элементы под давлением революции производственных отношений опрокидывают отклоняющие и задерживающие их формы мышления»61. Из этого материала строятся этапы истории искусства, которая, если не воспринимать ее при помощи буржуазных генерализирующих учений (например, теория «художественной воли»), должна полагаться как история нескольких независимых, противоречащих друг другу, отрицающих друг друга типов художественной формы, или, другими словами, типов классового мышления. Эти типы не связывает общий закон, имманентный искусству, который позволил бы адекватно интерпретировать эти исторические типы с точки зрения единых эстетических категорий - это разные типы художественного. Новый стиль, согласно Иоффе, рождается заново из дачного социального опыта или обновляет свой язык, но также за счет внешних причин. Общим для истории искусства оказывается только принцип стиля как структуры - стиля фетишизации.
Здесь следует обратить внимание на один важный принцип теории Иоффе, который позволяет ему значительно расширить методологический диапазон социологического понимания искусства и дать более объемную картину стилистического развития искусства. Речь идет о признании того, что в истории может синхронно существовать несколько типов мышления, каждый из которых отражает отношение к действительности определенным социальным слоем общества. Труд создал человека, и в процессе развития форм труда формировалось его мышление. Смена форм труда - типов производства повлекла за собой смену типов мышления, и, следовательно, смену художественных культур - стилей в искусстве. Каждый способ производства и каждый общественный класс претерпевал в ходе исторического процесса неизбежные перемены, но, как правило, не вымирал полностью. Возникновение новых форм хозяйства, более современных и более эффективных вытесняет прежние ведущие формы, перестраивает их. Это приводит к появлению новых форм мышления и к видоизменению мышления тех классов, кому прежде принадлежало ведущее место в экономике.
Теоретические аспекты идеологического понимания искусства в трудах Иоффе
Негативное отношение законов политики к законам искусства Иоффе называет тем фактором, которые оказывает наибольшее влияние на формообразующие принципы соцреализма. При этом он утверждает, что это негативное отношение мотивировано некими всеобщими законами, природой классовой борьбы. Данный момент теории Иоффе можно назвать в качестве наиболее спорного и требующего принципиальной корректировки, поскольку он не выдерживает критики с точки зрения современных представлений о советском тоталитаризме. Мы понимаем, что все, что было связано с политикой в этом обществе, должно было иметь отношение к интересам власти, а не к неким всеобщим, имманентным истории законам. Можно сказать, что и настоящий культ этих законов в СССР был по преимуществу мотивирован интересами власти и именно исходя из них должен быть объяснен. Сама отсылка к законам классовой борьбы позволяла партии легитимировать себя и в истории, и в современности, поскольку они оправдывали то насилие, в результате которого возникло и продолжало существовать советское государство. Насилие было, по сути, единственным способом сообщения советской власти с реальностью и его оправдание было насущной потребность этого режима.
Отсюда возникает вопрос, который не может быть поставлен в рамках теории Иоффе. Если законы классовой борьбы могли иметь лишь символическое значение, то чем тогда было мотивировано насильственное воздействие на искусство со стороны властей. Многочисленные свидетельства насильственных мер по отношению к искусству не позволяют сомневаться в том, с точки зрения государства сфера искусства в течение долгого времени настойчиво требовала самого решительного вмешательства. Но чем тогда было мотивировано это вмешательство. Если Иоффе прав в определении природы конфликта между искусством и политикой, то именно проблема стиля должна была рождать условия для этого конфликта и мотивировать политическое воздействие на искусство.
На первый взгляд может показаться, что даже для постановки такого вопроса на самом деле нет никакой почвы, настолько толерантной по отношению к режиму оказывается художественная жизнь в Советской России в конце 1920-х - начале 1930-х годов, времени оформления соцреалистического канона. Действительно, в это время все существующие художественные группировки вне зависимости от конкретных эстетических предпочтений поддерживают партию и тот порядок, который ее власть гарантирует. Искусство находится в полной власти интересов и идей партии, что весьма затрудняет определение возможных внутренних противоречий между ними. Нет сомнений и в том, что данная ситуация в искусстве сама по себе была уже результатом политического вмешательства партии в дела искусства и знаменовала тот порядок, который партия установила в собственных интересах. Ограничив возможности реализации произведений монополизацией художественного рынка, осуществляя жесткую политику цензуры партия быстро добилась такого результата, когда все искусство в целом становится его идеологической собственностью. Ко времени первой пятилетки, когда общественный режим заметно ужесточился, уже было совершенно ясно, что существовать может только то искусство, которое угодно государству, т.е. в конечном счете поддерживает ее политику. В связи с этим, однако, и возникает весь круг противоречий между искусством и политикой, которые сводятся в итоге к проблеме стиля, как об этом и пишет Иоффе.
Политические меры, применявшиеся партией по отношению к искусству начиная с событий 1917-го года, привели к тотальному подчинению искусства государству и создали совершенно оригинальную художественную ситуацию. Совпадало это или противоречило их эстетическим убеждениям, художники и писатели были вынуждены позиционировать свое искусство как политически полезное, политически правильное. Шла ли речь о представителях новейших течений или о разного рода традиционалистах, в любом случае рассчитывать на признание, а зачастую и на существование можно было только в том случае, если произведение и его автор заслуживали политического одобрения, признавались носителями политически правильного смысла. Это вынуждало большинство участников чрезвычайно богатой по своему содержанию художественной жизни послереволюционной России бороться за право считаться художником революции, что в свою очередь породило совершенно новую проблему. Довольно скоро выяснилось, что сама по себе «подгонка» различных творческих программ под политическую конъюнктуру не является делом большой сложности. Искусство самых разных форм и традиций было вполне готовым в концептуальном отношении к тому, чтобы абсорбировать данное политическое содержание и провозгласить себя носителем политического смысла. Однако эта готовность, демократическая в своей сути столкнулась с тоталитарной логикой новой власти. Оказалось, что существует несколько различных вариантов политически правильного искусства, однако в условиях общественной системы, стремившейся к унификации всех форм жизни, подобное положение было невозможно. В качестве правильного варианта мог быть признан только один единственный. Поэтому вполне естественно, что каждый из активных участников художественной жизни 1920-х претендовал на совершенно исключительную роль в искусстве революции, и к концу десятилетия это противостояние достигло своего апогея. Ожесточенные споры художественных группировок, открытая политическая борьба со своими жертвами и победителями свидетельствует, насколько остро встал в тот период вопрос о политически правильном искусстве. Причем, что нужно заметить, это был вопрос именно о политически правильном стиле.
Именно с этим вопросом следует связывать оригинальность той художественной ситуации, развитие которой привело к возникновению соцреализма. В том, что художники и писатели были готовы поддерживать государственный режим не было ничего нового. Существовала многовековая традиция официального искусства с придворными художниками, салонами, государственными академиями, было и оппозиционное искусство. Исторически новым было другое. Новым была сама борьба за право считаться политически лояльным, политически легитимным полезным. То, как протекала эта борьба и то, какую позицию по отношению к ней заняла власть, определило судьбу советского искусства.
Все участники художественных дискуссий 1920-х годов приблизительно в одинаковых словах определяли политическую составляющую своих произведений. В каждом отдельном случае это был пример искусства революционного, глубоко идейного, политически грамотного. Принципиальные различия между ними обнаруживались только на уровне формы. Было ли политически правильное высказывание сделано на языке реалистической традиции или новейших авангардных течений — только это принципиально отличало друг от друга художников и писателей Советской России. Таким образом, именно вопросы формы встали на пути возникновения политически правильного искусства, оказались тем, что мешало синтезу политики и искусства.
Соцреализм в истории искусства 20 века. Взгляды Иоффе на проблему контекстуализации нового стиля
Мы видим, что в характере стиля соцреализма действительно присутствует те черты, о которых писал Иоффе. Формальные противоречия являются имманентной чертой этого искусства. Соцреализм представляет собой такую эстетическую систему, которая формально не подчинена единым принципам. Художественный строй отдельных произведений распадается на различные части, которые противоречат друг другу по смыслу. Партия и политическая конъюнктура оказываются по отношению к содержанию и форме произведений соцреализма той силой, которая вносит в них нужный смысл. Смысл образов - это зависимая от нее переменная.
С точки зрения Иоффе зависимость смысловой структуры образов от внешней силы рассматривается как прямое выражение истинности этого искусства. Это свидетельствует как об отличии соцреализма от всех других художественных типов, так и о превосходстве над ними. Такая логика объясняется тем, что в качестве формирующей смысл силы он рассматривает классовую борьбу, действие которой выводит человечество к построению коммунизма и окончательному разрешению всех противоречий бытия и сознания.
Выше мы уже говорили о тех причинах, согласно которым данный тезис теории Иоффе должен быть снят. Целью политики партии было не построение коммунизма, а укрепление власти, ее тотальное распространение на все формы бытия и сознания. То, что произошло с искусством объясняется не его приближением к познанию истины, а полным подчинением партии и ее власти. Именно это в конце концов выражает собой искусство соцреализма и его стилистическое устройство. Это знаменует его специфику.
Старое искусство, на формы которого опирается соцреализм, проповедует гуманистические ценности, которые непосредственно равны человеку, очевидны в силу его неотчуждаемых биологических и духовных качеств и потребностей. Таким оно оставалось с античности до Новейшего времени. Для искусства в СССР нет таких вечных положительных ценностей, которые бы обнаруживались и оправдывались просто в человеке, в его естестве (все они считаются ложными - социально-опосредованными) -им противостоят те ценности, которые от имени марксистской теории и истины коммунизма дают партия и ее вожди. Но речь идет не просто об отрицании традиционных понятий о гуманности. Коммунизм объявляется в рамках идеологического дискурса высшей формой гуманизма, а все жизненно актуальное - «слишком человеческое» отступает перед политически поставленной задачей построения этого нового мира. «Кричащий, будто сила - не аргумент, упускает из виду основную особенность политики, где выигрыш или проигрыш меняет задним числом все. Сумев отстраниться от политики, мы бы, конечно, руководились ценностями одной лишь истины и морали»138. Так пишет Чеслав Милош в своем эссе «Марксизм», размышляя над судьбами Европы, превратившейся в поле радикальных революционных экспериментов. На наш взгляд в этих словах чешскому мыслителю удалось сформулировать основную закономерность существования той культуры, которая обязана своим возникновением политическому насилию и поставлена в зависимость от него. Политическая правда есть правда авторитета власти, и она обретает свою идентичность в процессе бесконечного утверждения идеи господства. Этой власти, для которой лишь насилие является истинной ценностью, должно было подчинится все, включая смысл предметов, явлений и их образов. Это означало, что изобразительная форма в советском искусстве вообще не могла свободно идентифицировать предмет, и образ должен был создаваться так, чтобы, не внушая никакого определенного понятия, отсылать зрителя или читателя к сферам политического авторитета. Только так искусство могло стать адекватным по отношению к тоталитарной идеологии. Перед искусством стояла задача «творить» такие произведения, которые могли бы утверждать только политическую правду, а их изобразительная форма не заслоняла бы указанную идею.
Если традиционно для европейской культуры был характерен взгляд на искусство как на процесс субъективизации опыта, дифференциации авторской идеи, выявления специфических черт материала, образа, жанра, то теперь искусство должно было совершить некий жест самоотречения и преодолеть прежние установки. Речь шла не только о том, что советский художник имеет право только на темы, способствующие утверждению новой идеологии. Сами формы художественной интерпретации отобранного тематического материала должны были стать подотчетными определенной программе.
Любой положительный или отрицательный образ, вне зависимости от своего конкретного формального содержания, не мог утверждать художественной правды, т.к. в таком случае он оказался бы эстетически автономен, имел бы свое значение и внушал бы какое-то свое, самостоятельное представление о мире, коренящееся в индивидуальном видении художника. Художественно полноценная форма имела бы свое значение, не зависимое от внешних авторитетов. Однако очевидно, что двух правд быть не может, но и политическая правда не тождественна правде изобразительной формы, правде таланта, правде художественного высказывания.
Политика всегда имеет дело только с относительными значениями, но никогда не с абсолютными, даже если этого требует гуманизм с его общечеловеческими ценностями. Господство политических отношений в обществе утверждает идею относительности любых ценностей. В связи с этим можно говорить о том, что в СССР благодаря политическим факторам возникает такая культурная ситуация, которая провоцирует дегуманизацию искусства. Важнейшим для культуры знаком оказывается то, что политическая идея реализуется не в простом уничтожении старого и противопоставлении ему нового. Ключевую роль играет само признание относительности ценностей. Дегуманизация и есть не столько уничтожение, сколько стерилизация определенных потенций культуры в ее традиционном понимании и, как следствие, утверждение политического контроля над любыми ценностями. Произведение советского искусства должно было всегда сохранять политическую мобильность и тем самым соответствовать постоянно меняющемуся политическому курсу власти.