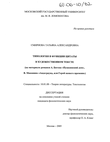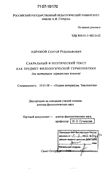Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теория дискурса и теория рецепции как основа изучения новейшей русской литературы 14
1.1. Понятие дискурса и дискурсного анализа в литературе рубежа XX-XXI веков 14
1.2. Теория рецепции и креативная рецепция в литературе рубежа XX-XXI веков 20
Глава 2. Мифологический дискурс и дискурс «классики» как инструменты деконструкции отношений автор-текст-читатель 45
2.1. Мифологический мышление как стратегия космогонизации изображаемого мира в постмодернистском романе 45
2.2. «Миф о чтении» как особая форма рефлексии художественной коммуникации 68
2.3. Мифологема писателя в креативной рецепции как средство конструирования читательского диалога 81
2.3.1. Рецептивный комплекс и продуктивные модели чтения «чеховского текста» 85
2.3.2. Обнажение читательской стратегии в креативной рецепции 102
2.3.3. Проблема коммуникации в постмодернистской пародии 117
Глава 3. Восстановление субъектности в русском литературном дискурсе рубежа XX-XXI веков 124
3.1. Биографический дискурс в современном романном нарративе и стратегии вовлечения читателя 124
3.2. Самоустранение автора в «писательском» сюжете 129
3.3. Жанровые формы «воскрешения субъекта» в русской литературе начала XXI века 142
3.3.1. Форма эпистолярного романа как средство актуализации чтения 142
3.3.2. Преодоление письма в романе-дневнике 148
3.3.3. Свободный нарратив как антилитературная стратегия 155
Заключение 160
Библиография 165
- Понятие дискурса и дискурсного анализа в литературе рубежа XX-XXI веков
- «Миф о чтении» как особая форма рефлексии художественной коммуникации
- Обнажение читательской стратегии в креативной рецепции
- Свободный нарратив как антилитературная стратегия
Введение к работе
Диссертационное исследование посвящено проблеме изменения коммуникативных отношений автор-текст-читатель в структуре художественного текста в новейшей русской литературе. Автор и читатель рассматривались на протяжении XX века в рамках различных теорий, поочерёдно выходя на первый план. Главенствующую роль автора в художественном дискурсе в разное время отстаивали М. Бахтин, У. Бут, П. Лаббок, С. Бёрк, однако цельная теория автора в литературоведении так и не была сформирована. На том, что лидирующую позицию в структуре художественного текста занимает читатель, настаивали Э. Эннекен, А. Белецкий, Р. Барт (он же ввёл понятие «смерть автора»), М. Фуко, У. Эко и американская школа рецептивной критики. В 1990-е годы XX века учёные стали высказываться в пользу изучения реальной диалектики автора и читателя, но и сегодня не существует такой теории, где субъекты художественной коммуникации рассматривались бы одновременно и на равных правах. Наиболее серьёзной предпосылкой для появления такой теории видится идея «воскрешения субъекта», возникшая в конце прошлого века. Эта философская установка является инструментом противодействия радикальному постмодернизму, который последовательно на протяжении десятилетий строил децентрированный мир. Ризоматичность такого мира породила кризис идентичности, то есть существующую в современной культуре затруднённость нахождения человеком своего места в культурной системе. Гленн Уард в книге «Понять постмодернизм» указывал на то, что постмодернисткая идентичность, сконструированная и фрагментированная множеством кодов и контекстов, представляет собой постоянный процесс становления. Для преодоления кризиса идентичности сознание и дискурс вынуждены искать почву для нового конституирования, установления вторичных точек объективности. При этом преодоление кризиса представляется возможным только в процессе коммуникации, так как субъект-субъектные отношения задают ту систему координат, в которой постмодернистское расщеплённое Я находит своё единство и позицию по отношению к Другому. Экспериментальным полем, в котором реализуется общефилософская установка на «воскрешение субъекта» и восстановление субъект-субъектных отношений, является художественный дискурс. Возможность наблюдать этот процесс, с нашей точки зрения, дают тексты новейшей русской литературы, в которых действуют персонажи-писатели и персонажи-читатели. Их коммуникация внутри дискурса не только моделирует отношения реальных автора и читателя, но и во многом определяет коммуникацию имплицитных автора и читателя (термины У. Бута и В. Изера соответственно), то есть субъектов коммуникации, имманентных тексту.
Введение персонажа-писателя в художественный текст традиционно рассматривается исследователями с точки зрения творческой рефлексии. Она изучается достаточно широко, и в большинстве случаев речь идёт о некоем авторском метатексте, буферной зоне, формируемой за счёт дистанции между биографическим автором и его пишущим персонажем. Такую литературу называют метафикциональной. Термин «метафикциональность» введён в 1995 г. М. Карри в работах о поэтике метапрозы. Современные исследователи под метафикциональностью понимают «самосознание разнообразных феноменов культуры в качестве артефактов, обнаружение ими собственной сконструированности и фикциональности» (Третьяков, 2009). В рамках исследований метафикциональной литературы эпохи модернизма исследователи особое внимание уделяют фигуре «метаавтора» («креативный субъект, ведущий диалог с собственным Другим», (Григорьева, 2004)) и именно автора рассматривают как главного героя произведения, так как речь идёт о его поиске художественной формы (Черницкая, 2010). Такая точка зрения определяет статус художественного метатекста как методологического дискурса и критики художественной методологии. Введение персонажа-читателя, в свою очередь, традиционно осмысляется как рефлексия литературного творчества в иронической или трагической модальности. Уже в произведениях Шекспира и Сервантеса читающие герои появляются затем, чтобы сообщить, что книга утратила свой сакральный статус (Турышева, 2011). Однако в полной мере читатель как персонаж смог реализовать себя в литературе постмодернизма. Актуализацию персонажа-читателя именно в этот историко-литературный период мы объясняем тем, что постмодернистские тексты существуют в условиях всеобъемлющего интертекста, а значит не рефлексия собственного творческого метода, но рефлексия текстов-предшественников становится первичной темой для метатекста.
Таким образом, персонаж-писатель и персонаж-читатель являются главными героями метатекста разных литературных парадигм, но оба они выполняют роль актуализаторов методологического дискурса, который постепенно подменяет собой содержание литературы вообще.
Актуальность исследования обусловлена обращением к проблеме «воскрешения субъекта» в новейшей русской литературе, которая до сих пор не изучалась с этой точки зрения. Количество русских романов, рассказов, пьес, в которых действуют персонажи-писатели, персонажи-читатели и другие подобные модели участников дискурса, резко выросло за последнее десятилетие. Романные сюжеты всё больше концентрируются вокруг рефлексии над разными аспектами художественного дискурса, используя для этого различные стратегии, фактически воплощённые в персонажах и вовлекающие читателя в «перестройку» литературной парадигмы. Необходимость субъект-субъектных отношений как условия конституирования коммуникативного поля внутри художественного дискурса привела к объединению актантов метатекста — пишущих и воспринимающих персонажей. Виртуальные фигуры автора и читателя объединяются в дискурсе, организуя общее коммуникативное поле, а значит, в исследовании современных текстов возникает необходимость анализировать обе субъектные инстанции дискурса в комплексе.
Ещё один новый феномен метатекстуальности, который требует рассмотрения в рамках исследования, — ситуация, когда реальный читатель интертекста приобретает не только традиционную рецептивную, но и креативную функцию. Этот феномен исследователи называют «креативной рецепцией», и на сегодняшний день он получил не только широкое распространение, но и попал в поле внимания литературоведов (например, Е. Абрамовских, М. Загиддулина, С. Трунин и другие). Феномен креативной рецепции видится нам ещё одной значимой формой коммуникации автора и читателя. Зачастую автор претекста становится персонажем в тексте-рецепции, и тексты такого рода заслуживают подробного анализа в соответствующем контексте.
Объект исследования — тексты русской литературы позднего постмодернизма, в которых действуют персонажи-писатели и персонажи-читатели, моделирующие в структуре художественного текста коммуникативную ситуацию реальных субъектов дискурса.
Предмет исследования — роль автора и читателя в коммуникативной системе литературы конца 1990-х–2010-х годов, интенцией которой становится возвращение субъектам коммуникации их первоначального статуса и манифестация коммуникации как основной ценности новой, хотя и вторичной в истории литературы, аксиологической системы.
Материал исследования: русские романы и повести, написанные в 1990-х–2010-х годах: М. Галина «Медведки», А. Григоренко «Мэбэт», Т. Толстая «Кысь», М. Елизаров «Библиотекарь», И. Яркевич «Ум, секс, литература», Н. Псурцев «Голодные призраки», В. Сорокин «Голубое сало», П. Пепперштейн «Яйцо», М. Шишкин, «Письмовник» и «Венерин волос», Д. Данилов, «Горизонтальное положение», А. Понизовский «Обращение в слух». Исключение составляют тексты Д. Бавильского и Б. Юхананова, которые представляют собой пьесы и публицистику: эти тексты рассмотрены в совокупности как «рецептивный комплекс», что является редким случаем заданного авторами общего функционирования нескольких отдельных текстов. Тексты, проанализированные в данной работе, являются наиболее показательными с точки зрения тех тенденций, которые мы считаем необходимым проследить в новейшей русской литературе, а также обнажают приёмы моделирования коммуникации и стратегии актуализации субъектов художественного дискурса. Единственный текст, не относящийся к русской литературе, который также анализируется в рамках данной работы, — пьеса Матея Вишнека «Машина Чехов», позволяющая наблюдать процесс функционирования русского писателя в качестве персонажа его авторского текста наиболее наглядным образом. Ряд текстов, использованных для исследования, не проанализированы в работе подробно, однако составляют репрезентативный контекст для того, чтобы считать выводы, проиллюстрированные на примере одного-двух текстов, не случайными, но тенденциозными.
Цель исследования — представить систему коммуникативных стратегий автора и читателя в структуре художественного текста как единое коммуникативное поле современного художественного дискурса.
В процессе достижения цели исследования необходимо решить ряд задач:
-
Уточнить понятие «художественный дискурс» применительно к литературе 1990-х–2010-х годов.
-
Выявить место в современном художественном дискурсе виртуальной фигуры автора, выступающего как креативная функция, и роль читатель-скриптора, обеспечивающего благодаря встрече с фигурой автора феномен креативной рецепции.
-
Рассмотреть приёмы дописывания художественных текстов и ремейков — переписывания претекстов в новой форме, выявить и типологизировать разновидности ремейков в современной русской литературе.
-
Проанализировать и интерпретировать понятие ремифологизации, возникающее в поле вторичного означивания мира. Показать на материале романа М. Галиной «Медведки» связь процесса ремифологизации с обнажением авторской стратегии и созданием персонального сюжета персонажа. Исследовать роль ремифологизации на уровне скрипции на примере романа А. Григоренко «Мэбэт». Проанализировать механизм создания и деконструкции мифа в структуре художественного текста на материале романов Т. Толстой «Кысь» и М. Елизарова «Библиотекарь».
-
Исследовать понятие литературной репутации как основы импликации в текст классика определённой мифологии или культурного концепта писателем эпохи постмодернизма.
-
Интерпретировать роль биографического дискурса как стратегию вовлечения читателя, направленную на разрешение кризиса идентичности.
Научная новизна исследования состоит в том, что в поле научного анализа и теоретического обобщения в качестве материала введены тексты новейшей литературы, находящиеся в динамике и в связи с этим традиционно являющиеся предметом внимания литературной критики, а не литературоведения. В работе разработан новый тип анализа, который не только позволяет исследовать этот материал, но и демонстрирует уникальность полученных данных. В результате исследования задана система координат в современном литературном процессе посредством анализа коммуникативной системы универсальных субъектов художественного дискурса (автора и читателя) и поиска точек развития этого дискурса. В соответствии со спецификой анализируемого материала теоретические работы подвергнуты реинтерпретации и взаимному дополнению, так как теории, конвергентной рассматриваемым художественным текстам, на сегодняшний день не существует. Благодаря интерпретируемым текстам и реинтерпретации существующих теоретических работ сформированы предпосылки следующего этапа развития теории литературы.
Теоретическая значимость исследования заключается в формулировании на базе дискурсного и рецептивного анализа новых принципов описания позиций автора и читателя в структуре художественного текста. Разработана основа для типологии форм креативной рецепции. Проанализирован приём ремифологизации в современной русской литературе.
Практическая значимость. Материалы данной работы могут стать основной для дальнейшего исследования специфики коммуникации в современном художественном дискурсе. Анализ ремейков и роли литературной репутации могут быть использованы для пересмотра в школьном преподавании литературы тем, связанных с биографиями авторов (особенно писателей-классиков), и преподавания современной литературы в целом (так как ремейки позволяют продемонстрировать обучающимся связь между классикой и современностью, что одновременно способствует более комфортному принятию первых текстов и легитимации последних в общелитературном контексте); прежде всего, материалы диссертации будут полезны для пересмотра стереотипов «школьного литературоведения» об А.П. Чехове и его текстах.
Методологическая база исследования строится на традициях рецептивного анализа, основные термины и постулаты которого представлены в работах В. Изера, М. Риффатера, Х-Р. Яусса и немецких феноменологов (Э. Гуссерль, Г.Г. Гадамер), а также различных типах дискурсного анализа: дискурсивная психология (Д. Поттер, М. Уэтерелл, Ж. Лакан), теория дискурса Л. Филлипс и М.А. Йоргенсен и др.. В области художественного дискурса наиболее значимой представляется теория М.М. Бахтина о диалогической природе словесного искусства, которая развивается в работах большинства исследователей дискурса. В диссертации используются теоретические работы В.И. Тюпы, Т.А. ван Дейка, Р. Барта, Ж. Деррида, М.Фуко, У. Эко, П. де Мана и работы современных российских литературоведов, посвящённые русской литературе эпохи постмодернизма: Е. Абрамовских, М. Абашевой, М. Загиддулиной, И. Скоропановой.
Методы исследования: рецептивный и дискурсный анализ, используемые в комплексе.
На защиту выносятся следующие положения:
-
Традиционные отношения автор-текст-читатель в новейшей литературе имеют более сложную структуру коммуникации, чем на предыдущих исторических этапах: тексты не только изображают читателя как персонажа, но и апеллируют к адресату, в результате чего метафикциональность в литературе выходит на новый уровень.
-
Одним из основных инструментов деконструкции отношений автор-текст-читатель выступает ремифологизация на разных уровнях: скрипции, наррации, рефлексии художественной коммуникации, как средство конструирования читательского диалога и стратегия космогонизации изображаемого мира.
-
Наиболее репрезентативной формой читательского переосмысления связи современной литературы с предшествующими литературными парадигмами является креативная рецепция.
-
Основной стратегией восстановления субъектности автора и читателя в художественном дискурсе выступает биографический дискурс.
-
Восстановление субъектности участников коммуникации в структуре художественного текста подвергает изменениям традиционные литературные жанры (эпистолярный роман, дневник) и расширяет поле художественного дискурса за счёт внехудожественных элементов.
Апробация материала диссертации осуществлялась на ежегодных студенческих конференциях ИФМИП НГПУ (Новосибирск, 2007, 2008, 2009 гг.); конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири» (Новосибирск, НГТУ, 2008 г.); XLVII Международной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс (Новосибирск, НГУ, 2009 г.); конференциях молодых учёных Филологические чтения «Проблемы интерпретации в лингвистике и литературоведении» (Новосибирск, ИФМИП, НГПУ, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.), а также на аспирантских семинарах кафедры русской литературы и теории литературы НГПУ (2010, 2011, 2012 гг.) и научных семинарах «Открытая кафедра» кафедры зарубежной литературы и теории обучения литературе НГПУ (2012, 2013 гг.). Основные положения работы изложены в шести публикациях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы, включающего 200 наименований.
Понятие дискурса и дискурсного анализа в литературе рубежа XX-XXI веков
Одним из ключевых понятий для нашего исследования является эстетический дискурс. Понятие дискурса по-разному (хотя и не без общего основания) трактуется в различных областях гуманитарного знания и имеет огромное количество определений. В общелингвистическом смысле дискурс — это любое высказывание, подразумевающее адресата, адресанта и передаваемое сообщение. В универсальном виде дискурс определяет теоретик языка Т.А. ван Дейк: «Дискурс есть коммуникативное событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определённом временном, пространственном и проч. контексте. Это коммуникативное действие (КД) может быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие»5. При этом ван Дейк подчёркивает различие между дискурсом и текстом, соотнося его с понятиями речи и языка: дискурс — актуально произнесённый текст, текст — абстрактная структура.
Представление о дискурсе как о философской категории, инструменте познания, а не прагматическом акте, сформировал в своих работах М. Фуко. С точки зрения Фуко, дискурс — это совокупность высказываний, объединённых общей формацией, теоретическим горизонтом, знаками принадлежности к некой дисциплине или сообществу. При этом он является не только инструментом познания, но и системой ограничения для «воли к истине», препятствием между желанием знать и истиной. Фуко рассматривает формирование дискурса в этом статусе исторически: «Если поставить вопрос о том, какой была и какой она постоянно является, проходя через все наши дискурсы, — эта воля к истине, которая прошла через столько веков нашей истории; если спросить себя: каков, в самой общей форме, тот тип разделения, который управляет нашей волей к знанию,— мы увидим тогда, быть может, как вырисовывается нечто похожее как раз на систему исключения (систему историческую, подверженную изменениям, институционально принудительную). Это разделение сложилось, несомненно, исторически. Ещё у греческих поэтов VI века истинным дискурсом — в точном и ценностно значимом смысле,— истинным дискурсом, перед которым испытывали почтение и ужас, которому действительно нужно было подчиняться, потому что он властвовал, был дискурс, произнесённый, во-первых, в соответствии с надлежащим ритуалом; (...) Но вот век спустя наивысшая правда больше уже не заключалась ни в том, чем был дискурс, ни в том, что он делал,— она заключалась теперь в том, что он говорил: пришёл день, когда истина переместилась из акта высказывания — ритуализованного, действенного и справедливого — к тому, что собственно высказывается: к его смыслу и форме, его объекту, его отношению к своему референту» (Фуко, 1971, с. 54-55). Осмысляя исторический переход сути дискурса от вербального высказывания к содержанию, Фуко фактически определяет его как дополнительное звено между мыслью и речью: «...европейская мысль, кажется, не переставала заботиться о том, чтобы для дискурса оставалось как можно меньше места между мыслью и речью, о том, чтобы дискурс выступал только как некоторая вставка между "думать" и "говорить"; как если бы дискурс был мыслью, облеченной в свои знаки, мыслью, которая становится видимой благодаря словам, равно как и наоборот,— как если бы дискурс и был самими структурами языка, которые, будучи приведены в действие, производили бы эффект смысла» (там же, с. 74-75). Представляя дискурс как гносеологический инструмент, находящийся в постоянной динамике между смыслом и формой, философ, по сути, формулирует то представление, которое наиболее близко к эстетическому бытованию дискурса. При этом Фуко определяет и роль субъекта в дискурсе: «Вполне возможно, что одним из таких способов стереть реальность дискурса является тема основополагающего субъекта. В самом деле: основополагающему субъекту вменяется в обязанность непосредственно своими намерениями вдыхать жизнь в пустые формы языка; именно он, пробиваясь сквозь плотность и инертность пустых вещей, вновь обретает — в интуиции — тот смысл, который был, оказывается, в них заложен; именно он опять же, по ту сторону времени, создаёт горизонты значений, которые истории в дальнейшем придётся лишь эксплицировать, и где высказывания, науки, дедуктивные ансамбли найдут, в конечном счёте, своё основание. По отношению к смыслу основополагающий субъект располагает знаками, метками, следами, буквами, но для того, чтобы их обнаруживать, ему нет нужды проходить через особую реальность дискурса» (там же, с. 75). В этом фрагменте для нас наиболее важным является тот факт, что говоря об «основополагающем субъекте» Фуко фактически допускает, что этим субъектом является и адресат, и адресант высказывания, так как «вдыхать жизнь» и «обретать смысл» посредством знаков, которыми располагает субъект, могут обе инстанции.
Важно, что и для ван Дейка, и для Фуко, несмотря на разные основания их подходов (и последующую критику обеих теорий новыми теориями), дискурс сопряжён с социальным функционированием, от минимального взаимодействия участников диалога, актуализирующего текст, до условий функционирования дискурса, задаваемых определённой социальной формацией. Именно это общее начало ключевых теорий повлияло на дальнейшее развитие исследования дискурса. К примеру, Л. Филлипс и М.В. Иоргенсен в книге «Дискурс-анализ. Теория и метод» обобщают три различных метода дискурсного анализа, которые в итоге могут функционировать во взаимодействии, так как в их основе можно выделить социально-конструкционистское начало. Авторы исследования анализируют теорию дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф, критический дискурс-анализ Н. Фэркло и дискурсивную психологию и находят возможности для их пересечения и взаимодополнения этих разных аналитических систем, так как наиболее продуктивные методы дискурс-анализа обращаются к дискурсу как к способу конституирования мира, создания репрезентаций о мире и формировании идентичностей.
Кратко рассмотрев конгитивно-лингвистическое, философское и социальное (социально-психологическое) представление о дискурсе, можно с уверенностью утверждать, что ядро представлений о дискурсе и, соответственно, его анализе можно назвать общим не только в этих областях, но и по отношению к эстетическому дискурсу. Наиболее веским аргументом в пользу такого обобщения (которое мы делаем не в попытке нивелировать различия, но с целью очертить некий комплекс представлений, которым будем руководствоваться в дальнейшем исследовании) можно считать тот факт, что и современные конструкционисты, и исследователи эстетического дискурса опираются на философскую теорию М.М. Бахтина. Поэтому и переходя к вопросу об анализе непосредственно эстетического дискурса, мы обратимся к теории учёного, продолжающего в современности бахтинскую диалогическую традицию — В.И. Тюпе, в чьей теории, кстати, в диалоге согласия пребывают и противопоставляемые многими ван Дейк и Фуко.
Как мы уже отметили во введении, сюжеты многих современных романов концентрируются вокруг осмысления самого художественного дискурса, а их персонажи являют собой способы присутствия субъектов коммуникации — адресата и адресанта. Таким образом, структура дискурса, сводимая к схеме «Адресант-Текст-Адресат» удваивается внутри своего центрального звена: актанты внутритекстовой коммуникации претендуют на те же функции, что и реальные автор и читатель. Такое удвоение усложняет не только художественную структуру текста, но и методологию его анализа, так как текст фактически вынуждает исследователя считаться с его собственными актантами, в современной литературе зачастую «владеющими» литературоведческими методами. Дискурсный (или неориторический) анализ в том виде, в котором его предлагает использовать В.И. Тюпа, видится нам наиболее адекватным исследуемым в нашей работе типом анализа, так как позволяет отделить «внешнюю» коммуникацию от «внутренней».
«Миф о чтении» как особая форма рефлексии художественной коммуникации
Говоря о «мифологии чтения», мы имеем в виду одновременно несколько явлений, представляющих собой целую систему, которую образует чтение (на сюжетном уровне) в структуре художественного текста.
Во-первых, речь идёт о тех культурных стереотипах, которые связаны с чтением как феноменом «духовной жизни» (в русскоязычном, литературоцентричном обществе — особенно). В современной русской словесности эти стереотипы переосмысляются. Во-вторых, речь идёт о самом процессе чтения как сакральном действии и о тексте как сакральном явлении. «Надпись в течение столетий воспринималась в неграмотной среде как нечто безусловно ценное», — пишет Б.М. Соколов в работе, посвященной лубочной культуре (Соколов, 1995, с. 55). «С помощью ссылки на хранящиеся у человека книги демонстрируется как его «божественность», религиозность, так и умение колдовать», — сообщает Екатерина Мельникова в своей монографии «Воображаемая книга» (Мельникова, 2011, с. 42), говоря о бытовании книг в русской крестьянской среде. Безусловная ценность написанного и безусловная ценность умения расшифровывать написанное, исторические истоки которой находятся во временах, когда грамотность была мало распространена, становится в современной словесности источником вторичной мифологизации чтения.
Наконец, речь идёт о том, что стеореотипность и сакральность чтения как феномена во многом позволяют избежать собственно чтения, позволяя оперировать мифическими представлениями о том, что такое чтение.
Для того чтобы проанализировать мифологию чтения в современной русской литературе, мы обратились к двум романам: «Кысь» Татьяны Толстой (опубликован в 2000 году) и «Библиотекарь» Михаила Елизарова (2007 год). Эти два текста сопоставляются в рамках одного исследования не впервые. Сближение сюжетов, целиком выстроенных вокруг книг и их читателей, не могло пройти незамеченным критиками и литературоведами. Н.П. Дворцова в статье «Метафизика книги и чтения в литературном сознании 2000-х гг.» пишет о том, что «Кысь» и «Библиотекарь» (как и другие тексты Елизарова) написаны в русле «библиокластики» — традиции уничтожения книг — и служат для «дискредитации литературы во имя возвращения к её истинной сути». Ещё одна статья, строящаяся вокруг названных романов, — «Память человечества» Александра Киселя. Как становится понятно из названия, речь в статье идёт о значении книги в истории человечества как хранилища опыта и знаний, а также ставится вопрос о том, пришёл ли книге конец, благодаря опять же писательской «дискредитации», или это её новое начало.
Приводя в качестве примеров статьи Дворцовой и Киселя, мы обращаем внимание на то, что они существуют в общем русле, выстроенном в контексте европейской традиции: от «Дон Кихота», разрушителя рыцарского романа, до Рэя Бредбери, привлёкшего внимание мирового читателя к проблеме жизни без книг в романе «451 градус по Фаренгейту». Однако нельзя не обозначить тот очевидный факт, что литература «двухтысячных» — логическое продолжение, но ни в коем случае не повторение предшествующей, так как миф о чтении в современной культуре неизбежно изменился44. И «Библиотекарь», и «Кысь» обращаются к понятию сакральности книги, но по-разному разыгрывают взаимоотношения книг и чтения.
Сюжет «Библиотекаря» построен вокруг «семикнижия» советского писателя Громова — семи вымышленных производственных повестей и романов45. Каждая из этих книг, будучи прочитана при соблюдении двух условий — Тщания и Непрерывности — открывает читателю свои скрытые способности по изменению сознания. Среди адептов эти книги называются Книга Памяти, Книга Силы, Книга Ярости, Книга Радости, Книга Терпения, Книга Власти и главная — Книга Смысла. Находя какую-то из книг и случайно прочитывая её с соблюдением Условий, самые разные люди попадают в зависимость от её магического действия и стремятся найти другие книги. В процессе поиска и борьбы за книги формируются библиотеки и читальни — воинственные общины, организованные по принципу сект, с жёсткой иерархией, то и дело вступающие в кровавые сражения между собой.
Читателями в таких общинах становятся обычно маргиналы: спившиеся интеллигенты, старухи из дома престарелых, бывшие заключённые, не сумевшие социализироваться, и другие. В контексте романа и «елизаровского текста» в целом — это люди, оставшиеся «за бортом жизни» в результате распада Советского Союза. Они обретают в книгах новый смысл жизни и готовы за них умереть. Где-то в отдалённой перспективе существует представление о том, что собранные вместе семь книг подарят человеку бессмертие. Эта идеология, близкая к советской идее борьбы за светлое коммунистическое будущее, окружается соответствующим антуражем: боевой дух читатели-бойцы поднимают песнями советских композиторов; фальшивое детство, которое подбрасывает им Книга Памяти, целиком состоит из ностальгических моментов (не принадлежащих самим персонажам-читателям) вроде посвящения в пионеры и взлёта Олимпийского мишки. Книга Смысла, которую в итоге находят читатели, открывает им не смысл, но замысел Семикнижия. Он заключается в христианском понятии «Неусыпаемая Псалтирь»: избранный Хранитель Родины должен без остановки читать книги в хронологическом порядке, и пока чтение продолжается, над Родиной стоит непроницаемый купол или Покров, защищающий её от врагов. Смешение советской и религиозной риторики и образности уже хорошо описано по отношению к литературе соцреализма (например, в работах Евгения Добренко), так что мы не будем на них останавливаться; «Библиотекарь» как раз продолжает или, скорее, эксплуатирует эту традицию.
Тексты, которые читают персонажи Елизарова, не имеют художественной ценности, а являются чем-то из разряда заговоров и заклинаний — ритмически организованные слова, которые вводят человека в транс и актуализируют тот или иной скрытый резерв его мозга или тела: дают физическую силу, харизму или невосприимчивость к боли. То есть категория художественной коммуникации становится нерелевантной для персонажа-читателя. Именно эффект, который оказывают книги на читающего, становится залогом их сакральности, а убийство или смерть за одну из книг — нормой. Даже автореферентная функция подменяется культурными шаблонами: не погружение в собственные воспоминания или рефлексия, но фиктивные переживания, мнимая оболочка личности — результат встречи сознания с текстом.
Мифология, возникающая в итоге, — формирование вторичного космогонического мифа, который, по сути, одновременно является и эсхатологическим. По большому счёту, он только даёт отсрочку, пусть даже вечную, катастрофе. Идеальная Родина создаётся и существует в процессе чтения, но за пределом его окончания неминуемо оказывается в беде: «..есть особый тайный человек, владеющий сокровенным Семикнижием. Ему известно — покуда читаются Книги, одна за другой, без перерыва, страшный Враг бессилен. Страна надёжно укрыта незримым куполом, чудным покровом, непроницаемым сводом, твёрже которого нет ничего на свете, ибо возводят его незыблемые опоры — добрая Память, гордое Терпение, сердечная Радость, могучая Сила, священная Власть, благородная Ярость и великий Замысел. (...) Тот, кто читает Книги, не ведает усталости и сна, не нуждается в пище. Смерть не властна над ним, потому что она меньше его трудового подвига. Этот чтец — бессменный хранитель Родины. Он несёт свою вахту на просторах мироздания. Вечен его труд. Несокрушима оберегаемая страна» (Елизаров, 2011, с. 298-299).
Обнажение читательской стратегии в креативной рецепции
Ещё один путь использования Чехова-персонажа в тексте представляет пьеса французского драматурга Матея Вишнека «Машина Чехов». Это не столько деконструкция чеховской мифологемы, сколько, напротив, попытка «собрать» Чехова воедино. Вишнек предваряет свою пьесу письмом к Чехову, которое подписывает своим именем, и в котором говорит о своих читательских и писательских переживаниях, связанных с Чеховым, а также объясняет замысел своей пьесы. Сама пьеса состоит из девяти сцен (плюс две дополнительные), в которых участвуют персонажи пяти чеховских пьес и их автор — как сквозной персонаж. Биографические детали переплетаются с художественными, подобно тому, как это происходит в уже рассмотренной нами пьесе Дмитрия Бавильского. Но «Машина Чехов» претендует на куда больший охват «чеховского текста». Если в «Чтении карты на ощупь» в текстовом пространстве встречается диэгетический нарратор (как альтер эго автора) и автор претекста, то в «Машине Чехов» писатель «присваивает» Чехова и его текст рамкой, которая задаётся письмом. Письмо предуведомляет читателя о том, что «Машина Чехов» — создание Матея Вишнека, его собственный «чеховский текст», его персональная модель чтения.
Обращаясь к Чехову, Вишнек говорит о том, что Чехов стал предтечей абсурда, что беккетовское «ожидание» — родом из чеховских «Трёх сестёр», а прохожий (персонаж «Вишнёвого сада») предвещает «целое литературное направление будущего»54. Вишнек пишет, что все чеховские пьесы могут составить одну пространную пьесу, а их главный герой — «атмосфера, некий туман, внутри которого люди ведут себя, как призраки, неспособные общаться, вечно скользящие по рельсам, которые никогда не пересекаются...» (Вишнек, 2009, с. 6). Эта атмосфера — родная для тех, кто восхищался чеховским театром во время коммунизма, как сам Вишнек: «И это потому, что, стараниями режиссёров времён моей юности, чеховский мир стал репликой на наше заключение в коммунистической психушке. В персонажах, которых вы придумали, почти всегда растоптанных судьбой, мы видели себя самих...» (там же, с. 5). Это восприятие текста Чехова как кода, примеривание его на собственную судьбу и судьбу целого поколения, очевидно, и становится толчком для того, что французский драматург, родом из Румынии, оказывается в плену чеховского мира и становится его литературным адептом. Письмо завершается следующими словами: «Я кончаю письмо просьбой не сердиться на меня и простить меня за то, что, безмерно восхищаясь вами, я в конце концов превратил и Вас, Антон Павлович, в персонажа пьесы. Другими словами, я позволил себе написать пьесу, где Вы стали главным героем, героем на смертном одре, но героем бессмертным, в окружении персонажей своих же пьес, особенно тех персонажей, которые изведали смерть и которые приходят, чтобы научить Вас, как умирать, но более всего — как жить... Я чувствовал необходимость выразить таким образом моё почтение к Вам, мой дорогой маэстро, и попытаться самому, в процессе письма, лучше понять внутреннюю механику того творчества и того мира, что не дают мне покоя ни на один миг», (там же, с. 7-8).
Здесь важно не столько обнажение причин, по которым Вишнек делает Чехова своим персонажем, тем более что выражение почтения нельзя считать достаточной мотивацией для создания нового художественного текста. Более значительным нам представляется, что Вишнек стремится понять внутреннюю механику творчества через письмо. Стилизация и интерпретация, которые становятся двумя основными механизмами создания текста Вишнека, фактически признаются им самим в качестве механической, хоть и осознанной, работы по переписыванию, присвоению чужого текста, стиля, манеры, художественного мира. И если драматург признаёт Чехова создателем театра абсурда, то выведение абсурда на поверхность (преимущественно в ремарках, адресованных постановщикам) — единственный негерменевтический, а сугубо художественный приём, используемый Вишнеком. Весь остальной текст оказывается в большей степени результатом осмысления, желания проговорить скрытые смыслы, столкнуть не столько персонажей Чехова с Чеховым, сколько себя — читателя — предъявить автору под маской его собственного героя.
Первая часть пьесы — список действующих лиц. Он даётся в двух формах: сначала это стандартный список, затем — краткие словарные статьи: «Антон Павлович ЧЕХОВ — русский писатель и врач, родился в 1860-ом, умер от туберкулёза а 1904-ом; его последняя пьеса — „Вишнёвый сад"», «Ермолай Алексеевич ЛОПАХИН — персонаж из „Вишнёвого сада", богатый купец, именно он покупает вишнёвый сад Раневской, к которой питает двойственные чувства. „Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыла всё и люблю вас, как родную... больше, чем родную". В одном из писем Чехов пишет: „Лопахин, правда, купец, но порядочный человек во всех смыслах"» (там же, с. 11). В каждой «статье» есть указание на то, в какой пьесе встречается персонаж, его родственные или служебные (лакей, няня) связи с другими персонажами и основная событийная или психологическая характеристика в пьесе-источнике. Что касается этих основных характеристик, то даются они субъективно, хотя и относятся до начала событий новой пьесы к пьесам Чехова. Например, роль Аркадиной исчерпывается тем, что «её отношения с сыном непросты, поскольку она видит в нём ненавистное зеркало, отражающее её возраст». Треплев — «молодой человек из той же пьесы; после одной неудачной попытки самоубийства предпринимает вторую, под занавес; „..жаль, что у меня мать известная актриса, и, кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее"» (там же). Как видно из этой характеристики, незначительным фактом (выброшенным из досье персонажа) оказывается не только любовь к Нине Заречной, но и то, что Треплев — писатель. Такую редукцию можно было допустить, объясняя её тем, что в новом тексте востребована только одна линия отношений из «Чайки». Однако то, каким образом вырвана из чеховского контекста реплика Треплева, во многом изменяет смысл пьесы-источника. Из логики характеристики, причиной самоубийства Треплева становится исключительно неудовлетворённость отношениями с матерью.
Всего в пьесе 17 персонажей: Чехов, Прохожий, Лопахин, старая няня Анфиса, старый лакей Фирс, Аркадина, Треплев, Тузенбах, Солёный, Три сестры: Ольга, Маша, Ирина (фактически действуют как один персонаж, характеристика даётся всем трём одна); Три доктора: Чебутыкин, Астров, Львов; Анна Петровна (Сарра), Бобик. Бобик, который не является действующим лицом в полном смысле («Бобик становится средством захвата Натальей Ивановной власти в доме»), играет в «Машине Чехов» значительную роль.
Жиль Делёз в книге «Различие и повторение» строит типологию возможного со-авторства на принципе различия «дописывания» (продолжения) и «переписывания» (повторения) текстов предшественников. Повторение-кража — это копия, не расширяющая заимствования, не дополняющая его смысла, не осваивающая его творчески. Повторение-дар — это бесконечное развитие смысла, становление, избыточность идеи. Вероятнее всего, именно с избыточностью идеи читательской коммуникации с чеховским текстом мы имеем дело, обращаясь к пьесе Вишнека.
В первой сцене пьесы пространство выстраивается с позиций биографической достоверности. Комната, в которой Чехов разговаривает с Анфисой, «может напоминать спальню чеховского дома в Ялте: железная кровать, деревянные стол и стул, кресло-качалка и плетёное кресло, старый буфет, ковёр у кровати...» (там же, с. 13). Чехов немногословен и «глухой к словам», он собирается уходить. Анфиса ругает его за испачканные кровью простыни, за то, что пишет слишком много писем и принимает у себя слишком много людей: «Что вы за доктор, Антон Палыч? Как такое возможно, чтобы человек был доктор, а сам кровью плевал? Чему вас там учили, в ниверситете?» (там же, с. 14), «Да, вам должно быть стыдно, Антон Палыч, что вы таким молодым помираете» (там же, с. 15).
Свободный нарратив как антилитературная стратегия
В этом пункте мы обратимся к анализу современных русских романов, в основе которых в той или иной форме лежат истории, рассказанные реальными людьми и записанные писателями. Наиболее известным текстом в этом роде стал роман Михаила Шишкина «Венерин волос». Роман был впервые опубликован в 2005 году, и в основу его легли два типа заимствованного дискурса. Основная часть романа построена в форме диалога, где выделены «вопрос» и «ответ». Главный герой и повествователь — толмач, чья задача слушать истории беженцев из СССР, претендующих на политическое убежище в Швейцарии, чтобы потом сделать вывод о достоверности или недостоверности их рассказов. Эта сюжетная канва носит автобиографический характер: Михаил Шишкин работал переводчиком для иммиграционных властей в Швейцарии. В этой же форме ведётся повествование и об истории самого толмача. Ещё одна часть — дневник певицы Изабеллы Юрьевой, которую толмач должен «воскресить» — напомнить о ней. Для этой части автор заимствовал целые фрагменты мемуаров Веры Пановой «Моё и только моё», в связи с чем был обвинён в плагиате. Отвечая на обвинения, Шишкин исчерпывающе объясняет свою авторскую стратегию в открытом письме74: «Я хочу написать идеальный текст, текст текстов, который будет состоять из отрывков из всего, написанного когда-либо. Из этих осколков должна быть составлена новая мозаика. И из старых слов получится принципиально новая книга, совсем о другом, потому что это мой выбор, моя картина моего мира, которого еще не было и потом никогда не будет. (...) Слова -материал. Глина. Важно то, что ты из глины слепишь, независимо от того, чем была эта глина раньше». Эта стратегия, по большому счёту, используется во всех романах Шишкина. Будь то «Взятие Измаила» или «Письмовник»: львиная доля этих текстов — заимствования из литературных и документальных источников, не оформленные как цитаты, не имеющие ссылок на первоисточники. Такая стратегия, тем не менее, во-первых, в полной мере отвечает постмодернистскому замыслу автора: «...„обыкновенный" читатель, разумеется, не обязан непременно угадывать, откуда взята та или иная фраза. Мне важно, что идеальный читатель знает всё. Простой читатель сразу догадается, что предложение „Да", заключающее этот кусок , есть Джойсово „yes", заключающее его роман. Но мне важнее, что идеальный читатель знает, что это «да» — последний ответ Велимира Хлебникова на вопрос крестьянки, в доме которой он уходил из жизни: „Ну что, трудно умирать?"» (там же). Во-вторых, то, каким образом Шишкин сшивает куски, сплетает их с авторским дискурсом, смешивает языковые пласты, как превращает в полифонию отдельные голоса — несомненно, искусство, хотя пересмотр границ «чужого слова» и не стал в 2005 году менее провокационным .
Гораздо менее искусно, с литературной точки зрения, но оттого более удобно для анализа, создаёт полифонию из чужих, заимствованных голосов Антон Понизовский — бывший тележурналист, а теперь заметный писатель, чей дебютный роман «Обращение в слух» стал поводом для многочисленных споров и обсуждений. События в романе Понизовского тоже происходят в Швейцарии. В маленькой гостинице собираются четверо — русский аспирант Фёдор, исследующий русскую душу по аудиозаписям с рассказами случайных респондентов о жизни, присланным ему в Альпы; лыжница Лёля; средних лет обеспеченная пара потенциальных эмигрантов — либерал и западник Дмитрий и его супруга, поклонница феминистских теорий Анна. Вынужденные на несколько дней застрять в швейцарской глуши, лыжники проводят пять дней с Фёдором, слушая и обсуждая его записи. В их диалогах явно выстраивается четырёхголосная идеосфера (с постоянным присутствием фигуры Ф.М. Достоевского), которая, однако, очевидно является каркасом авторского замысла.
Основная ценность романа для нашего исследования в том, что истории, которые слушают герои, — не вымышлены. Подготовка к созданию романа проходила как эксперимент: Антон Понизовский и психолог Татьяна Орлова арендовали торговый павильон на Москворецком рынке и разговаривали там с теми, кто готов был поделиться своей историей. Лев Данилкин на основе рассказа самого Понизовского описывает процесс сбора материала: «Как он им вообще объяснял, что происходит — и чего ему от них надо? Ну как-как: так и говорил, что, вот, писатель, журналист, что занимается проектом «Моя история»: мол, есть история официальная, которая в учебниках, а есть «серая», подлинная, судьбы живых конкретных людей; расскажите нам что-нибудь, пожалуйста, это важно. Никакой рамочной, декамеронной конструкции про Швейцарию вначале не было: Понизовский собирался просто слушать людей, о которых сам ничего не знал, и выуживать из их рассказов сюжеты в надежде, что затем, если как-то скомпоновать их, вытанцуется нечто» . После Замоскворецкого рынка Понизовский и Орлова перебрались в 123-ю медсанчасть города Одинцово Московской области и записывали интервью там. Методика сбора интервью описана в романе, но там её авторство принадлежит профессору Хаасу, научному руководителю Фёдора: «Чтобы понять национальный характер — неважно, русский, турецкий или швейцарский, — т. е. именно чтобы понять «народную душу», «загадку народной души», — нужно было (по Хаасу) выслушать les recits libres («свободные повествования») подлинных «обладателей» или «носителей» этой самой «души», т. е. простых швейцарцев, или простых португальцев, или простых косоваров... Главное — с точки зрения д-ра Хааса — следовало организовать интервью таким образом, чтобы повествование (le recit) от начала и до конца оставалось «свободным» (libre). Ни в коем случае интервьюеру не дозволялось влиять на ход разговора: разрешено было лишь поощрять говорящего («дальше, дальше», «ах как интересно»), а также — при соблюдении ряда строгих ограничений (с французской дотошностью перечисленных Хаасом) — задавать «уточняющие» или «проясняющие» вопросы. Le narrateur (повествователь) должен был рассказывать исключительно то, что хотел сам; как хотел; и сколько хотел. Другим «пунктиком» доктора Хааса была нелюбовь к рассказчикам-горожанам, и особенно к горожанам с высшим образованием. Профессор решительно предпочитал людей «простых», выросших на земле — желательно, в глухой деревне» (Понизовский, 2013, с. 15-16).
В итоге у Понизовского набралось более полусотни историй, расшифрованных филологами-энтузиастами, которые помогли передать особенности речи, говоров респондентов. Значительно сокращённые истории вошли в роман и стали основой той полифонии, которую автору не удалось создать искусственно — из персонажей-интерпретаторов, воплощающих различные точки зрения и социальные теории. Фактически, Понизовский создал роман-вербатим , в котором художественная составляющая выполняет роль композиционной рамки, а содержанием является свободный нарратив, естественная речь, сторителлинг. Эта форма прозаического вербатима, приближенная к литературе нон-фикшн и, по сути, не требующая рамки вымысла, в связи с ретроспективой уже существующих успешных романов, так или иначе использующих схожий приём использования «живого слова», может считаться одной из самых перспективных тенденций современной русской литературы. «Эти истории, которые нам рассказали, вообще все эти люди — такое богатство. Такая сказочная пещера. Как будто приданое нам с тобой. Все живые. А мы их не слышали. Мы их перебивали, пытались их интерпретировать, объяснять. Мы жалели их. А я теперь думаю: может быть, даже не надо сразу жалеть. Чуть попозже: жалеть, возмущаться, сочувствовать — но сначала услышать. Такими, как есть. Это самое важное: не такими, как хочется, не придуманными — а такими, как есть. Просто слушать. Заставить себя замолчать» (там же, с. 510). Несмотря на художественные недостатки романа, именно текст Понизовского можно без преувеличения считать манифестом нового литературного направления: литературы, где автор и читатель облечены в молчание буквально, но это не препятствует, а лишь способствует движению дискурса и осуществлению коммуникации. Позволяет сказанному и услышанному слову снова «сначала быть» — и начать тем самым новый парадигмальный виток в литературе.