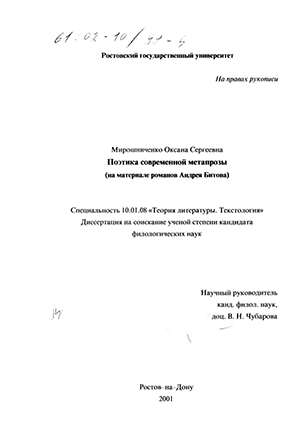Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретическая содержательность понятия «метапроза» 22
1.1. Проблема повествовательного самосознания в литературоведении XX века 22
1.2. Семантика и корреляция понятия «метапроза» в ряду смежных понятий и терминов современного литературоведения 38
1.3. Основные структурно-тематические признаки метапрозы 52
1.4. Историко-литературные модусы метапрозы. Особенности метапрозы XX века 60
1.5. Специфика постмодернистской метапрозы 71
Глава 2. Особенности поэтики метапрозы XX века в романах А. Битова 89
2.1. Роман «Пушкинский дом»: на пересечении основных тенденций в метапрозе XX века 89
2.2. «Преподаватель симметрии» как самосознающий роман о художнике в метапрозе постмодернизма 133
2.3. «Ожидание обезьян»: метапроза в зеркале автопародирования 156
Заключение 179
Библиографический список 185
- Семантика и корреляция понятия «метапроза» в ряду смежных понятий и терминов современного литературоведения
- Историко-литературные модусы метапрозы. Особенности метапрозы XX века
- «Преподаватель симметрии» как самосознающий роман о художнике в метапрозе постмодернизма
- «Ожидание обезьян»: метапроза в зеркале автопародирования
Семантика и корреляция понятия «метапроза» в ряду смежных понятий и терминов современного литературоведения
Вопрос о границах термина «метапроза» и о его соотнесенности с другими понятиями и терминами, претендующими на описание как самосознания в современной прозе, так и традиции «романа о романе», а также проблема четких историко-литературных координат самого явления метапрозы все еще далеки от однозначного и окончательного разрешения.
Как отмечалось выше, сам термин «метапроза» родился в контексте осмысления постмодернистской поэтики. Впервые он появился в эссе постмодернистского теоретика и романиста В. Гасса «Философия и форма литературы» (1970). В. Гасс предложил называть метапрозой те тексты, «в которых литературные формы используются как материал, на который накладываются последующие формы» (цит. по 249, 525). Кроме того, В. Гасс считал, что такая литература всегда содержит самокритику, но ее самосознание исключает любую претензию на мимесис и осмысляет себя как чисто языковое, вербальное образование. В это же время другой исследователь, Роберт Скоулз, применил термин «метапроза» для обозначения современной словесности, для которой «любое письмо, любая композиция есть конструкция. Мы не можем имитировать реальность -мы конструируем ее версию. Не мимесис — только poiesis. Не восприятие. Только конструирование» (цит. по 249, 524). Очевидно, что в этих случаях понятие «метапроза» должно было стать определением для литературного текста, замкнутого на других текстах, от которого «реальность» отделена несколькими посредниками — языками и воспринимается как цепь языковых конструктов, «нарративов». Подобный взгляд неизбежно сближал начальное определение сущности метапрозы с девизами постмодернистского искусства, осознающего так называемые «оковы языка». И сам термин «метапроза» сначала включился в некое состя заниє различных наименований, претендовавших именно на описание специфики постмодернистской прозы.
Однако ведущие теоретики метапрозы (П. Во, Л. Хатчин и др.), как уже указывалось, не ограничивают это литературное явление рамками постмодернизма. И хотя П. Во считает, что в искусстве, предшествующем постмодернизму, весь комплекс черт метапрозы не проявлялся в полной мере (257, 20), в то же время она отмечает, что «метапроза — всего одна из форм постмодернистского искусства» (257, 22). Л. Хатчин более четко констатирует различие метапрозы и постмодернизма тем, что и «постмодернистская литература — только одна из форм, которые может принять метапрозаическое самосознание» (241, 2-3). Эту же точку зрения разделяет П. Мэлби, считающий, что метапроза имеет свои корни в истории литературы, и не является порождением постмодернизма; она обозначает «любое систематически саморефлексивное произведение... которое... исследует и делает явными процессы своей собственной сконструи-рованности, при этом вовлекая различные параметры и коды литературы в целом... Тогда Сервантес, Стерн и... Джон Барт могут быть отнесены к создателям метапрозы, но только последний — постмодернист» (249, 525). Исследователь считает, что метапроза более ограничена и «обеспокоена» аспектами собственно литературного развития и интертекстуальность в ней фигурирует «только в чисто литературном аспекте» (там же), тогда как постмодернизм распространяет текстологические понятия и на внелитературные формы дискурсов (политические, социальные, исторические и пр.), что, по мнению Мэлби, выходит за границы описываемого собственно термином «метапроза».
Крайне важно и то, что в отличие от термина «постмодернизм» термин «метапроза» непосредственно не связан с мироощущением эпохи «postmodernity». Более того, в саморефлексивной литературе второй половины XX века объектом пародии и деконструктивных контр-техник гораздо чаще становится не модернистское, а реалистическое искусство, и в таком случае метапроза имеет столько же оснований отождествляться с термином «постмодернизм», сколько и с термином «антиреализм»6. Метапрозаические тексты прежде всего комментируют самые различные предыдущие (как и свой собственный) способы отображения реальности в литературе. В свою очередь, «постмодернизм» и как понятие, и как термин неотделим от мироощущения и философии эпохи «postmodernity» и, кроме того, далеко не ограничен рамками литературы и даже искусства, являя собой способ мировидения эпохи. «Сама природа постмодернизма, — отмечает И. П. Ильин, — это природа духа времени... это по преимуществу состояние цивилизации и культуры во всех ее проявлениях... специфическое мироощущение, скорее даже жизнеощущение» (73, 42). Можно утверждать, что метапроза и постмодернизм вообще разнопорядковые явления. И если постмодернизм в широком смысле — обозначение духа эпохи, а в узком — литературного направления 2-й половины XX века, то метапроза может рассматриваться как сквозная литературная традиция, ставшая одной из ветвей новоевропейской прозы, преимущественно романа, — сугубо литературное явление, в отличие от постмодернизма имеющее диахронические координаты.
Историко-литературные модусы метапрозы. Особенности метапрозы XX века
Как уже отмечалось, метапроза как сквозная тенденция в повествовательной прозе возникает преимущественно в переходные моменты литературного развития, в периоды «смещения» одной литературной парадигмы другой, происходящего в определенном историко-культурном контексте. Однако думается, что в различные эпохи, критически осмысляя существующую практику взаимоотношений литературного вымысла и реальности, метапроза видела свои задачи в развитии романа и запечатлевала в самой себе возможности и границы художественного вымысла совершенно по-разному.
Наглядное различие перспектив и возможностей литературы сквозь призму разработки их в самосознающей прозе можно обнаружить в сопоставлении метапрозы предыдущих веков с метапрозой XX века. Да и в самой метапрозе XX века возможности и задачи литературного вымысла, претворяясь в модернистском и постмодернистском повествовательном самосознании, оказываются в значительной мере несхожими. Иначе говоря, постановка и разрешение в метапрозе проблемы взаимоотношений реальности и литературной условности, осмысление самой способности литературы воплотить «реальность», саму жизнь во многом мотивированы историко-культурным контекстом эпох, которые порождают повествовательное самосознание.
В этой связи можно предположить, что метапроза прошлых веков, то есть предмодернистская метапроза, осознавала свои задачи преимущественно в аспекте «литературной эволюции» (как ее позднее определит Ю. Тынянов), чтобы разоблачить старую, неудовлетворительную модель, «автоматизировавшуюся» форму литературы и создать на ее базе новую. Самосознающая литература ощущала неудовлетворенность прежней формой постижения и воплощения в литературе вечно изменчивой, постоянно развивающейся реальности; предшествующая литературная парадигма (с ее разновидностями романа) воспринималась создателями метапрозы как неспособная воспроизвести «незавершенное настоящее». Таким образом, задачи метапрозы предшествующих веков можно условно сформулировать как остранение прежней литературной нормы и одновременно ее реформирование, преследующее цель создания обновленной модели взаимоотношений литературного вымысла и сложной противоречивой реальности. Так, устанавливая контраст вымышленного мира рыцарских романов и жизни, Сервантес и разоблачает неправдоподобность изображенного мира у своих предшественников, и, что важно, пытается продемонстрировать возможности более «правдивого» и «достоверного» вымысла в романе, провозглашая (в том числе и устами своих героев) новое понимание художественной прозы. То же стремление к «правдивому» повествованию, способному осветить новые, дотоле неведомые литературе грани «естественного», можно обнаружить в эскападах стерновского Шенди и повествователя у Д. Дидро в «Жаке-фаталисте» по поводу «неправдивых» литературных условностей, «За условностью построения «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия», — писал В. Шкловский в «Повестях о прозе», — встает еще до этого не изображенная в искусстве жизнь» (212, I, 141). То есть в ранних образцах метапрозы, по-видимому, целью остается достижение такого уровня литературного мастерства, когда предельно условный художественный текст, разоблачая природу условности и как бы отвергая ее в самом себе как дурное наследство, мог бы быть воспринят по контрасту с предшественниками не как вымысел, а как аналог самой жизни в ее незавершенной сложности.
Подтверждением предположения о том, что самосознание в пред-модернистской прозе функционирует как средство развенчания «литературности», может быть мысль М. Бахтина о том, что романы «второй стилистической линии» испытывают и преодолевают нормативность и серьезность «литературности... с ее догматическими претензиями на жизненную роль» (22, 225). Подобная идея высказывалась и А. В. Михайловым в работе «Роман и стиль», где, размышляя о проявлениях саморефлексивности в романном жанре, ученый подчеркивает стремление романа 18-19 веков (в том числе и русского классического романа) тем самым превозмочь свою «литературность», возвыситься над «романно-стью» и «предстать как действительность и история», воплотить «объективный образ действительности». В этом случае результатом романной самокритики исследователь видит именно «прорыв в жизнь», поскольку «утверждаемый... романом образ действительности историчнее и шире романного сюжета и романной истории» (127, 463-466)13.
С таким толкованием природы романного самосознания предыдущих веков также согласуется трактовка Ю. М. Лотманом задач пушкинского «романостроительства» в «Евгении Онегине». «Пушкин сознательно избегал норм и правил, обязательных не только для романа, но и вообще для всего, что может быть определено как литературный текст» (///, 436), — пишет ученый, отмечая стремление Пушкина «преодолеть литературность как таковую», выйти «за пределы любых застывших форм литературы в область непосредственной жизненной реальности» — «поэзии действительности» (там же, 410). По мнению Ю. Лотмана, «пушкинская задача, оформившаяся на фоне дискредитации литературности — итоге исчерпанности как просветительских, так и романтических художественных принципов, — была... превращать не жизнь в текст, а текст в жизнь» (///, 453).
Таким образом, для повествовательного самосознания предыдущих веков существовала некая сверхзадача создания совершенного («идеального») романа, который в пределе приблизился бы к гармонической симметрии вымышленного мира, изображенного в литературном произведении, и истинной реальности (действительности), по-разному воспринимаемой в различные эпохи развития литературы и романа в частности. И хотя этот совершенный роман практически недосягаем (а отсюда — самоирония), но теоретически возможен, сохраняется как идеал, не всегда заявленный, формулируемый, но незримо присутствующий. Предмо-дернистская метапроза разоблачает литературную условность не ради сомнения как такового в способности воплотить «объективную» реальность в литературном произведении - ее рефлексия осуществляется столько же в поиске идеала, сколько и с позиций идеала. Для восстановления способности отобразить сложность самой жизни, для достижения гармонического баланса реального/условного было необходимо прежде всего «сместить» устаревающие литературные нормы. Поэтому, возможно, доминирующей стратегией в метапрозе предыдущих веков являлась пародийно антироманная направленность на тексты предшественников в попытке подстегнуть «выздоровление» литературы от уже дискредитировавших себя, «неправдивых» способов воплощения реальности.
«Преподаватель симметрии» как самосознающий роман о художнике в метапрозе постмодернизма
«Преподаватель симметрии», наиболее яркое и загадочное произведение А. Битова 80-х годов, во многом показателен с точки зрения стратегий метапрозы, ставших печатью битовской манеры письма, начиная с «Пушкинского дома». С одной стороны, проблематика «Преподавателя симметрии» теснейшим образом связана с философской прозой и эесеи стикой Битова этого периода (цикл «После Пушкинского дома», «Человек в пейзаже»), а с другой - во многом развивает концепцию творчества, заявленную в «Пушкинском доме». Сам А. Битов отмечал, что «эта вещь во всех сюжетах была задумана сразу после «Пушкинского дома», но потребовалось более десяти лет, чтобы он приступил наконец к ее написанию.
Если «Пушкинский дом» исследовался в предыдущем разделе как самосознающий роман, возникший как рефлексия прежде всего по поводу русской культуры и русской литературы, то «Преподаватель симметрии» вполне может быть воспринят как произведение, осмысляющее литературный «дух эпохи». Думается, в этом романе объектом размышления становятся темы, проблемы и формальные изыски современной западной культуры и прежде всего той культуры, которая как раз в этот период начинает осмысляться как постмодернизм. И «Преподаватель симметрии», по-видимому, может рассматриваться как самосознающая проза Битова «осознанно» постмодернистского этапа.
«Самосознающая» сущность «Преподавателя симметрии», по мнению А. Гениса? «одной из самых замысловатых и самых удачных книг» А. Битова (44, 230), не становилась до сих пор предметом анализа критиков, исключая несколько тонких, остроумных замечаний А. Вулиса (40) и уже упомянутого А. Гениса (44). Между тем эта «самосознающая» сущность пронизывает многоуровневое построение романа, она обнаруживается и в особенностях жанра, и в особенностях текстовой композиции, и в философских играх категорией времени, и в игре аллюзиями и анаграммами. В «Преподавателе симметрии», как это свойственно метапрозе, присутствует глубинная философия отношений вымысел-реальность, и вся структура романа оказывается организованной согласно все подчиняющей сверхзадаче - созданию особой концепции авторства. Автотематизирование, таким образом, и в этом произведении А. Битова становится ключом к прочтению и пониманию подчас зашифрованных смыслов.
Жанровая нетрадиционность «Преподавателя симметрии» подчеркивается подзаголовком «вольный перевод с иностранного А, Битова». Такое самоопределение заранее исключает возможность толкования «Преподавателя симметрии» как повести, сборника рассказов или романа в их традиционном понимании. Вопрос о жанровой природе «Преподавателя» остается открытым для критиков или избегается ими. Например, А. Генис называет его просто «книгой», тогда как А. Вулис минует вопрос жанровой принадлежности «Преподавателя», просто определяя его как «повесть» (40, 401)). Сам же А. Битов неоднократно именовал это свое произведение именно «романом» (б; 7), несмотря на внешнюю раздробленность текста.
Однако необходимо учесть, что, с точки зрения традиционных представлений о жанре романа, практически все крупные сочинения Битова имеют довольно сомнительный статус. И ранний роман «Улетающий Монахов», и «Пушкинский дом», на первый взгляд, представляют собой скорее сборники отдельных фрагментов. И «Преподаватель симметрии» состоит из пяти фрагментов («Вид неба Трои», «О - цифра или буква», «Битва при Альфабете», «Фотография Пушкина», которая входит также в цикл «После «Пушкинского дома», наконец, - незаконченный фрагмент «Стихи из кофейной чашки»), объединенных, помимо названия, предисловием и кратким послесловием переводчика.
Фрагментарность и дискретность повествования, с одной стороны, как уже отмечалось, является отличительными свойством битовских романов и вполне согласуется с его собственными, изложенными в эссе «Битва» представлениями об особенностях романа как жанра, в котором «отношения автора с набегающим текстом» (/, 11, 487) неоднократны, прерывисты, подвижны, в отличие от таковых в повести или рассказе. С другой стороны, подобная фрагментарность и разомкнутость композиционной структуры чрезвычайно характерны для «самосознающей» прозы второй половины XX века, а именно для постмодернистского романа, который часто характеризуется принципиальной невозможностью текста выстроиться в единое целое из «осколков» и «фрагментов» (так называемый «фрагментарный дискурс»)41. В то же время самосознающий постмодернистский роман, разрушая традиционные формы жанра дискретностью повествования, зачастую имеет при этом, как известно, тайную стратегию зашифро-вывания в этой «фрагментарности» глубинных смысловых пластов. Можно сослаться на И. Ильина, оспаривающего корректность термина Д. Фок-кемы «нонселекция» и утверждающего, что повествовательный хаос - всегда фикция «необработанности», и в этом смысле всегда - «квазинонселек-ция» (171, 251-255).
В постмодернистской же метапрозе нередко зашифрованными становятся пласты «самосознания» текста (проблема творчества, создания самого текста и автора-создателя). И это еще одно основание рассматривать «Преподавателя симметрии» именно как постмодернистский самосознающий роман.
Пять разнофабульных фрагментов «Преподавателя», составляя фактический текст романа, объединенный повествовательной рамкой переводчика, имеют мнимо самостоятельный характер, поскольку тексты вступают во внутрироманный диалог между собой, а также с заглавием и повествовательной рамкой переводчика. Кроме того, во вступлении, написанном от лица переводчика, вводится система текстов-эмбрионов (микротекстов), предъявленных в виде таблицы английских грамматических времен, которая вюпочает «весь» корпус сочинений Э. Тайрд - Боффина («The Teacher of Symmetry»), сохранившихся в памяти переводчика, причем значительная часть этих текстов «не переведена» («Жизнь мертвого», «Евангелие от Лукавого», «Последний случай писем», «Ухо Моцарта», «Жизнь без нас».
«Ожидание обезьян»: метапроза в зеркале автопародирования
Предметом анализа в данном разделе станет одна из граней метапрозы XX века. Самосознающая литература будет рассматриваться с точки зрения возможности появления в ней автопародирующей стратегии. В самом деле, трудно представить себе не осознанное автопародирование. Вероятно, поэтому в литературе XX века достаточно большое количество примеров автопародирования преимущественно связывается именно с традицией самосознающей литературы. Чаще всего о тенденции автопародирования можно говорить в творчестве тех авторов, которые создают целую галерею самосознающих текстов, так что в конце концов предметом их переконструирования и рефлексии могут оказаться не «чужие» языки, приемы и пр., а свои собственные более ранние тексты как «чужие». Более того, некоторые исследователи метапрозы (П. Во, Б. Стоунхилл) считают автопародию одной из неотъемлемых «тем» самосознающей прозы (256, 29; 257, 71, 145). В ряду репрезентативных примеров распространения художественной рефлексии на собственное предыдущее творчество можно упомянуть и образцы позднего модернистского скрытого интертекстуального обыгрывания собственных ранних текстов.45 Но наиболее показательны образцы постмодернистского явного пародирования собственных текстов (некоторые романы Д. Фаулза (к примеру, «Волхв»), Д. Барта («Письма»), отчасти, «Черный принц» А. Мердок и, безусловно, «Смотри на арлекинов» В. Набокова). Возможно, появление автопародирующих элементов становится также и симптомом осознания некой «автоматизации» приемов создания самой метапрозы, и пародия здесь в полном «согласии» с тыняновской концепцией выполняет скорее «эволюционные», нежели комические функции.
То, что некоторые критики расценивают в прозе А. Битова 90-х годов как «кризис самоповтора» (68; 82; 134), в данном исследовании предлагается рассматривать как сознательную ироническую установку на «самоповтор». «Ожидание обезьян» - одно из самых «сложносочиненных» (как заметила И. Роднянская (153, 149)) битовских произведений, опубликованное в 1993 году. Это сочинение весьма показательно с точки зрения развития стратегий автопародирования в метапрозе. Самым главным открытием «Ожидания обезьян» в контексте битовского творчества можно предположить то, что этот текст несет в себе как бы в «свернутом» виде отсьшки к предыдущим текстам самого Битова, причем именно эти тексты становятся субъектами и объектами метапрозаического диалога. Посредством автокритики собственных более ранних жанров, тем, мотивов, авторского статуса и приемов метапроза в творчестве А. Битова ищет и по-своему нащупывает новый взгляд на мир, на саму «реальность», по-видимому, содержащий в себе ранее неведомые потенции битовской иронической рефлексии.
«Ожидание обезьян» - декларативно несамостоятельный, не замкнутый в своих границах текст. Прежде всего, эта несамостоятельность подчеркивается А. Битовым введением «Ожидания обезьян» в «роман-странствие» «Оглашенные» - трилогию, куда «Ожидание обезьян» помещено в качестве «Повести третьей» наряду с философскими повестями «Птицы» и «Человек в пейзаже». Однако «Ожидание обезьян» существует не просто как романная часть, а, скорее, как «роман в романе», значительно отличающийся степенью самосознания от предыдущих частей трилогии, делая их объектом во многом пародийного диалога. Именно в третьей части трилогии обнаруживаются новые черты метапрозы в битов-ском творчестве 90-х.
И «Птицы», и «Человек в пейзаже» - философские повести, в жанровом отношении очевидно восходящие к традиции мениппеи. Первые две части «романа-странствия», написанные соответственно в начале 70-х и 80-х годов, представляют собой диалоги по «последним вопросам» конца XX века, с его эсхатологическим настроением. Герои дискутируют об утрате веры, о проблемах экологической катастрофы, о перспективах человечества, о месте художника между Творцом и творением и, разумеется, о назначении искусства. Антураж и персонажи двух повестей максимально ирреальны; философские диалоги осуществляются в неких альтернативных мирах: то в лабиринтах порушенного храма, то в жутких подвалах или в «двухмерном» пространстве прибалтийского побережья. Но надо заметить, что участники этих диалогов - не только повествователь, но и Доктор Д. (в «Птицах»), Павел Петрович (в «Человеке в пейзаже») - очевидные ипостаси самого «автора». Повести превращаются в некий внутренний диалог, который ведется «автором» в его особом времени-пространстве, максимально ирреальном - творческом.
Даже «серьезным» философским повестям присуще «короткое замыкание» реального/вымышленного, когда, например, внешне реальный собеседник превращается в условность авторского вымысла, откликаясь на непроизнесенные реплики повествователя или неожиданно меняясь с ним ролями: «А искусство», - хотел было сказать я - «А что искусство...,- махнул он рукой», - шокирует неожиданное «замыкание» диалога в «Человеке в пейзаже» (], IV, 89). Таким образом, воображаемый спор, который ведет «автор», выступающий в роли повествователя, с самим собой, в этих повестях втягивает все, что может показаться «реальностью», в условное «здесь и сейчас» текста, о синхронном создании которого «автор», правда изредка, напоминает: «Мы его не слушаем - удобный прием перехода к новой ниточке повествования», - обозначает онтологическое превосходство себя как «творца» повествователь в «Птицах» (/, IV, 15); или: «О, знал бы я, что это не я так понимаю и вижу, как сейчас пишу.,. Дал бы я деру! Это я теперь так понимаю и вижу», в «Человеке в пейзаже» (7, IV, 70). Поэтому можно утверждать, что и в этих текстах присутствуют элементы метапро-зы.
Текст «Ожидания обезьян», нанизанный на два предыдущих текста «трилогии», и выводит на поверхность «карнавальные» тенденции обеих ранних повестей, и обнажает их неявные самосознающие черты, и становится ироничным диалогом с ними. «Ожидание обезьян» имеет четко выраженное внешнее обрамление историческими координатами: от точки окончания «Человека в пейзаже» (август 83-го) до последних строк, дописываемых в 93-м году. Вот почему критики имеют основание говорить о «хронотопе заката империи» (755, 222; ср. мысль Л. Аннинского: «Ожидание обезьян» - повесть о крушении империи» (77)). Действительно, мироощущение катастрофы воспроизведено на внешнем композиционном уровне, осуществляющемся как своеобразная бестиария. Тема совершенства Творения, изуродованного человеком, кичливого антропоморфизма в восприятии мира становится одним из контрапунктов всего «романа-странствия», а умирающие животные -одним из сквозных мотивов. Именно вереница животных ложится в основу композиционного деления «Ожидания обезьян» на главы: глава I - «Конь», II - «Корова», и разделы III главы «Огонь» - «Кот», «Приближение 0... безьян » и «Петух» - воспроизводят извечный космический круговорот, уничтожаемый самонадеянным человечеством. Однако однозначную трактовку романа в зодиакальном ключе сам Битов умело спародировал в одном из приложений к «Ожиданию обезьян», написанном в виде рецензии, их критической интерпретации подставным «астрологом» Ай Сно-устормом.