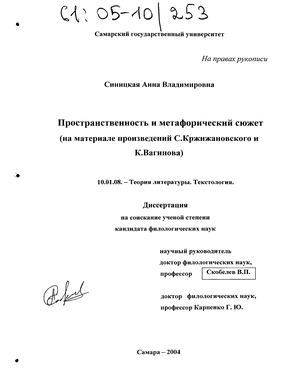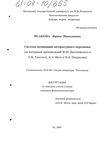Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Метафора как фактор пространственности 27
1.1. Пространственность в сюжете и понятие «вторичного» хронотопа 27
1.2. Метафорический сюжет: мировоззренческие и жанровые координаты 44
1.3. Эмблема и экфрасис как пространственные формы метафоры 56
Глава 2 Пространственное развертывание метафорического сюжета 66 (произведения С.Кржижановского и К.Вагинова)
2.1. Демонтаж метафоры (новеллы С.Кржижановского) 67
2.2. Серийность метафорического сюжета и квазипарабола в новеллистическом цикле («Клуб убийц букв») 82
2.3. Эмблематическая метафора как визуализация повествования ( «Материалы к биографии Горгиса Катафалаки») 122
2.4. Экфрасис в метафорическом сюжете (роман К.Вагинова «Бамбочада») 142
Заключение 176
Список источников, научной и критической литературы 181
- Пространственность в сюжете и понятие «вторичного» хронотопа
- Метафорический сюжет: мировоззренческие и жанровые координаты
- Демонтаж метафоры (новеллы С.Кржижановского)
- Серийность метафорического сюжета и квазипарабола в новеллистическом цикле («Клуб убийц букв»)
Введение к работе
Метафора как «пространственная форма» в тексте
Метафора является своеобразным «фокусом» интересов различных гуманитарных наук. Современные теории метафоры рассматривают ее не только как наиболее распространенный вид словесных ассоциаций, а в широком философско-культурологическом, семиотическом аспекте — как всеобщий принцип речи и мышления, воплощение самой сути творческой природы, потребности человека «избежать фактической реальности» [2.159:49]', способность к символической интерпретации мира [2.92:35]. Механизм метафорообразования рассматривается не только как предмет традиционной риторики и поэтики, как разновидность замещения слов или поэтическое
украшение, но и как возможность вернуть воображение в состояние
первобытного мифотворчества, освободить энергию самого языка [2.33:20]. Современные концепции метафоры трактуют ее «как понятийную категорию, несущую в себе познавательный смысл», как «процесс, близкий к абстрагированию или моделированию» [232:258-260].
Обнажение границ между искусством и реальностью находит в метафоре свое естественное выражение, поскольку она сама по себе обладает игровым характером, «который позволяет выявить, прежде всего, особый семантический оттенок в отношениях между формой и содержанием», причем именно форма «выполняет обязанности правил игры, без соблюдения которых содержание метафоры оказывается невостребованным» [2.85://-/2]. Такая природа метафоры позволяет рассматривать ее как универсальный инструмент для описания самих семантических основ искусства. Метафора демонстрирует уникальные возможности сближать далекие понятия, а значит, рождать особые
1 Библиографический список приводится в конце работы. При ссылках на цитируемую литературу в тексте диссертации в квадратных скобках указывается номер раздела и порядковый номер в списке, затем страница источника.
слои контекста — и как квинтэссенция художественного мышления, и как конкретный прием речевой семантики, основанный на скрытой аналогии.
Метафора как метатроп, объединяющий различные способы переноса и совмещения значений, раскрывает механизм смыслообразования в целом, оказывается наиболее естественным полем для исследования самого художественного языка и отражает его суть, креативную и остраняющую функцию. Принимая во внимание весь огромный пласт различных трактовок метафоры и метафоричности, мы сосредоточимся на отдельных положениях, которые конкретизируют проблематику данной работы.
Один из существенных аспектов — вопрос о пространственно-визуальной природе тропа и метафорического образа. Представление о «пространственности» метафоры формировалось на пересечении различных концепций, в особенности - семиотического, структуралистского характера, а также в рамках неориторики. О метафоре как о пространственной форме позволяет говорить сама природа метафорического образа.
Троп сам по себе изначально предполагает некое «удвоение мира», рядоположенность образов, которые вступают друг с другом в сложные игровые отношения: «прежний мифологический образ приобретает еще один, «иной» смысл себя самого» [2.26:55]. Единство образов, их столкновение и напряжение строятся по законам монтажной логики. Так, ученые-семиотики рассматривают троп как стык двух языков, «изоструктурный творческому сознанию» в целом [2.124:55]. Тропы, формирование иносказательного смысла не исчерпываются только узким пониманием приемов поэтической изобразительности и рассматриваются также в ситуации столкновения языков искусства. Игровое напряжение между двумя значениями предполагает симультанность, процесс метафоризации характеризует сами принципы создания художественной картины мира — единство семантических связей и отношений [2.188].
По определению Ю.Лотмана, тропы представляют собой вторичную моделирующую систему, особый семиотический механизм, свойственный
культуре в целом: «пара взаимно несопоставимых значимых элементов, между которыми устанавливается в рамках какого-либо контекста отношение адекватности, образует семантический троп» [2.124:47]. С этой точки зрения видами тропов могут являться монтажные (коллажные) сопоставления образов в разных областях искусства, причем главной их особенностью здесь делается стык двух семантических систем, восприятие и осмысление их несовместимости и единства.
Сама риторическая система (концепции тропов и фигур разрабатывались, прежде всего, в ее рамках) предстает в новейших исследованиях процессом текстопорождения и образного мышления, а композиционное устройство метафоры - бинарность, контрапункт двух планов - концептуальным принципом любого художественного высказывания. Так, обращалось внимание на близость смысловых эффектов метафоры и рассказа в трудах П.Рикера: ученый отмечает определенное тождество работы метафоры, которая «требует изменения расстояния в логическом пространстве», и построения повествовательной * интриги, в которой также присутствует синтез разнородного, поскольку «смысловые эффекты, создаваемые и метафорой, и рассказом, связаны с одним и тем же основным феноменом — семантической инновацией» [2.171:7-5]. С позиций неориторики, в работе бельгийских ученых (Ж.Дюбуа, Ф.Эделин, Ф.Мэнге и др.) как механизм тропа рассматривались повествовательные приемы, близкие к монтажу [2.150].
Семантическое напряжение понимается и как столкновение в словесном тропе образа и понятия, визуального и вербального начала. Учеными постоянно отмечалось изобразительное, иконическое измерение метафоры, в том числе -как элемента риторической системы. По словам П.Рикера, «метафорическое значение побуждает нас исследовать границу между вербальным и
невербальным» [3.21:143-159.] Само напряжение между буквальным и метафорическим значениями часто определялось в пространственных категориях, в частности, указывалась телесная, пространственно-визуальная выраженность переносного значения в самом слове «фигура» [2.64, 2.65]. По
мнению Ю.Лотмана, «при любом логизировании тропа один из его элементов имеет словесную, а другой — зрительную природу, как бы замаскирован этот второй ни был» [2.124:46].
Особо следует подчеркнуть, что изучение природы лингвистического знака, метафорического значения было изначально причастным к формированию пространственности как особой художественной категории. Так, в работах Ж.Женетта знаковое устройство языка и литературы предстает пространством, где план выражения «непрерывно раздваивается, так что одно слово может совмещать в себе два значения» [2.64:281]. Отсюда - представление о Книге как о целостном объекте, о симультанности текста, который не может восприниматься пассивно: время последовательного чтения постоянно искривляется и обращается вспять.
Разумеется, любой контекст — «это не линейная последовательность языковых единиц в речи, а соотнесенность сегментов текста с другими сегментами» [2.88:237]. В этом смысле пространственность выражает природу художественного образа в целом, его «ступенчатое» развитие, по выражению Виктора Шкловского, или «членение и спайку частей речевого материала вне фабулы», по словам Юрия Тынянова [2218:34/]. Использовалось понятие «пространственной», многоуровневой формы и в рамках структурализма: различные компоненты текста (параллелизмы, антитезы, метафорические сдвиги в семантике) представали синтагматической, горизонтальной и - парадигматической, вертикальной моделью [2271]. Пространственность означает принцип превращения времени в пространство, обнажает конфликт статики и динамики в тексте. Эта конфликтность оказывалась принципиальной и для теоретического осмысления метафоры. Так, по концепции Ф.Уилрайта, структура метафорического образа содержит в себе два элемента деятельности — эпифору и диафору. Первый элемент расширяет значение через сравнение - «сопоставление происходит как потрясение, которое, однако, есть потрясение узнавания», второй порождает новое значение путем соположения и синтеза не сочетавшихся прежде образов. «Роль эпифоры сводится к тому, чтобы намекать на значение, творческая роль
диафоры в том, чтобы вызывать к жизни нечто новое. Серьезная метафора отвечает обоим этим требованиям» [2.221:97].
Известно, что изучение метафоры двигалось от оценки ее как «декоративного» приема к пониманию глобальности функций метафорического языка в культуре, к осознанию метафоры как процесса. Такой деятельностный аспект имел «воистину революционное значение для семантики» [2.69:96]. Между тем отмечалась двойственная способность метафоры оперировать и с изменчивостью значений, и с устойчивыми образами мира, которые закреплялись за тропами в риторической, поэтической традиции, в самом языке. Тропы, различные типы словесной образности — это и есть традиция в ее наиболее обнаженном виде, безличная сила и лингвистического механизма и языка культуры, набор словесных клише и стереотипов, которые в определенной ситуации способны принять существенное участие в сюжете модернистского типа, реализовав себя, как система, с одной стороны, предельно упорядоченная, статичная, построенная из готовых «блоков» коллективного, поэтического опыта, с другой — открытая к преобразованию. Уже в самой традиционности, симметричности и в то же время творческой активности тропа заложены возхможности использования его в текстах неклассического повествования. Семиотики обратили внимание, что троп «одновременно включает в себя и элемент иррациональности <...>, и имеет характер гипер-рационализма, связанный с включением сознательной конструкции непосредственно в текст риторической фигуры» [2.124:48-49]. Это, в свою очередь, открывает возможности для преобладания авторского сюжета над планом содержания, поскольку «правила здесь включены в самый текст не только на метауровне, но и на уровне непосредственной текстовой структуры».
Метафора может быть воспринята как пространственный элемент текста и ВхМесте с тем - как временной процесс познания и деятельности, переживания и становления, которые воплощаются в сущностные характеристики поэтики [2.6:268]. Единство и столкновение двух противоречий в самой природе тропа —
статики и процессуальное - раскрывает во многом смысл пространственности как формы художественной активности.
В современном литературоведении центральным является понимание диалогической структуры художественного произведения как деятельности, внутренней динамики образности как активизации авторского начала. Сами формы построения и развертывания образа [2.183:237-243] предстают пространством поэтики, в котором соединяются противоречивые аспекты: это и завершенная, статичная система традиционных жанровых и повествовательных формул, языка культуры, и — творческие метаморфозы, которые обнаруживают в этом пространстве временную текучесть. Следовательно, напряжение между временной логикой и пространственной характеризует и метафору, как важнейший элемент художественного языка, и природу творчества в целом, определяя существенные задачи литературоведения.
В XX веке пространственность, помимо приведенных аспектов, приобретает значение осознанного конструктивного принципа. Возникает понятие пространственной формы в литературе как нового качества, новых структурных связей внутри художественного образа, предполагающих доминанту пространства не как предмета, а как способа изображения. Отмечалось, что писатели XX века обнаруживают в своем творчестве «очарованность пространством» [2.64:279], делают его фактором поэтики, намеренно ориентируясь на язык пространственных связей и визуального восприятия, используют монтажный или коллажный язык [2.80]. В этом случае пространственность означает новый, неклассический тип поэтики, кардинальные изменения в сюжете, который теперь строится как вариативный, многомерный, «нелинейный». Пространственная форма предполагает, что присущую языку линейную последовательность выражения современная поэзия и проза преодолевают, и читатель теперь должен не пассивно воспринимать образ во времени, сходный с реальным, а переориентироваться, чтобы установить смысловые связи в произведении «путем одновременного восприятия в пространстве фрагментов, которые при обычном
последовательном чтении кажутся не связанными друг с другом» [2.234:199]. Принцип «одновременного восприятия» в таких художественных текстах изоморфен симультанной природе механизма метафоры, ее «семантической иррадиации»: уже на чисто языковом уровне «умственное усилие по созданию и пониманию метафоры состоит в преодолении несовместимости, восстановлении смысловой гармонии» \29:368\. Такое единство центростремительности и центробежности, восстановление целостности смысла, выступая в конкретном значении сюжетного механизма, требует внимания к метафоре как к особой пространственной форме в литературном произведении XX века. Пространственность в этом случае может выражать не только изначальное свойство метафорического образа, но и быть определенным концептуальным, фабульно-сюжетным фактором.
Возникает вопрос о существовании сюжетов, в которых метафора выступает не единицей текста или узким приемом, а концепцией хронотопа и героя, картиной мира в произведении. Такое явление следует отграничить от других, хорошо известных форм сюжетной активности метафорического образа. Безусловно, сама по себе протяженная, развернутая метафора как принцип текста хорошо известна в истории литературы - в античной риторике, в словесной ткани средневековых сочинений [2.137, 2.213:88-92]. Однако метафора в неклассическом произведении становится и предметом, и способом изображения, определяя развитие сюжета по законам пространственности как особого явления поэтики. Появляется необходимость выделить тип сюжета, полностью построенный на развертывании метафоры, ее пространственно-визуальных возможностях. Структура таких сюжетов, их специфика и возможная типология в литературе XX века не изучена в полной мере.
Актуальность исследования определяется: во-первых, сложностью и многоаспектностью самого объекта рассмотрения — функции метафоры в сюжете, потребностью прояснить и конкретизировать эти аспекты: метафора в литературном произведении синтезирует различные возможности тропов, комплексно реализует «структурно-смысловую
целостность» [2.85:39] авторского замысла; во-вторых, необходимостью изучения этой целостности с точки зрения пространственной поэтики. Это, с одной стороны, расширит литературоведческое восприятие метафоры, с другой — углубит понимание ее сюжетообразующих функций на разнообразном фактическом материале.
Цель исследования — выделить модель метафорического механизма среди немиметических, неклассических типов сюжета, определить функцию метафоры в пространственной организации особой сюжетно-образной структуры, выявить формы и типологию ее пространственно-визуального воплощения, то есть - специфику пространственности метафорического сюжета.
Объект исследования — структура прозаического эпического сюжета неклассического типа, в котором метафора предстает конструктивным фактором пространственности.
Предмет исследования - метафорический сюжет как тип пространственного развертывания текста в жанровой плоскости новеллы, повести и романа, концепция образа мира и героя в таком сюжете.
Задачи исследования. В соответствии с поставленными целями в ходе исследования решаются следующие задачи:
1.Определить специфику пространственных форм в литературе, выявить основные черты пространственного развертывания сюжета, изменения в сюжетно-фабульной системе и статусе героя.
2.Уточнить, в чем и как пространственность может вступать в противоречие с традиционным представлением о хронотопе и изменять его.
З.Исследовать способы воплощения словесного метафорического образа в тему, в сюжетную событийность.
4.Раскрыть действие двучленности метафорического механизма в
организации особого - немиметического, «нелинейного»,
пространственного — сюжета.
5.Выявить основополагающие черты метафорического сюжета, его мировоззренческие координаты и пространственную организацию в различных жанровых аспектах на литературном материале модернизма.
Обоснование выбора материала.
Данная работа не претендует на исчерпывающую полноту исследования стилевого, сюжетного воплощения метафорических образов в русской литературе первой трети XX столетия, которая, безусловно, дает для этого богатые возможности. Учеными не раз отмечалась особая активность в русской прозе 20-годов собственно сюжетных, языковых элементов, обособление выразительного плана — превращение в предмет изображения самих приемов повествования. Произведения А.Белого, В.Набокова, Ю.Олеши, И.Бабеля, А.Платонова и многих других художников обнаруживают различные формы языковой игры (в том числе — метафорической), повышенной символизации, условности фабулы и т.д. Однако в диссертационной работе основное внимание сосредоточено на таких способах создания нетрадиционного сюжета, которые полностью определяются метафорой как пространственно-визуальной формой. Метафора здесь выступает не просто стилевым фактором, а всей событийной канвой и хронотопом в целом, выстраивает особый сюжет. Теоретический угол зрения диктует выбор историко-литературного материала, в качестве которого в работе представлены новеллы и повести С.Кржижановского («Сказки для вундеркиндов», «Клуб убийц букв»,
2 С.Кржижановский присутствовал в литературном процессе 20-30-х годов косвенно, поскольку большую часть им написанного опубликовать при жизни не удалось. Однако и его имя, и его произведения хорошо знали в литературно-театральных кругах того времени (домашние литературные салоны Г.Шенгели, М.Тарловского, «Никитинские с>бботники» и т.д.). Среди слушателей авторских чтений писателя были М.Булгаков, О.Форш, М.Волошин, А.Белый; постоянной была и его лекционная деятельность по истории литературы, музыки и театра (в 20-м году Кржижановский приглашен Л.Таировым в Экспериментальные театральные мастерские для преподавания), известны
«Материалы к биографии Горгиса Катафалаки») и роман Конст. Вагинова «Бамбочада».
Произведения этих авторов образуют некую общую в контексте литературы конца 20-х годов модель, которая обозначается исследователями как «метапрозаическая», то есть направленная на раскрытие процесса самого повествования. Оба писателя воспринимаются в рамках так называемой «странной прозы», ориентированной на камерную аудиторию [2.140:32] и далекой от общих тенденций советской литературы. В данной работе утверждается, что и у Кржижановского, и у Вагинова присутствует сходная концепция метафорического сюжета как явления пространственное, которая оказывается существенной частью проблематики и поэтики русской прозы конца 20-х годов XX века. Обращение к творчеству названных писателей является, на наш взгляд, достаточным основанием для эффективного рассмотрения метафоры и пространственности в неклассическом произведении и позволяет поставить вопрос о типологии метафорического сюжета.
Теоретико-методологической основой работы являются структурно-типологический подход с элементами семиотического и историко-генетического анализа текстов. Теоретической базой послужили исследования тех отечественных и зарубежных ученых, которые затрагивают проблему пространственной формы в литературе XX века (концепции Дж.Фрэнка, М.Бахтина, Б.Успенского, В.Топорова, Вяч.Вс.Иванова, В.Руднева, Н.Рымаря и других), вопросы изучения тропов, риторических фигур как семиотического и пространственного механизма (Ю.Левин, Ю.Лотман, А.Михайлов, Ж.Женетт, Ц.Тодоров, П.Рикер, У.Эко). Используются труды А.Потебни, О.Фрейденберг, А.Веселовского, Б.Томашевского, на работы С.Аверинцева, Е.Мелетинского, С.Бройтмана,
попытки сотрудничать и с театрами, и с киностудиями. Очевидная значимость этого «скрытого присутствия» существенно расширяет представления о картине литературного процесса 20-х годов.
Л.Цилевича, И.Смирнова, посвященные исследованию проблемы поэтики хронотопа, сюжетного и жанрового языка.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые активность метафоры исследуется в аспекте пространственности как целостного явления сюжетности в XX веке; выявляется участие метафоры в пространственной организации сюжета (серийная трансформация «обрамленного повествования», природа цикла, изменения новеллистического и романного хронотопа); ставится вопрос о метафорическом сюжете как самостоятельном феномене неклассической поэтики, где обнаруживается отказ от идеи «удвоения жизни» в искусстве [2.131:J0].
Теоретическая и практическая значимость работы. Положения и выводы, диссертации выявляют специфику сюжетного, пространственного функционирования механизма метафоры, проясняют возможную перспективу дальнейшего изучения проблемы метафорического сюжета. Материалы диссертационной работы могут быть использованы в лекционных курсах по истории литературы начала века, при подготовке спецкурсов по теории сюжета и жанра.
Апробация материалов исследования осуществлена в шести печатных работах по данной теме. Основные положения и обсуждались на заседаниях Семинара аспирантов и докторантов* кафедры русской и зарубежной литературы Самарского госуниверситета, на научных конференциях «Язык. Текст. Культура» (Смоленск: СГПУ, 2003), «PRO=3A2. Строение текста: синтагматика. Парадигматика» (Смоленск: СГПУ, 2004), «От Чехова до наших дней» (Самара: СамГУ, 2004), «Визуальный мир культуры» (Самара: СамГПУ, 2004), «Актуальные проблемы изучения литературы в вузе и школе» (Тольятти: ТГУ, 2004). Диссертация обсуждалась на заседании кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета. Материалы исследования использовались для разработки как
общих, так и специальных курсов по истории русской литературы в Самарском государственном университете, факультативов в школе, в рамках преподавания предметов гуманитарно-эстетического цикла.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метафорический сюжет рассматривается как тип немиметической,
неклассической поэтики, как специфическое выражение
пространственности в литературе XX века, проблематизирующее
традиционный хронотоп и сюжет, статус персонажа и события, сюжетно-
фабульную схему. Метафора обнаруживает в сюжете свою двоякую
природу: как рационально-риторическое начало, тяготение к
клишированности, так и творческою активность, возможности
непредсказуемого преображения хмира.
Для обозначения условности, откровенной иносказательности метафорического сюжета вводится такое понятие, как «вторичный хронотоп» — мир слов и артефактов, где существует персонаж.
Пространственность метафоры проявляется в «нелинейной» организации текста, в «разъединении элементов», в «мозаичности» сюжета, а также - в визуализации повествования, в обращении к языку пространственных искусств. Событийность сюжета перемещается в сферу интеллектуально-словесного приключения.
Метафора в прозаическом эпическом сюжете неклассического повествования представляет самостоятельный художественный феномен, отличный от других форм сюжетного воплощения метафорического образа (лейтмотивизации, лиризации и т.д.), создает особый - метафорический — сюжет, обнаруживающий свою многослойность. При этом активизируется изначальный пространственный потенциал некоторых жанровых форм (новеллы и параболы), метафорический механизм в сюжете выражает ограниченность сознания персонажа, проблематизирует романное начало.
5. Пространственное развертывание метафоры создает типологическую общность сюжетов, построенных на рефлексии творчества, переосмыслении эстетической утопии и творческой силы слова. Метафорический сюжет организует особую структуру хронотопа и образа героя: бытие персонажа -это существование в словесной, «книжной» культуре, поиск целостности среди раздробленных метафорических образов.
Структура работы определена поставленными целями, задачами и выдвинутыми положениями, спецификой самого материала. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка, который включает 308 наименований, из них 298 научных источников.
Метафора и язык сюжета
Понимание метафоры как единства двух образов, сближенных на основании сходства, выражающих «естественную меру игровой деятельности», предполагает исследование «отношений между формой и содержанием <...>, преломляющихся в различных аспектах художественного целого - сюжетном, жанровом и др» [2.83:77]. Отсюда - необходимость изучения специфики метафорических образов и самого устройства метафоры в системе сюжета.
Проблема соотношения метафоры и литературного произведения, метафоры и сюжета рассматривалась во многих аспектах. Охарактеризуем степень разработанности этого вопроса и наиболее важные для нашего исследования точки зрения.
Основоположники исторической поэтики обратили внимание на жанрообразующую "функцию тропов [2.164:188-192]. Так, А.Потебня в «Записках по теории словесности» отмечал, что метафорические образования могут быть определяющими для конструкции жанров и их типов, соответственно, басня, притча могут пониматься как протяженные, «сложные метафоры» [2.165: 240]. По мнению О.М.Фрейденберг, опиравшейся на выводы «Исторической поэтики» А.Н.Веселовского, все литературные формы вышли из мифа и определяются развитием иносказательности. В своем исследовании
«Поэтика сюжета и жанра» она пишет: «Сюжет — система развернутых в словесное действие метафор», «и персонаж и сюжет одинаково представляют собой метафоры, и потому они не только связаны друг с другом, но семаншчески совершенно тождественны...» [2232: 223-224]. Так с историко-генетической точки зрения те «смысловые структуры», которые определяют морфологию сюжетов и жанров, являются осуществлением процесса метафоризации образа; целиком рождаются из перекомбинирования древнейших метафор, первичный набор который невелик (рождение, смерть, воскресение и т. д.), но получает множество инвариантов. По мнению О.Фрейденберг, в основе любых сюжетов лежит развитие метафоры, первоначально не являвшейся таковой, поскольку образы воспринимались буквально, а не в переносном смысле. Такое архаическое ядро обнаруживается в основе повествований, вышедших из обрядовой практики. Семантика архаических метафор воплощается в мотивную, сюжетную, персонажную структуру, выступает основой художественного мира.
Отметим здесь, что обоснование общих генетических истоков метафоры и сюжета ставит вопрос об их структурном соотношении: подобно тому, как метафора выражает идею пространственного соотнесения событий и явлений, будучи «осколком мифа», в сжатом виде содержит идею «все во всем», то сюжет то же самое делает во временном аспекте, поскольку «идею повторяемости событий сюжет унаследовал от мифа, тем самым обеспечив всем принимающим в нем участие субъектам <...> единое коммуникативное пространство» [2.83:75-/6]. Иначе гоюря, композиционные возможности метафоры оказываются, по мнению современных исследователей, изоморфны принципам сюжетосложения, которые включают в себя повторы, ритмические моменты и т.д. Проблема соотношения метафоры и сюжета - это одновременно и вопрос об их генезисе и структуре.
Так, обнаруживается, что «соотношение кумулятивного и циклического сюжетов в нашу эпоху имеет структурный аналог в единстве образа и понятия в эйдосе» (в тропе) [2.26:196]. Поэтому говорят, что в зависимости от
преобладания того или иного начала и возможно выделить кумулятивный сюжет, который «как бы берет на себя функцию «образа», воспроизводя стихийность жизни, и циклический, выражающий «идеальное начало целостности и законосообразности».
С точки зрения исторической поэтики развитие сюжетных типов, в отдаленной перспективе, обнаруживает изоморфность изменения словесного, образного языка и сюжетного. Пути изучения метафоры практически совпадают с историей изучения природы иносказательности, словесной образности как таковой, поэтому литературоведческие исследования вынуждены учитывать и этапы развития самого художественного сознания.
Другой аспект проблемы - это взаимоотражение метафорического образа и сюжета не по «генетическим» причинам, а как проявление целостности художественного мира. Как пишет Б.Иванюк, «безусловным и основополагающим аргументом сближения произведения и метафоры является то, что каждый из них представляет собой относительно самодостаточное художественное целое, репродуцирующее идею мирового единства» [2.83:25-29] (выделено мной. - А.С.). Это качество обнаруживается и там, где единство сюжета и метафоры связано с мифом, и там, где речь идет о сугубо индивидуальных особенностях поэтики (когда, скажем, стиль автора настолько метафоричен, что его метафоры могут восприниматься как законченные, отдельные произведения). При этом любой элемент стиля несет в себе смысл целого, то есть микроуровень отражает в себе макроуровень.
Особенно продуктивно изучались такие стилеобразующие функции метафоры в рамках лингвистики текста: метафоризация отражает в себе картину художественного мира произведения, ассоциативно-языковая память восстанавливает объект в целостности по его фрагментарному присутствию в метафоре. Метафора в системе словесно-изобразительных средств определяет, наряду с другими формами образной реализации слова, более «сложные типы художественных значений», «образует и эстетически обуславливает цельность и многомерность значений слова в языке писателя», с проекцией на
общеязыковой фонд [2.166:203]. Иной спецификой обладает литературоведческое изучение метафоры в структуре сюжета.
Метафора понимается не как конкретный термин словесного поэтического искусства, а как микрообраз, который несет информацию обо всем целом. Это не указание на прием, когда троп подчинен тексту, а способ описания устройства сюжета. Говорят, например, о превращении метафоры в символ, в «смысло - и стилеобразующую единицу текста» [2.85:105], воплощенную в деталях, в особо выделенных сюжетных фрагментах и т.д.
Так, «первообраз» произведения находят и в повторяющихся мотивах, которые определяют атмосферу («мир плесени» у Флобера), и в сюжетных вставках или предварениях к основным событиям (образ репейника в толстовском «Хаджи-Мурате»), и в конструктивном принципе текста вообще (музыка в романе Г.Гессе «Игра в бисер»). Такая оценка сюжетных функций метафоры оказывается почти равнозначной понятию ключевого образа.
Проблема соотношения единичного, конкретного образа-метафоры, и в целом всего сюжета продолжает привлекать и современных исследователей. Так, с помощью философских категорий рассматривает сюжетообразующие факторы Л.Карасев. Он отмечает некое «подводное течение», которое образуется благодаря каким-либо отмеченным словам, предметам-деталям, на первый взгляд, к основному сюжету не имеющих отношения (например, символика чистого белья или железа и меди у Достоевского, образ масла у Булгакова), но полностью организующих вокруг себя и «сюжет, и весь мир повествовательных подробностей» [2.86:30-33]. Подобное исследование сходно с задачами «мотивного анализа», но Л.Карасев настаивает на понятии «исходный смысл», который равен всему тексту, выражает его «витальную энергию» и имеет предметно-вещественный характер. На наш взгляд, здесь мы имеем дело с известной идеей органичности и живой целостности произведения, только помещенной в иной философский контекст.
Иначе решается феномен соотношения конкретного образа и всего сюжета со структурно-семиотической позиции. Ю.Лотман, придерживаясь идеи
тропа как семиотического образования, говорит о символических образах, которые концентрируют сюжетный смысл и способны самостоятельно разворачиваться в образ произведения. Отличая метафору и символ, наделяя сихмвол особым значением и функцией («он посредник между синхронией текста и памятью культуры»), Ю.Лотман, тем не менее, в анализе конкретных текстов эти функции смешивает, затрагивает те же вопросы, что и упомянутые выше исследователи: как образ может соотноситься с сюжетом? Он говорит о символе как о «гене сюжета», в котором в свернутом виде содержится индивидуальная творческая «программа» писателя и культурная традиция. При анализе, например, «Медного всадника» и «Маленьких трагедий» А.Пушкина ученый показывает механизм смыслообразования как перекодировку бинарных оппозиций, не используя понятие целостности, а опираясь на структуралистский тип анализа: «Алфавит» символов — кристаллическая решетка взаимных связей, которые и создают «поэтический мир» каждого художника» [2.125:145]. При этом понятие символа почти уравнивается с понятием архетипа, так как речь идет об архаических смысловых комплексах.
В данном случае при анализе сюжетной структуры оказывается не принципиальным различие между символом и метафорой, так как сам вопрос, как «один и тот же символ может развертываться в различные сюжеты», совпадает с поисками путей развития метафоры в сюжетную ткань. Очевидно, что, например, образ статуи в «Медном всаднике» [2.125] и образ музыки у Г.Гессе [2.83:39], образ охоты у Ф.Достоевского и Л.Толстого [2.219:755-156], при всех их различиях, одинаково могут быть названы как символическими, так и метафорическими и наделены признаками такого «художественного гена». Следовательно, метафорический и символический образы нередко выступают для исследователей синонимами в определении ключевого элемента текста, его семантического центра.
Ориентация на хаос или космос, бинарное единство двух начал, заложенных в тропе, в метафорических образах, отразившееся в языке универсальных сюжетных схем, указывались и как характеристики различных исторических
стилей, причем метафорическое искусство определялось неканоническим, выражающим творческую свободу: «В противоположность метонимическому стилю французского классицизма, романтическое искусство в стилистическом отношении есть поэзия метафоры <...>. Преображение мира осуществляется с помощью различных приемов метафоризации действительности» [2.68:/65].
В данном случае подобные характеристики роли метафоры в истории литературы оказываются тесно связанными с концепциями двух вариантов стилей, рационального, гармонического и — живописного, чувственного. Идея бинарности, противоборства и единства гармонического и хаотического начала получила давнее обоснование в трудах по эстетике, в частности, в работе Г.Вельфлина [231:23-24] и отразилась в значительно более поздних исследованиях «первичных» и «вторичных» стилей [2.216:767-/72] и т.д. Здесь метафора не рассматривается только как способ описания конкретно-исторических изменений образности, но и включается в противопоставление двух художественных универсалий, которые воплощаются в разные формы. Метафорическая образность выражает «живописное», немиметическое видение мира, изменение его привычных пропорций, иллюзорность.
Метафора, следовательно, получает типологическую характеристику, как основной, наряду с метонимией, механизм художественного мышления. Сходная модель предложена Вяч.Вс.Ивановым при характеристике монтажного принципа, который сближается с метафорическим и апеллирует к иероглифической живописности идеи, сочетающей разнородные вневременные предметные образы. Пространственная «разорванность» монтажного, метафорического мышления, по мнению Вяч.Вс.Иванова, постепенно преодолевается метонимической установкой на деталь - в рамках реализма - в этом противостоянии искусство утверждает гармонические принципы, чтобы не погрузиться окончательно в «пралогическое, иррациональное, вероятностное» [2.80:144-145] и не раствориться в нем.
Структурно-семиотические исследования определяют метафору и метонимию как универсальные типы смыслообразования. Таковы работы
Р.Якобсона [2.271], который говорил о синтагматических (горизонтальных) и парадигматических (вертикальных) конструкциях внутри любого сообщения, причем первым будет соответствовать метонимия, вторым — метафора, в силу своей ассоциативности. Применительно к художественным текстам можно эту схему выстроить как соотношение двух основных стилей, бинарного единства и противоположности гармонического и хаотичного.
В рамках семиотических изысканий и примыкающих к ним были сделан ряд наблюдений над структурными особенностями тропов и их ролью в произведении.
Так, С.Эйзенштейном были высказаны идеи, что все ситуации в искусстве можно рассматривать в качестве метонимических или метафорических, а также говорить о «ситуационной метафоре, метафоре фабулы, метафоре предметов изображения». По мнению Вяч.Вс.Иванова, «этот круг мысли Эйзенштейна может оказаться полезным при попытке соединить исследования микроструктуры словесной и зрительных метонимических (или метафорических) образов с аналогичным анализом повествовательных макроструктур» [2.81, 2.82:270-271], то есть уже непосредственно в сфере литературной сюжетности.
В близкой плоскости располагается исследование Ю.Шатина, который на материале текстов Л.Толстого анализирует универсальные типы сюжетосложения через призму структуры метафоры и метонимии. По его мнению, существует «некий внутренний механизм, переводящий однозначную ситуацию фабулы в многозначные сюжетные события» [2.252:77-50]. При этом сюжетной метафорой будет являться «всякое высказывание <...>, цель которого - не продолжать изложение событий, но образовать замкнутый фрагмент, не пересекающийся с фабулой», а метонимией — «всякое высказывание, устанавливающее определенные отношение между фабульной схемой и смежным с ней индивидуальным представлением о сюжете», то есть смена точек зрения (сказ и остранение, например). Роль метафоры в эпическом произведении здесь настойчиво связывается с неким «перебивом» в
повествовании, резкой выделенностью какого-то фрагмента или сосуществованием двух образов, смысл которого предлагается разгадать читателю. Обнаруживается та «взаимная перекодировка», которая, по словам Ю.Лотмана, «образует язык множественных прочтений, что раскрывает неожиданные резервы смыслов» [2.124:5<5].
Подчеркнем, что в данном случае метафорический механизм рассматривается как основа широкого круга сюжетно-композиционных явлений не столько с генетической, сколько со структурной точки зрения. Оказывается возможным затронуть жанровые и межжанровые аспекты (как реализация свойственной метафоре «двутелости» предстают такие формы, как загадка, басня, притча, палиндром, акростих и другие [2.83:72-75]. В этом случае сюжетное развитие в некоторых малых жанрах и есть своеобразное «приключение метафоры», когда текст рассчитан «на одновременное обращение к нескольким различным значениям слова, что нарушает некоторую важнейшую семантическую знаковость нормального функционирования языка» [2.154:227]. Основная структурная особенность метафоры, как и само условие для возникновения метафорических отношений и их коммуникативной успешности, заключаются в угадывании сходства по правилам, которые известны обоим партнерам, и в то же время — в элементе непредсказуемости, и тогда хметафора полностью выстраивает сюжет как процесс разгадывания (загадка как основа детектива и т.д.).
Таким образом, характеристика развития иносказательности, развертывания метафоры в произведении одновременно тесно связывается с вопросами сюжетообразования и сюжетосложения. Так, Ц.Тодоров доказывает, что колебание читательского сознания между буквальным и переносным значением, выраженное тропом, способно разрастаться в сложные характеристики сюжетной организации, отрицая или подчеркивая фантастическое, выстраивая игру двух точек зрения. В итоге в работе Тодорова ставится вопрос о сюжетообразующей роли символических образов («Шагреневая кожа» Бальзака) или идиоматических выражений, которые
определяют метаморфозы героев и изображенного мира. Особый случай, по мнению ученого, представляет собой повесть Гоголя «Нос», где фигуральные обороты подготавливают сверхъестественное на уровне стиля, а потом - и на уровне события. Сюжет развертывается так, что создается «впечатление наличия аллегорического смысла, который на самом деле отсутствует; повествуя о приключениях носа, Гоголь повествует и о приключениях самой аллегории» [2.212:55].
Отметим в приведенных высказываниях важное для нашей работы обстоятельство: прямое прочтение фигуральных выражений, сам механизм тропа может «повествовать» о себе самом, то есть об устройстве языка художественного текста. При этом переключение точек зрения, колебание сознания читателя становится важным для создания иллюзии как конструктивного фактора сюжета.
Итак, проблема соотношения метафоры и литературного сюжета рассматривается:
1) в историко-генетическом аспекте: а) как объяснение функционирования
поэтики сюжета и жанра; б) как индивидуально-авторская «перекодировка»
архетипических образов;
2) в структурно-типологическом аспекте: а) как проявление
общеэстетического закона соотношения части и целого, содержательности
формы (микроэлемент отражает в себе все целое, содержит авторский
мирообраз), б) как структурно-композиционный принцип, сознательно
используемый автором и организующий произведение в целом. При изучении
этой последней сюжетообразующей функции метафоры необходимо отличать
закрепленные риторической традицией приемы иносказательности и
намеренное обыгрывание словесной формульности от индивидуально-
контекстного воплощения образов (поэтический контекст может и не обладать
метафоричностью в конкретном смысле).
В рамках данной работы мы ограничиваем объект исследования локальным кругом явлений пространственности и метафоры в сюжете.
Затронем вопрос о причастности метафоры к пространственности как специфическому явлению в поэтике XX века.
Пространственная активность метафоры в сюжете
Выше отмечалось, что метафорический стиль и мышление в истории культуры нередко воспринимались родственными монтажной логике, почти исключающей, например, «существование прозы реалистического стиля» [2.80:734], противопоставленной в определенном смысле миметическим формам. В искусстве и литературе XX века такое свойство метафоры, будучи принципом выражения фрагментарности, хаотичного образа мира находится в центре важнейших художественных исканий. В XX веке для культуры основным оказался вопрос о невозможности преодоления жизненного хаоса в самой художественной форме, которая уже не могла быть целостной и гармоничной. Сама поэтика должна была ориентироваться на законы хаоса, осваивать его язык «как на уровне фабулы, так и на уровне сюжетно-композиционной организации» [2.185:75], что и выразилось в пространственных формах образности.
Среди таких форм следует назвать особую активизацию метафоры, ее сюжетно-стилевое воплощение. Пространственная функция определяется здесь в выражении «многослойности» сюжета, стиля, текучести сознания героя. В частности, ряд зарубежных исследований, посвященных структуре образности романов М.Пруста, опираются на понимание метафорических связей как выражение хаоса, иррационального построения композиционного целого, и весь текст в таком случае оказывается особой макрометафорой [3.1:77-25].
Сходную роль метафорическая образность выполняет в таком явлении, как орнаментализм, предполагающий, во-первых, «некое изменение пространства, активную творческую работу по его членению <...>, соотнесение частей и целого» [2.190:33-34], во-вторых, единство динамики и статики, времени и пространства, гармонии и хаоса. Узкое понимание орнаментализма — организация текста по законам, приближающимся к лирическим: насыщение тропами разного типа, «украшенность», определяющая ритм и весь сюжет в
целом, выражающая особый интерес к языку, его семантической и эмоциональной напряженности. При этом фабульные, психологические характеристики растворяются во всеобщей метафоризации, которая образует не логические, а ассоциативные связи. Среди текстов, построенных на такой пространственности стилевой, словесной ткани, в русской прозе 20-х годов исследователи называют «Падение Дайра» А.Малышкина, повести Вс.Иванова и Б.Лавренева, «Конармию» И.Бабеля, романы Б.Пильняка.
Основной принцип здесь — особое словоупотребление, при котором главным героем становится сам стиль, поэтому «словесно-образные обороты либо полностью вытесняют персонажно-сюжетные связи, либо оказываются семантически более важными» [2.193:76]. «Орнаменгальносгь» метафоры здесь изменяет перспективы повествования, создает его «нелинейность»: само время приобретает пространственный облик.
Орнаментализм в широком смысле выражает рефлексивные интересы литературы, предполагает особые связи не только не лингвистическом уровне стиля. Тропеическая, метафорическая образность оказывается включенной в лейтмотивную структуру повествования, симметрично выстроенную на повторе образов, так что читатель способен продвигаться в тексте как зритель, рассматривающий картину не линейно, а в любом направлении, но при этом воспринимать ее разом, как целое. Языковая игра, ключевые образы-мотивы «уплотняют» словесную ткань, превращают ее в почти видимое пространство, но без явного обращения к «живописности», цветописи и т.д.
Однако следует поставить вопрос о других формах реализации метафоры как пространственной, визуальной структуры: не только в лирической (как повышенная тропеичность текста и отмена привычных событийных и предметных связей) или лейтмотивной функции, но и в роли главного сюжетно-композиционного «двигателя». Метафорический образ, фигуральное выражение, троп, развертываясь, превращается в сюжет, хронотоп особого типа.
Истории литературы хорошо известны тексты, построенные на основе одного зашифрованного образа, который разворачивался словно концентрическими кругами, формируя всю словесную ткань. Подобные приемы были развиты в рамках античной риторики и демонстрировали рациональную, логическую запрограммированность системы тропов; позже, в эпоху барокко, метафора могла экстраполироваться на все пространство произведения, становясь образом хмира [2.48:27-29]. Здесь наиболее яркое воплощение получала пантеистическая идея (единство многообразия): в каждом элементе отражается все целое, макрокосм дробится, повторяясь в миниатюре микрокосма. Такая метафора организовывала все уровни текста, выражала барочную концепцию творческого Остроумия, сближала далекие реалии и выполняла роль контрапункта (поэзия Дж.Донна, эстетические идеи теоретиков барокко Б.Грасиана и Э.Тезауро). Возникает вопрос об интерпретации сходного явления в поэтике XX века - использования авторами XX века метафорических, иносказательных форм как осознанного приема: пространственное «дробление» образа предполагает настойчивое повторение «на всех возможных уровнях и во всех возможных масштабах: от детали до философии, от сюжета до стилистики...» [2.113:223].
Предмет нашего интереса составляет организация прозаического сюжета эпического произведения, построенного на метафоре на всех уровнях поэтики. Метафора как пространственная форма выстраивает сюжетно-фабульную систему, хронотоп и образность особого типа. Чтобы определить специфику такого сюжетообразования и обосновать понятие метафорического сюжета, обратимся к понятию пространственности, к структурным изменениям хронотопа и сюжета в неклассической литературе.
Пространственность в сюжете и понятие «вторичного» хронотопа
Понятие пространственности, пространственной формы известно, в первую очередь, по работе Дж.Фрэнка и вместе с бахтинской категорией хронотопа прочно вошло в литературоведческий обиход [2.59]. Поскольку наш исследовательский интерес заключается в сюжете, который строится на пространственном развертывании, существенно изменяет тип хронотопа и героя, определим границы самого понятия.
У Дж.Фрэнка [2.234], как и в других зарубежных исследованиях [3.5, 3.13] по близкой тематике, активизация языка пространства осмысливается как важнейшая черта культуры XX века в целом: обнаруживается кризис традиционной эстетики и классической сюжетной организации.
Указанный конфликт между временной логикой языка и пространственной логикой характеризует почти все художественные формы XX века и обнаруживает их единство, определяет границу между так называемым классическим и неклассическим типом поэтики. Под неклассической поэтикой, неклассическим повествованием понимают новую структуру художественной образности, которая предполагает превращение в тему и сюжет самого устройства произведения. Возникает принцип метапоэтики [2.215], интерес фокусируется на автоописании, «тематизации творческого процесса» через изображение сочинительства, зеркальность повествования, через обнажение приема, форму «текст в тексте» и т.д. [2.187:151-244]. Пространственность в рамках такого понимания означает особую активизацию авторского присутствия в литературе неклассического типа, абсолютное преобладание «авторского» сюжета над сюжетом героя. Возникает особый тип художественной организации, когда «событие эстетического завершения больше не трансгредиентно «внутреннему миру» произведений», поскольку «проблема сотворения формы непосредственно прикрепляется в «событийную плоть» текста [2.10: 106-108].
Такой принцип находится в конфликтных отношениях с понятием бахтинского хронотопа, который предполагает особое, художественное преломление все же реальных очертаний окружающего мира, природных или культурных, ценностно ориентированных на образ человека. Намеренное обнажение литературной условности принципиально меняет концепцию человека и мира. Само представление о пространственно-временных координатах все больше дифференцировалось, и интерес сдвигался в сторону понятия пространства текста (вплоть до восприятия буквального движения персонажей в плоскости страницы).
В частности, зарубежные исследователи К.Малмгрен, Д.Лодж, К.Брук-Роуз [2.211:356-365] выдвигают понятие многослойности и фиктивности художественного пространства как своеобразного «маркера» неклассической поэтики. При этом вымышленный мир и мир повествователя образуют так называемое текстовое пространство, которое оказывается резко противопоставленным пространству читателя. Читателю предстоит установить связи между лакунами, разрозненными фрагментами, создать самостоятельное семантическое измерение, «сплавив данные его сознанию фрагменты в упорядоченное представление...» \З.Ш:12;33]. К.Малмгрен утверждает, что такое смысловое поле, сконструированное читателем, предельно субъективно, принадлежит только читательскому воображению, поэтому его следует называть «парапространством», то есть возникающим параллельно тексту, но в известной мере от него не зависящим. В концепции М.Бахтина такому «семантическому измерению» соответствует, видимо, особое понятие «творческого хронотопа — поле взаимодействия читательского и авторского сознания, которое существует вне изображенных миров, [2.15:187] а в неклассической литературе превращается в объект изображения и в организацию сюжета.
В результате художественный образ приобретает качество, которое исследователи определяют как немиметичность: привычное соотношение образа и каких-то готовых, традиционных форм разрушается, поскольку «искусство становится подражанием подражанию ... , не подражает непосредственному течению жизни; жизненная проблематика осуществляется ... в работе над формами восприятия, элементами языка, жанровыми структурами, стилями и т.д» [2.184:34-56]. При этом важно само усилие читателя, поскольку принципиальной характеристикой образа становится его дискретность - именно в ее преодолении и заключается ориентация на пространственную логику. Композиция в таком случае не «спрятана» внутри органики произведения, а обнажена и требует своего прочтения по особым законам, она выстраивается в процессе чтения и является самостоятельным сюжетом. Возрастает нагрузка на сам процесс соединения, упорядочивания разрозненных образов: читателю как бы передоверяется работа автора-демиурга: он сам должен заново строить смысл из хаоса. Разрушение причинно-следственных связей определяет восприятие такого «линейного» произведения, это «один из способов активизировать нашу деятельность интерпретации текста», «текст нельзя читать с начала до конца, в нем приходится как бы все время ходить окольными путями; его устройство пространственное, а не временное» [2.75:40].
Говорят в связи с этим об «интеллектуализации искусства», связанной с расширением его формально-композиционных средств», которые перестают быть формальными и образуют смысловое поле, вне которого невозможно само их понимание: «проблематизация и рефлексия стали компонентами понимания и переживания искусства» [2.170:75].
Теоретическое осмысление трансформации образности в литературе часто шло через аналогии с визуальными, пластическими искусствами и непосредственные связи с ними. Такова, например, эстетика монтажа, построенная на обыгрывании, осмыслении «несовместимости ткани» (крайняя форма — коллаж): введение контрастных по своему характеру свойств, их подчеркнутое столкновение создают новое видение конструктивности художественной формы. Контрастность, конфликтность выступают организационным принципом мышления зрителей или читателей. Среди различных характеристик этой контрастности отмечали также прием «распластованности» в живописи, отказа от прямой перспективы [2.226, 2.227]. В современных литературоведческих работах этот принцип определяется как «кубистический» [2.178], то есть разрушающий органическое строение образа, и живопись кубизма, с ее разломами пространственной плоскости картины и игрой множества граней, находит свое отражение в особой мозаичности, фрагментарности литературного сюжета.
Метафорический сюжет: мировоззренческие и жанровые координаты
С точки зрения нарративного развертывания метафоры и принципа пространственной центростремительности сюжета, его потенциального существования в одном метафорическом словесном образе, который проблематизирует время, в центре внимания в основном оказываются два жанровых образования - новелла и притча. В первом активна игра слов, второе опирается на такой принцип, как «двутелость» самого сюжета. Разумеется, применительно к неклассической литературе нельзя говорить о чистых жанровых формах, но все же здесь важным оказывается сам «образ» жанра, его игровое использование. В том и в другом случае метафора предстает реальным структурным механизмом.
Отметим, что жанры малой прозы как таковые, в силу повышенной интенсивности пространства, предельной сжатости хронотопа, сконцентрированности вокруг одного события, оказываются в ассоциативном кругу притчевых и анекдотических форм, так как «...минимальный жанр, как правило, не предоставляет читателю словесно оформленного вывода или морали, то есть присутствует достаточный набор условий, необходимый для создания притчи -и нередко читательское ощущение оказывается обоснованным» [2.210:7І]. Нас же будут интересовать те сюжеты, метафорическое устройство и восприятие которых в определенной степени «программируется» именно притчевой и новеллистической природой.
При исследовании композиционно-структурных особенностей текстов, ориентированных на новеллу и притчу, обнаруживаются их пространственные черты. В центре внимания окажутся, во-первых, сюжетная инициативность слова, во-вторых, «пространственность» картины мира новеллы и притчи, своеобразное отрицание времени, им присущее, в-третьих, взаимоотношение с романным началом.
Напомним устройство новеллистического и притчевого сюжета, а затем обратимся к их неклассическим трансформациям.
Традиционная новелла восходит к анекдоту, и эта связь во многих случаях оказывается принципиальной, особенно для характеристики каких-либо форм парадоксальности в литературе. Парадоксальная развязка нередко строится на игре слов. Наблюдения исследователей позволяют считать одним из важнейших приемов в структуре анекдота демонтаж метафоры: «В анекдоте метафорический ряд обычно представлен в двух своих ипостасях: как готовый и привычный словесный образ и как образ демонтированный, точнее, даже взорванный, распавшийся на первичные элементы» [2.101:36]. Поскольку главная особенность анекдотического случая - ситуация «непонимания» персонажа, который происходящее прочитывает по неверному коду, то и буквальное восприятие метафоры здесь - проявление «игрового, эстетического» начала, смещения двух планов — «реального и образного». По замечанию Е.Курганова, очевидно единство «закона пуанты», мгновенного переключения «эмоционально-психологических регистров», изменение ситуации в новелле и - в анекдоте, который и проявляет себя в игре слов как «взрыв .. . , эффектно соединяющий разные точки зрения» [2Л0\:44-45].
Казалось бы, в силу своего анекдотического, авантюрного ядра, новелла предполагает интригу, непредсказуемость событий — таков смысл развязки-«пуанта», и в центре его — персонаж с активной жизненной позицией, столкновение героев с игрой случая (оговоримся, что для нас важны, прежде всего, черты классической европейской новеллы, определяемой как «искусство « сюжета в наиболее чистой форме, сложившееся в глубокой древности» [2.266]. На это обстоятельство последовательно обращали внимание разные ученые: на первом плане находится действие, центростремительность событий, резкое изменение которых от исходного состояния к противоположному сопоставимо с перипетией в драме.
Перечисленные признаки говорят о фабульной остроте и событийности, без которой немыслима «твердая концовка», совпадающая чаще всего с развязкой [2.214:243]. Однако теория новеллы позволяет говорить о таком ее мировоззренческом комплексе, который демонстрирует иную оценку героя и события и противоречит в какой-то мере стереотипам новеллистического жанра. Центростремительность действия («можно даже сказать, что вся новелла задумана как развязка») [3.8:77-75] ставит под сомнение само развитие событий. Действительно, за неожиданностью разрешения коллизии скрывается отсутствие каких-либо дальнейших возможностей: развязка «запрограммирована» всем предшествующим ходом событий, и изменить его нельзя. Выбор персонажа либо вообще ничего не осуществляет и создает мнимое действие, либо приводит в результате к его же гибели. Как пишет И.Смирнов, изначальная катастрофичность мира новеллы парадоксальным образом обнаруживает свою упрощенность, и даже при счастливой развязке «на каждом следующем шаге своего сюжетного алгоритма новелла вместо того, чтобы показать новое состояние мира, обнаруживает, что оно недостижимо» [2.197:9].
Это качество воплощается и в образе времени, которое в новелле «негативно», колеблется между цикличностью и линейностью (напомним, что в классическом виде новелла сформировалась в эпоху Возрождения и связана с возникновением интереса к земной исторической жизни, само же название жанра содержит значение «нового», необычного). Однако ни цикличность, ни линейность не реализуется в полной мере. Принцип случайности, нанизывание авантюрных эпизодов не «работает» в данном случае как выражение открытости, творческой незавершенности, в отличие от романа, но и полное восстановление исходной гармонии - возвращение к начальной точке событий, как и изменение мира, невозможно. «Новелла, не способная показать творчество ни как добывание нового, ни как возвращение старого, не в силах, соответственно, и наметить путь для конструктивного преодоления трудностей, которые она изображает» [2.197:77].
Следовательно, картина мира новеллы предполагает некоторое отрицание времени (и на уровне героя, и в широком смысле), его «недоразвитую» линейность и разрушающуюся цикличность и дает возможность эксперимента над фабулой именно в силу своей деструктивности. Также оказываются ограниченными и проблематичными такие категории, как событийность — уже называвшееся нарушение персонажем семантических границ, сознание героя, его речевое выражение, его существование, как впрочем, и статус самого рассказчика.
Изучение структуры новеллы показывает, что сконцентрированность языкового пространства и предельная семантическая насыщенность малой формы неизбежно приводит к возникновению особых связей внутри текста. Новеллистическая композиция нередко привлекала внимание ученых именно своей жесткой словесно-ритмической структурой [2.272], пространственной организованностью мотивов (говорилось о наличии главной и побочной темы, о двучленном строении тематики и т. д).
Демонтаж метафоры (новеллы С.Кржижановского)
Рассмотрим ряд новелл С.Кржижановского через призму интересующей нас теоретической проблемы — изменения образной, пространственно-временной и жанровой структуры (создание «вторичного» хронотопа и рождение квазипараболы, особого типа героя) за счет универсализации метафорического образа, превращения метафоры-речевой формулы в сюжет. Кратко обозначим основные формы такой поэтики, когда метафорический сюжет, параболичность делаются исследованием самих художественных возможностей текста. 1. Повествование создает намеренное впечатление отстраненности от происходящего, герои воспринимаются почти всегда внешне. Они не обладают самостоятельным словом, так как их речевая сфера не индивидуализирована, и здесь удачным кажется приведенное выше выражение Ю.Левина по поводу новелл Борхеса: для автора важно только то, что «отстоялось словом» [2.107:452]. 2. Власть слова ставит под сомнение речевую и деятельную активность героя, поскольку персонажами часто являются «ожившие» словесные фигуры, которые могут потерять свой контур, как бы слиться с текстом, попасть в зависимость от оговорки, случайно произнесенного слова. Эпическая активность, обычно свойственная герою новеллы в изображаемом мире, перемещается в плоскость события изображения. 3. Герой является порождением текстового пространства, сращивается с ним, может «раствориться» в сюжете. Причем эта зависимость настолько прямолинейно обнажена, что должна вызывать у читателя впечатление абсолютной власти автора над героем, так как поведение героя диктуется словесным образом и несет демонстрацию некоей идеи. Прочтение этой идеи реализует себя как комплекс устойчивых в культуре значений, что позволяет говорить об эмблематичности сюжетной ситуации. Этому способствует и то обстоятельство, что Кржижановский постоянно ориентирует читателя на жанр философской притчи (вернее, на обломки жанра, на стереотип, который сложился у искушенной читательской аудитории, опознающей мотивы из произведений Вольтера, Дж.Свифта, А.Франса). Персонажи выглядят как марионетки, которые иллюстрируют авторскую идею, однако тот высший план, с которым необходимо соотносить все описанное — это пространство иронической мысли автора, не заключающее в себе никакой высшей истины. Такая тенденция реализует себя в двух основных вариантах, крайних точках, между которыми располагаются все остальные: с одной стороны, умозрительность, абстрактность событий и хронотопа, параболичность, с другой - тяготение к визуализации, к смещению границ слова и изображения.
Очевидна ориентация автора на жанр новеллы: предельная сжатость пространства, несколько персонажей, связанных каким-либо одним неожиданным событием, четкий сюжетный рисунок, явный фантастический элемент, устремленность к эффектной развязке. Исследователями [2.36, 2.37, 2.53, 2.61, 2.115:/05, 2.215] отмечалась особая условность всех историй, их лабораторная сконструированность: герои — не реалистические характеры, а темы, идеи, образы, уже многократно «пропущенные» через призму литературы, сама же плоть сюжета как бы «нарастает» на некую точку метафоры-парадокса.
Среди новелл, построенных по такому принципу, можно обнаружить несколько основных типов обыгрывания словесных и культурных мировоззренческих формул в механизме новеллы. Так, в сборнике «Сказки для вундеркиндов» и в других циклах 20-40-х годов к новеллам, основанных на явном демонтаже метафоры, следует отнести такие тексты, как «Неукушенный локоть», «Мухослон», «Страница истории» и другие, где сама фабула жестко организована благодаря «развинчиванию» целостного словесного образа (даже на чисто лингвистическом уровне фразеологических клише, заявленных в самих названиях). Напряжение между фабулой и сюжетом воплощено в способе прочитывания метафорического образа. Метафора как «средство удвоения хмира» расслаивает здесь единство этой двойственности. Если фабульное движение предлагает ситуацию, когда слово равно миру, то сюжет, благодаря проникновению метафоры в сами «поры» текста, сигнализирует .читателю о том, что слово — всего лишь слово, т. е. мир, созданный из слов, который в любую минуту может распасться и измениться до неузнаваемости. Становится очевидной изначальная иллюзорность фабулы и всего событийного ряда, обнаруживается проблематичность всех действий героя и самого его существования. Активность героя и сюжетная инициативность слова, заложенная в природе анекдотической ситуации - строительного материала новелл - вступают в особые отношения.
Выше отмечалось, что в новеллистическом типе сюжета нередко запрограммирована парадоксальная развязка, которая приводит к своеобразной аннигиляции основного событийного узла. В данном же случае следует говорить о специфическом использовании структурных особенностей новеллы, приводящем не только к уничтожению исходной ситуации, но и к отрицанию традиционной фабулы в качестве основы эпического действия. И внешний, событийный уровень, и его стилевое воплощение одинаково принадлежат к интеллектуально-словесному полю и постоянно обнаруживают свою вторичность, искусственность. Фабульная пружина способна сжаться в точку, и это колебание между ее развернутым состоянием и «свернутостью» порождает подлинное движение сюжета, которое предлагает читателю двойственное, двусмысленное положение героя между существованием и не-существованием. Следовательно, пространственность проявляет себя здесь как самоотрицание изображенного события. Конструктивный момент, смысловой пуант новеллы заключается в переключении читательского восприятия из одной плоскости в другую, в двойственном прочтении метафорического образа.
Обратимся к нескольким новеллам Кржижановского («Страница истории», «Проигранный игрок», «Неукушенный локоть»).
«Страница истории переворачивается, господа», — слышит за дверью герой одной из новелл [1,221].6 Произнесенный языковой штамп становится основой фабульной ситуации и разворачивается в особый хронотоп, определяя испытание героя.
Стертая публицистическая метафора, «общее место» реализуется и словно бы выходит из берегов: само слово «страница», появившись в начале повествования, получает смысловые обертоны и пронизывает собой весь текст. Историк приват-доцент Нольде, как и многие персонажи Кржижановского, «книжный червь», привыкший к миру уравновешенных, инвентаризованных слов, не принимает слово, которое становится образом мира, воплощается и само творит мир («за дверью копошились слова ... , голос ... стучал о створу»). Овеществление героя пугает, для него слово имеет предельно конкретный смысл, оно должно всего лишь называть знакомые предметы, но никак не нарушать границу между реальностью и вымыслом: «Нольде поморщился: дома на его столе ожидали самые обыкновенные бумажные странгщы его работы о сервитутном праве» [1,221].
Серийность метафорического сюжета и квазипарабола в новеллистическом цикле («Клуб убийц букв»)
Прежде чем перейти к анализу текста, обоснуем возможную связь термина с проблемой литературного цикла и «обрамленного повествования» как пространственных форм сюжета.
Выше отмечалось, что серийность предполагает сюжетно-образную мозаику, где первоэлементом воспринимается не отдельный фрагмент, а весь комплекс образов — ряд одинаковых изображений, отражающих друг друга. Этот принцип имеет самое непосредственное отношение к ситуации «рамки» в тексте, к созданию особого «лоскутного» хронотопа.
Указанный в первой главе вероятностно-множественньій сюжет рождается, по мнению С.Бройтмана, из трансформации кумулятивного и циклического. «Как когда-то кумулятивный пространственный ряд был «изогнут» в цикл, так теперь повторяющийся цикл оказался разомкнутым в многомерный и вероятно-множественный становящийся ряд» [22&J49]. Серийность, на наш взгляд, вполне объяснима через такое изменение (завершенные, замкнутые в себе сюжеты и образы начинают повторяться, развертываться в бесконечность) и образует конфликт внутри сюжетной целостности, поскольку сама кумуляция ориентирует на образ хаоса, цикличность — на структурирующее начало. Природа цикла здесь получает особую роль: перед нами специфическое образование, где в наиболее обнаженном напряжении присутствует соотнесение вертикальных и горизонтальных связей, предполагается подвижная мозаичность, основанная на соединении кумулятивности (нанизывания эпизодов) и рамки. Например, новеллы, как явления малой прозы, всегда тяготели к группировке в целые серии и объединению в «определенном обрамлении» [2.134:246]. Как пишут исследователи этого явления в литературе, «цикл - особый вид контекста, в котором каждое произведение приобретает новую функцию — выражать разные стороны одной идеи» [2.47:5, 2.228].
Следовательно, потенциал серийности заложен в природе цикла уже в его традиционном, полу фольклорном бытовании, а в XX веке воплощается в самой яркой форме. Предрасположенность к этому явлению выражается в том, что здесь обязательно возникает проблема единицы, целостного восприятия сложного комплексного, мозаичного объекта. Особый вид целостности, «модель макротекста» [2.228:36-37], реализуется за счет иерархии миров, разных семантических структур, образующих множество рамок, которые в литературе модернизма приобретают другой вид, не сравнимый ни с классическим «обрамлением», ни тем более с фольклорным нанизыванием. Речь идет о формировании нового принципа целостности, ориентированного на хаотичное множество «текстов в тексте»: цикл распадается на множество себе подобных, границы художественного мира и реальности постоянно сдвигаются, рамка становится «креативной» [2.106], возникает смешение уровней созданных литературных миров. В этом случае пространственные отношения, возобладавшие в тексте, означают отрицание линейности, реализацию «ветвящихся» возможностей события.
Родственное явление — модель «рамки», которая могла превращаться в часть произведения, то есть быть художественным элементом, нарушая границы реального и изображаемого мира.
Как было замечено, «рамка» всегда была чем-то, не имеющим ясного статуса. «Произведение искусства обрамляет себя само, модулируя свое отличие по отношению ко всему окружающему миру внутри себя и делая себя открытым наблюдению» [2.159:30-37]. В неклассической литературе «рамка» часто является указанием на специфический язык самой литературы и отрицает традиционное знание о мире. Общий принцип поэтики текстов подобного типа предполагает исчезновение стабильной «рамы». Если рамочная конструкция и изначально уже являлась усилением знаковости, поскольку акцентировала сам процесс рассказывания, но одновременно четко отграничивала текст от действительности, то теперь текст теряет всякие признаки стабильности.
Для нас важны следующие моменты: 1) серийность как результат изменений в языке сюжетных схем; 2) связь понятия серии со структурой новеллистического цикла, с «обрамлением»; 3) целостными единицами «серии», готовыми блоками повествования в «Клубе убийц букв» Кржижановского выступают жанры, где метафора генетически выполняет миромоделируюшую функцию. Соответственно, будет определено место метафорического сюжета в этой системе.
В «Клубе убийц букв» представлена не совсем обычная рамочная конструкция, в которой мир обрамляющий и мир обрамленный разворачивается в «серийную» структуру, благодаря трансформации метафорического механизма, действующего в поле новеллы и притчи. Метафорический сюжет как пространственная форма реализуется в «Клубе убийц букв» благодаря своей гипертрофированной роли в «рамочном» повествовании. Причем сама природа метафоры определяет поэтику на всех уровнях, образует совокупность многих сюжетов, построенных на обыгрывании метафорического механизма, в том числе и такого, который создает эмблематичность и квазипараболу.
Прежде чем перейти непосредственно к организации метафорического сюжета в повести, кратко определим, в чем заключается ее жанровая «серийность». «Клуб...», на первый взгляд, намеренно ориентирован на «декамероновскую» традицию. Это повесть, в основе которой лежит цикл из семи новелл, рассказанных различными героями (хотя формальная симметрия между рассказчиками не выдерживается). Однако природа этого цикла особого качества: это не повесть в привычном смысле, включающая в себя чьи-то рассказы, и не традиционный сборник рассказов. Повествование строится как пестрая, разнородная мозаика, где основные рассказы включают вставные новеллы и побочные линии. Читательская культурная память должна ориентироваться не только на «Декамерон», но и всевозможные «океаны сказаний», древние сборники, «книги» (в повести прямо упоминается «Панчатантра»), где вместе уживались и притчи, и новеллы, и сказки. Здесь используются не просто сами жанры, а образы традиционных жанров, вплоть до их архетипических схем. Особенности анекдота, новеллы и параболы избираются автором как готовые образы мира для создания нового сюжетного языка, реализованного в пространственных формах. В результате создается сложный комплекс разных жанровых, мотивных, образных миров. Кроме того, выясняется, что «рамка» в повести не одна, поскольку почти всякая новелла имеет внутри себя какую-то другую историю, хотя бы в зачаточном виде, или -фигуру героя, занимающегося творчеством, причастного к сочинению и рассказыванию.
Бокаччиевскую книгу здесь напоминает не только множественность рассказчиков и целостность цикла, вмещенного в пределы повести, но и сама организация хронотопа. Вспомним, что для «Декамерона» принципиально моделирование некоего особого, утопического, замкнутого пространства, которое отделено от всего окружающего мира, - как возможность противостояния царству чумы и смерти. Такая концепция присутствует в повести Кржижановского в «перевернутом» виде.
«Обрамляющая» история в «Клубе», объединяющая, по законам повести, героев в одном фабульно-тематическом срезе [2.191:47-48] — это рассказ о попытке героев уйти в сферу «чистых замыслов», полностью отгородившись от внешнего мира, посвятить себя творчеству. Рассказчик встречается с некогда знаменитым литератором, которого осеняет идея творить, отказавшись от воплощения своих образов и не прибегая к каким-либо знакам, чернильным или печатным. Как в заглавие повести, так и в название Клуба вынесен образ насильственной смерти: главной оказывается именно идея убийства букв. Для этой цели каждую субботу приглашаются замыслители - авторы, которые добровольно обрекают себя на безвестность. Замкнутый мир гармонии, противоположный в «Декамероне» смертоносному пространству вокруг, здесь сам наделяется отрицательным знаком.