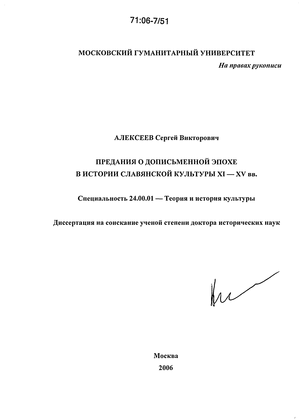Содержание к диссертации
Введение
РАЗДЕЛ 1. ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 48
Глава 1. Сказание исаие пророка («болгарская апокрифическая летопись») 53
Глава 2. Летописные заметки при болгарском переводе хроники Константина Манассии 81
Глава 3. «летопись попа дуклянина» («барский родослов») 94
Раздел 2..Русские летописи 181
Глава 1. Киевский начальный свод 182
Глава 2. Повесть временных лет 218
Глава 3. Памятники новгородского летописания 325
Глава 4. Киевская летопись в труде яна длугоша 335
Заключение 373
Список использованных источников и литературы 389
- Сказание исаие пророка («болгарская апокрифическая летопись»)
- Киевский начальный свод
- Памятники новгородского летописания
Введение к работе
История складывания славянской государственности и цивилизации, формирования письменной славянской культуры, распространения христианства в славянском мире давно находится в центре неослабевающего исследовательского внимания. Эти стороны более обширной проблематики, связанной с происхождением и ранней историей славянских народов, затрагиваются в большом числе обобщающих и частных работ отечественных и зарубежных авторов. Проблематика рассматривается с позиций культурологии, истории, филологии, во всем многообразии своих общеисторических, культурно-исторических, источниковедческих и иных аспектов. Особое место занимают, без сомнения, фундаментальные труды прошлого - начала нынешнего века, - единственный опыт максимально возможного охвата всех доступных в то время источников - принадлежавшие
1 "У
П. Шафарику и Л. Нидерле . Можно назвать целый ряд обобщающих исследований и за XX столетие. Вместе с тем, работу исследователей славянских древностей затрудняет относительный недостаток источников и трудности в их истолковании. Трудности эти усиливаются недостаточной проясненностью и дискуссионностыо отдельных вопросов, имеющих, однако, и самостоятельное историко-культурное значение — степень и формы отражения исторической реальности в устной традиции древних славян, эволюция и жанровая структура этой традиции, формы ее преломления в ранних письменных источниках.
В рамках обобщения известных науке данных по истории славянства «догосударственного» периода одной из важнейших задач является по возможности широкий анализ воззрений на дописьменную эпоху, сложившихся в славянской средневековой культуре — с точки зрения их происхождения, истории складывания, идейной и религиозной направленно-
сти. В рамках этого следует проанализировать генезис, прослеживаемую историю бытования, направленность эволюции устной исторической традиции древних славян и выявить особенности адаптации этой традиции к письменной христианской культуре возникших в средние века новых славянских государств. Эту научную проблему мы предполагаем в меру своих возможностей разрешить в настоящей работе.
В условиях идущих в настоящее время споров о месте и роли устной традиции в дописьменной и раннеписьменной культуре, о культурном и общеисторическом значении принятия христианства славянскими народами, а также активной работы по кодификации и комментированию имеющихся у нас данных по ранней славянской истории, тема настоящего исследования представляется весьма актуальной. Рассматривается один из важнейших аспектов естественной трансформации культуры на переходе от поздней первобытности («варварства») к «цивилизации», на этапе вхождения крупной этнической общности в трансэтническое христианское цивилизационное поле. При этом осознание своего дохристианского и до-цивилизационного прошлого в рамках новых культурных парадигм, несомненно, являлось важнейшим элементом описываемой трансформации. Исследование соответствующей тематики, пусть на частном славянском примере, представляет большую важность не только для истории, но и для теории культуры, предоставляя ценный эмпирический материал.
Изучение устной традиции, связанной с историей ранней государственности, довольно часто оказывалось в плену утилитарного подхода, когда значимость традиции оценивалась исключительно или почти исключительно с точки зрения ее конкретно-исторической и социокультурной достоверности. С другой стороны, исследование устной традиции, фольклора как исторического источника очень часто противопоставляется исследованию его как памятника культуры. Прямо или подспудно эти подходы рассматриваются нередко как взаимоисключающие. Соответственно, методо-
логия научного анализа устной исторической традиции уже с XIX в. рассматривалась в контексте споров о ее значении в качестве исторического источника. Соотношение историко-культурной значимости памятников фольклора (в общем, сомнений не вызывавшей), и места их как источника по конкретной истории описываемого в них времени далеко не сразу было оценено адекватно. Дискуссии по этим проблемам идут в истории и филологии и по сей день. Между тем, высказанные в этой связи оценки однозначно распространяются не только на фольклор, реально известную благодаря собирателям нового времени традицию народную, но и на традицию раннеписьменную, которая в древнейших своих повествовательных частях не может не восходить к данным именно устного предания.
На волне идеализации гиперкритического подхода к историческим источникам на заре позитивной науки XIX в. устная традиция (и соответственно опирающаяся на нее раннеисторическая) рассматривалась, прежде всего, как источник по истории культуры и исторического мировоззрения времени фиксации, и лишь отчасти — как малодостоверное припоминание о событиях описываемого времени. В качестве обоснования такого подхода приводились временная дистанция между временем фиксации и описываемыми событиями, уже осознаваемая исследователями специфика отражения действительности в фольклорных произведениях, субъективный характер передачи ими информации. При этом следует отметить, что формы преломления устной традиции в письменной литературе, генезис самой традиции оставались за пределами научного интереса историков и источ-никоведов; развитие же собственно историко-культурного познания только начиналось.
В научной фольклористике XIX в. преобладали две основных научных школы — «мифологическая» и школа заимствований. Их значение в развитии науки о фольклоре трудно переоценить. Именно их представителям принадлежат заслуги создания фольклористики как науки, начала ис-
следований в области сравнительной мифологии и фольклористики, межэтнических контактов в области фольклорной традиции. Все это создавало базу для историко-культурных исследований в области фольклора, которым, собственно, ученые этих школ и положили начало.
Но вместе с тем представители мифологической школы (Я. Гримм, А. Н. Афанасьев и др.) явились невольными создателями ряда серьезных заблуждений. Они исповедовали взгляд едва ли не на всех фольклорных персонажей как на «спущенных с небес» персонажей высшей мифологии. Это, в свою очередь, отводило от постановки вопроса о таких жанрах фольклора, как предание и эпос, как жанров исторического характера, от важной проблемы преломления в них реального исторического факта. Фольклорный материал весьма скупо использовался даже как историко-культурный источник. По сути, его возможности сводились к основаниям для конструирования, нередко в романтическом духе, национальных мифологий. Вопрос об исторических корнях фольклора затрагивался мифоло-гистами лишь в малой степени. Однако все-таки сама постановка вопроса о древних корнях фольклора закладывало основания для должной его историко-культурной оценки. К тому же многие выводы мифологистов об отражении древней мифологии и обрядности в фольклорной традиции разных народов в итоге выдержали проверку временем.
Приверженцы теории заимствований (миграционной — Т. Бенфей, Ф. И. Буслаев и др.) видели в «универсальных схемах» фольклорных произведений следы межэтнических контактов, ведших к заимствованиям в фольклоре. Другие исследователи возводили «универсальные схемы» к общим мифологическим и фольклорным прототипам. Их труды положили начало сравнительному анализу фольклорных произведений разных народов и разработкам в области сравнительной мифологии и отчасти сравнительной этнографии. Однако вопрос об исторических корнях фольклора у них также был слабо разработан.
Реакцией на воззрения традиционной фольклористики и исторической науки на произведения фольклора явился расцвет на рубеже XIX — XX вв. так называемой исторической школы (А. Хойслер, В. Ф. Миллер и др.), являвшейся с тех пор основным оппонентом школы мифологической. Историки и литературоведы, ставшие основоположниками исторической школы, выдвинули идеи доверия к данным фольклора (тем более зафиксированного еще в средние века) при реконструкции конкретной истории, непосредственного отражения в произведениях фольклора реалий социальной и политической истории.
Постановка и положительная разработка истористами вопроса о фольклоре как историческом источнике, как материале для «большой» истории, несомненно, имело большое значение. Но подход «истористов» практически с самого начала был дискредитирован рядом негативных явлений — утилитаристским подходом к фольклору, нередко фактическим отрицанием его очевидных мифологических корней, вольностью и натянутостью многих «романтических построений», отчасти восходивших еще к допозитивистской историографии. Нецелесообразным являлось и нередкое привлечение как источников по конкретной политической истории фольклорных текстов, несущих иную социокультурную функцию (например, сказок), поиск у таких текстов конкретной исторической «основы». В целом главной ошибкой родоначальников «исторической школы» (может быть, за исключением А. Хойслера и его последователей) являлась фактическая подмена проблемы истории устной традиции проблемой ее привлечения в качестве исторического источника. Тем самым важнейший общенаучный вопрос искусственно заключался в жестко ограниченные рамки источниковедения, что, в свою очередь, неизбежно заводило в тупик перспективную, в принципе, дискуссию с филологами, в том числе фольклористами, придерживавшимися «мифологистских» воззрений.
В то же время на волне интереса к историческим корням фольклора началось исследование многих ранее недооцениваемых памятников устной и раннеписьменной исторической традиции. Именно в то время появляются выделявшиеся взвешенностью и обоснованностью труды А. А. Шахматова3 и А. Хойслера4, глубоко и объективно проанализировавших содержание соответственно восточнославянской и германо-скандинавской ран-неписьменных исторических традиций, основанных в конечном счете на данных традиции устной. При этом были сделаны важные выводы о характере отражающейся в раннеписьменных источниках традиции как преимущественно «дружинной» по происхождению, намечен концепт ее адаптации-переосмысления в памятниках христианской исторической мысли.
За прошедшие десятилетия далеко вперед ушли и исследование фольклора, и изучение его взаимодействия с раннеписьменной традицией. Большинству исследователей уже вполне ясно, что фольклор отражает не только культурную, но и социальную реальность времени более раннего, чем время его фиксации. Соответственно, он должен использоваться как историко-культурный и исторический источник не только по времени записи или документированного бытования. Источником по социальной истории минувшего времени фольклор является независимо от жанровой принадлежности. Большое значение придавалось фольклору как историческому источнику в трудах представителей школы «Анналов». Этому способствовало общее расширение смысла традиционного понятия «исторический источник» основоположниками школы Л. Февром и М. Блоком.5 В отечественной историографии в этой связи нельзя не отметить большое значение теоретических работ С. О. Шмидта.6 В современной западноевропейской науке оживленно обсуждается место «устной истории» в культуре средневекового христианского Запада, особенности восприятия реальности в устной традиции, взаимоотношения «сказанного» и «написанного» слова.7
Принципиальное признание широких исторических корней фольклора, возможной связи его «исторических» жанров не только с мифологемами, но и с конкретным фактом, открывает более широкие перспективы для исследования проблематики. С другой стороны, жанры фольклора, призванные, по представлениям самих носителей устной традиции, сохранять представления о конкретной истории, по-прежнему остаются во многом объектом дебатов между «мифологистами» и «истористами». В центре дискуссии по-прежнему проблема более источниковедческого характера — применимость материала в качестве источника для воссоздания реалий описываемых времен. Во второй половине XX в., следует отметить, дискуссия стала гораздо плодотворнее, а позиции сторон во многом сблизились. Так, продолжавший многие традиции мифологической школы В. Я. Пропп продемонстрировал значение русских сказок как социально-исторического и культурно-исторического источника.8
Предметом наиболее ожесточенных дискуссий стали >памятники классического героического эпоса, в котором истористы были склонны видеть едва ли не устную хронику наподобие исторического предания, а некоторые мифологисты подчас отрицали наличие какой бы то ни было исторической основы. В советской послевоенной науке позиции сторон (опять же, более умеренные, чем в начале дискуссии на рубеже веков) были представлены работами В. Я. Проппа9 и Б. А. Рыбакова.10 На протяжении всей дискуссии предпринимались попытки выработать компромиссную точку зрения, демонстрирующую сложный путь эволюции от исторического факта к эпическому сказанию.1 Эти попытки представляются более основательными, чем жесткое следование «мифологической» либо «исторической» позиции. Слабые стороны такой последовательности, вполне продемонстрированные и на позднем этапе дискуссий, были уже показаны выше. Положительные решения, приближающие к объективной истине, лежат, очевидно, за пределами подходов узких «школ». В данном
случае от специалиста требуется, с одной стороны, установление по возможности конкретных обстоятельств возникновения исследуемых сюжетов в их сохранившейся форме, с другой — реконструкция корней этих сюжетов, в том числе и религиозно-мифологических, и исторических.
Между тем, и в наше время преобладает в целом односторонняя критика одной из соперничавших «школ». Наиболее критичен в отечественной науке последних лет подход к исторической школе. Это связано, во-первых, с общим скептическим настроем по отношению к так называемой «официальной» медиевистике советского периода. Во-вторых, сказывается, конечно, и воздействие того тренда западной исторической науки, который расширительно трактуется как «постмодерн»: перенос внимания с конкретно-исторических фактов на их поливариантные интерпретации, выдвижение парадоксальных по отношению к традиции, подчас взаимоисключающих подходов с принципиальным отказом от поисков научной «истины». Автор же этих строк полагает возможным приближение к реконструкции былой действительности с помощью традиционных методов исторической и филологической науки.
Довольно негативной чертой, воздействовавшей на исследование устной народной традиции и особенно ее генезиса в СССР и странах Восточной Европы, при всех значительных достижениях особенно послевоенного периода, являлось жесткое настаивание не только на «народном» характере (что не вызывает сомнений), но и на исключительно «народном» генезисе всех или почти всех памятников фольклора. Тем самым сужалось поле возможного исследования в области явно существовавшей (памятники наподобие западноевропейских эпических поэм или «Слова о полку Игореве») дружинно-аристократической устной традиции. Проблема же взаимодействия в живом бытовании фольклора разных социальных слоев, общих корней устной традиции на уровне эпохи племенного строя, выходила до последних советских десятилетий за пределы возможностей отече-
ственной науки. Заметное исключение в этой связи представляли ставшие классическими разработки В. П. Адриановой-Перетц.
Большое значение для изучения преданий и тесно связанных с ними ранних форм классического эпоса как исторических источников имели исследования в области устных исторических традиций стран Африки и Океании (труды П. Бака, Ж. Вансины13 и др.). В отечественной науке на африканском материале соответствующая тематика разрабатывалась, в частности, Е. С. Котляр.14 Была установлена немалая степень достоверности таких традиций, являвшихся фактически устной хроникой бесписьменных народов. Вместе с тем, на подобных устных преданиях в значительной степени сказывается мифологизм архаического мышления, отмечаемая подавляющим большинством исследователей специфика фольклора. Эти базовые выводы имели большое значение и для изучения раннеписьменных традиций Евразии, основывающихся на ранних фиксациях «устных хроник» того же типа. Нельзя, в то же время, не отметить, что по мере распространения традиции письменного историописания, устное предание неизбежно «вульгаризируется», превращается из официальной истории племени, общины, клана в полуанекдотическое занимательное повествование. Изменяются его и жанровые, и качественные характеристики. Соответственно с упомянутыми традициями бесписьменных народов, зафиксированными в новое время, мы должны типологически соотносить именно средневековые фиксации устных традиций, например, Северной и Восточной Европы, в том числе записи устных «хроник» древних славянских племенных общностей в славянских исторических сочинениях.
Следует еще раз отметить и следующее обстоятельство. Устное историческое предание, конечно, не является безусловно точным, равноценным письменному документу эпохи, отображением действительности. Мифологизм предания далеко не всегда следствие позднейших наслоений — ведь мифологические образы составляли для человека дописьменной, и
не только дописьменной эпохи неотъемлемую часть эмпирической реальности. Другой важный момент — осмысление фактов реальной жизни уже в реконструируемом тексте-прообразе через призму определенных мировоззренческих и религиозно-мифологических архетипов. В сказаниях и преданиях эпохи «варварства» деяния реальных персонажей племенной и родовой истории преломляются через призму исконных представлений о духах и сверхъестественных эпонимах, а теперь и о богах, сводятся к складывавшимся тысячелетиями универсальным сюжетным схемам. Но это еще не вымысел, и преломление факта, его интерпретация не есть доказательство вымышленное самого факта и тем более связанного с ним лица. Еще отметим, что для первых историописателей подобная интерпретация реальных фактов характерна и там, где они основываются на современных событию записях. Следовательно, наличие «универсальных фольклорных схем» не разрывает связи между культурным памятником и лежащим в его основе реальным фактом. Однако миф и реальность «синкретически» переплетаются, как это было на скандинавском материале показано М. И. Стеблин-Каменским.
Разрабатывается типология и жанровая структура устных традиций эпохи племенного строя. В отечественной науке ей посвящен не потерявший своего значения обобщающий очерк Б. А. Фролова в вышедшем еще в 1988 г. фундаментальном издании.16 Архаической формой являются древнейшие племенные хроники (нередко сопровождающиеся для запоминания изобразительным материалом), бытующие у североазиатских и североамериканских племен. На следующем этапе (представленном в живом бытовании, прежде всего, океанийскими и бурятскими родовыми преданиями) стержнем бытования исторической традиции становится генеалогия конкретного рода, возводимая к мифологическим персонажам. Это приводит к «расщеплению» единой истории, отказу от складывающегося погодного счета времени в пользу поколенного и т. д. По мере совершенствования
самой традиции происходит специализация ее хранения в аристократической среде. На рубеже строительства ранней государственности мы можем наблюдать смещение акцентов в пользу возвеличения появляющихся правящих династий, в том числе через прямое искажение исторических и мифологических фактов. Подтверждение целому ряду из этих положений мы можем найти и при изучении славянской раннеписьменной традиции.
Возвращаясь к памятникам славянской исторической литературы средневековья, мы можем видеть, что в них нашли отражение памятники всех трех жанров, несущих в бесписьменной среде и отчасти позднее функцию сохранения исторической памяти. Это следующие жанры:
1. Дружинно-аристократическое предание о племенной и раннего-
сударственной истории (по В. П. Адриановой-Перетц — «родовые преда-
ния («устные летописи»)» ). Памятники этого жанра представляли собой официальную историю в дописьменный период, и позднее отчасти сосуществовали с письменной историей, постепенно преобразуясь в «родовые саги» отдельных знатных фамилий. Позднее они окончательно деградируют, дав начало жанру малодостоверных и призванных удовлетворять сословную кичливость родословных преданий дворянства.
2. «Простонародные» исторические предания, собственно «фоль
клорная» (по этимологии термина) устная традиция. У В. П. Адриановой-
Перетц — «предания, связанные с памятными местами»18. Предания тако
го рода могут быть достаточно достоверны в том, что касается истории се
мьи или общины. Но предания о «большой» истории, об известных лично
стях и событиях, если они не привязаны конкретно к локусу носителя тра
диции, малодостоверны и носят полуанекдотический характер. Однако
многие события общегосударственной истории сохранились в памяти на
рода благодаря именно привязке к определенному месту, к «родному
краю». Кроме того, в «простонародной» среде могут подолгу сохраняться
остатки умершей дружинно-аристократической устной традиции.
3. Героический эпос в поэтической форме, рождающийся изначально на стыке поэтизированного исторического предания и более древней ми-фоэпической традиции. Аналогами его в живом народном бытовании являются у русских — былины, у южных славян — юнацкие песни. На ранних стадиях такие народные эпические песни могли соприкасаться и испытывать влияние дружинной поэзии. В истоках своих на уровне еще догосу-дарственном и дописьменном, при отсутствии строгой социальной стратификации, эти жанры, вероятно, тождественны. Комплекс письменных свидетельств о русском эпическом герое Александре (Алеше) Поповиче19 дает уникальную возможность проследить эволюцию былинного сюжета от памятника дружинного эпоса XIV — XV вв. Сохранившееся в ранней записи «Описание об Александре Поповиче» с известной точностью отражает исторические реалии начала XIII столетия. Но они совершенно затерялись по мере погружения былины в народную толщу, где на смену им приходили мифоэпические темы и образы. Вместе с тем, этот конкретный пример, очевидно, не должен становится основой для безусловного приятия концепции аристократического происхождения эпоса в целом. Основываясь на предании, эпос, тем не менее, не может нести функции безусловно точного сохранения в памяти потомков событий этнической истории. Сохраняя наследство древнего мифологического и мифогероического сказания, он в каждой новой фазе бытования все более удаляется от первоначального предания, а «эпическое время» постепенно исключается из общих представлений о прошлом народа и страны, из истории.
Итак, памятники первого (но отчасти и третьего) жанра представляли собой официальную историю в условиях бесписьменного общества. Они, естественно, и ложились, как правило, в основу истории письменной, появляющейся у славян, по наиболее убедительным заключениям исследователей, в течение XI века. Однако вполне ясно, что источником для оригинальных сведений по древнейшей эпохе эта традиция могла служить
лишь в пору своего живого бытования, то есть до XV в. На Балканах уничтожение этнической государственности в ходе османского завоевания привело к тотальному уничтожению местной аристократии. Оформление единых Московского и Литовского государств создали неблагоприятные условия для сохранения традиций аристократической культуры древних центров Руси, знать которых могла возводить свои родословные к временам первых Рюриковичей. Кроме того, неблагоприятные условия для живого бытования дружинного предания в традиционной форме создавало и широчайшее распространение книжной культуры, лишавшее власть потребности в устной передаче государственной истории. Об особенностях же восприятия устной славянской традиции в рамках латинской культуры западнославянских государств будет сказано далее.
Для русских летописей XVI — XVII вв. более характерно использование при пополнении информации о глубокой старине народных преданий либо былинного эпоса, то есть тех жанров фольклора, которые были зафиксированы в живом бытовании и фольклористами нового времени (упоминания богатырей Владимира I, ранние записи некоторых топонимических преданий, известных по позднейшим фольклорным записям). В свете этого нецелесообразно отделять анализ ранних фиксаций нередко тех же сюжетов в поздних летописях от записей ученых XIX — XX вв. В настоящей работе объектом рассмотрения являются те летописные памятники, которые могли использовать охарактеризованную выше «первичную» устную традицию (включая и ранние версии некоторых собственно народных преданий), то есть памятники XI — середины XV в.
Важной проблемой при исследовании исторических текстов средневековья является их «трафаретность». Естественно, что описание событий этнической истории (в случае с русской летописью) языком Библии и византийской литературы, с использованием стереотипных оборотов, в конечном счете — неоригинальность формы повествования не могла не ска-
заться в той или иной степени на сюжетной составляющей текста. Однако, как отмечается в современной литературе применительно к самой византийской историографии, «совпадение рассказов по форме с сюжетами античных историков не повлияло на достоверность изложения». Применительно к рассматриваемому здесь русскому материалу речь должна идти, конечно, не о достоверности, а о сюжетной адекватности первоисточнику (в том числе устному первоисточнику). Следует также отметить, что «трафаретность» в славяноязычной литературе резко снижалась за счет использования родного языка — в известном смысле за счет «перевода» самого «трафарета».
Формулируя и принимая изложенные общие методологические посылы, мы в то же время исходим из необходимости строгого эмпирического обоснования наших выводов. В связи с этим автор предпочел идти непосредственно от конкретных источников. Мы подвергнем отдельному рассмотрению каждый интересующий нас памятник с целью выявления путей отражения традиции именно в нем. Только это, на наш взгляд может стать основой для сколько-нибудь убедительных выводов общего характера. При этом, конечно, следует решить ряд источниковедческих, в том числе текстологических задач. Тем самым, мы выходим на уровень историко-культурных обобщений через источниковедение, через исследование конкретных источников.
При исследовании русских летописных текстов достаточно давно успешно применяется метод сплошного сопоставления текстов известных летописных памятников и установления на этой базе текстов несохранив-шихся общих протографов. При последовательном использовании эта методика, связанная в отечественной традиции с именем А. А. Шахматова, способна дать объективную картину ранних этапов русского летописания.
История изучения конкретных памятников будет освещена в соответствующих главах. Но здесь нужно дать краткий очерк историографии
общих вопросов, связанных с изучением славянских исторических трудов средневековья — в первую очередь, в связи с проблемой происхождения их данных о дописьменном периоде.
Количество общих работ, посвященных внутренней структуре, типологии древнеславянской культуры как таковой, сравнительно невелико. Следует выделить, прежде всего, труды виднейших отечественных филологов В. В. Иванова и В. Н. Топорова,21 источником для которых послужили в первую очередь явления языка. Категории древнеславянской культуры воссоздаются исследователями на основе их многообразного отражения (чаще всего через метафоры, образы, устойчивые языковые конструкции) в памятниках фольклора, литературы, собственно языка. Тем самым средствами семиотического подхода удостоверяется и сам факт такого отражения.
Значительное место уделил реконструкции различных аспектов древнерусской (и древнеславянской в целом) материальной и духовной культуры Б. А. Рыбаков.22 Будучи в целом приверженцем «истористского» подхода, исследователь развивал концепцию, согласно которой в разножанровых фольклорных сюжетах XIX — XX вв. отразилась не только мифологическая, но и устная историческая традиция, восходящая к временам праславянской древности. С другой стороны, фольклор и народное искусство становились для него источником и в реконструкции религиозно-мифологических воззрений.
Из отечественных работ по истории славянской культуры, связанных преимущественно с позднейшими этапами ее развития, следует выделить
"УХ
имеющие широкое значение труды А. М. Панченко. На обширном материале славянской словесности в его работах делаются важные выводы об общих закономерностях развития славянской литературы и культуры в целом. В частности, формулируются типологические особенности развития культурных процессов у православных южнославянских и восточносла-
вянских народов, сравнительно с народами, оказавшимися в поле воздействия средневековой латинской культуры. На еще более позднем материале XIX в. типологию русской культуры, в том числе с точки зрения взаимодействия народной и элитарной культуры, исследовал Б. Ф. Егоров.2
Опыт реконструкции исходного состояния славянской культуры на лингвистическом материале предпринимал также О. Н. Трубачев. Следу-ет отметить также исследования В. Я. Проппа и Б. Н. Путилова, посвященные, в том числе, месту фольклора в структуре культуры, а также и его взаимодействию с литературой. На материале древнерусской словесности проявление в письменной культуре элементов устной традиции исследова-
лось многократно, о чем еще пойдет речь.
Ввиду фрагментарности южнославянской средневековой исторической традиции результаты изучения ее отражены преимущественно в работах, посвященных отдельным памятникам или группам памятников. Комментированные сводные издания, наподобие известной работьі крупней-шего болгарского исследователя И. Дуйчева, в этой связи представляют особый интерес. Следует отметить сравнительно позднее (со второй половины XIX в.), в силу исторических причин, развитие исторической науки современного типа на Балканах. Общие очерки, посвященные болгарской и сербской литературам средневековья, в том числе историческим памят-
никам, содержатся в многотомных академических изданиях.
В России имеется давняя, восходящая еще к XVIII столетию, традиция изучения и использования отдельных памятников сначала сербохорватской, а затем и болгарской исторической литературы. М. Н. Тихомирову принадлежит не потерявшее научного значения издание и исследование «Именника болгарских князей». Отметим, что этому памятнику, чей анализ выходит за рамки нашего исследования, посвящена обширная отечественная и зарубежная историография. Из современных российских исследователей болгарскую «Апокрифическую летопись» привлекал в качестве
источника Г. Г. Литаврин. Над исследованием «Летописи попа Дукляни-на» работал Е. П. Наумов.
С неизбежностью и изучение происхождения ранних известий средневековых памятников сосредоточено на отдельных произведениях. При этом решается оно чаще всего в источниковедческом ключе, с точки установления достоверности свидетельств. Часто использование устных источников лишь констатируется, но не анализируется. Вместе с тем, при этом нередко делаются важные и действительно обоснованные выводы о жанровом характере используемых преданий, о тенденциях в отображении устной традиции и т. д. (например, в работе И. Иванова о богомильской литературе, где рассмотрена и «Апокрифическая летопись»).
На общем фоне резко выделяется фундаментальная монография Н. Банашевича, специально посвященная анализу преломления устной традиции в «Летописи попа Дуклянина».35 Акцентируя внимание на преимущественно, если не исключительно народном характере сохраненных «Летописью» устных преданий, Н. Банашевич, вместе с тем, создал довольно убедительную картину преломления устной традиции в конкретном письменном памятнике. Это, кстати, привело его и к важным источниковедческим выводам. Специально рассматривалась в науке эволюция сербской и хорватской устной исторической традиции, противоборство в ней разных идейных течений на материале преданий, зафиксированных Константином Багрянородным. Большое значение имела статья В. Бешевлиева об исто-рическом содержании «Апокрифической летописи». Тем не менее, комплексного исследования сведений южнославянской средневековой историографии о дописьменной эпохе, в сопоставлении с ближайшим образом родственной древнерусской традицией, до сей поры не предпринималось.
Историография древнерусского летописания берет свое начало в XVIII в. Основная заслуга исследователей того времени, среди которых особо следует выделить В. Н. Татищева и А. Л. Шлецера , в накоплении
и систематизации доступного в то время материала. В то же время нельзя не признать, что первые попытки воссоздания древних летописных текстов носили чаще всего компилятивный характер, и критическое отношение к сохранившимся летописным текстам только начинало складываться.
Окончательное оформление научно-критического, подхода к изучению древнерусского летописания связано с работой Н. М. Карамзина над текстом «Истории государства Российского».40 Карамзин поставил и в какой-то степени разрешил (для своего времени достаточно успешно) вопросы происхождения известных в начале XIX в. летописных текстов, их соотношения между собой и с несохранившимися первоисточниками-протографами. Основной ошибкой историографа в его подходе к летописям было проявляющееся довольно часто смешение списка и летописного памятника, что побуждало его при априорном доверии к древним «харатейным» спискам (таким, как Лаврентьевский) скептически относится к оригинальным известиями не только поздних летописей, но и позднейших списков древних памятников (например, Ипатьевская или Новгородская 1 (младшего извода) летописи), присутствие в которых древнего по происхождению текста не могло укрыться от непредубежденного исследователя). Эта ошибка была преодолена лишь позднейшими учеными, хотя ряд проистекших от нее необъективных суждений пережил свой первоисточник весьма надолго.
Помимо задачи реконструкции собственно истории сохранившихся летописных текстов, перед исследователями применительно к начальному летописанию неизменно вставала задача воссоздания его источников, которые, как было ясно с первых шагов источниковедческого изучения летописей, не ограничивались письменной информацией.
Исследователей XVIII в. вопросы происхождения ранних летописных известий, кажется, не очень занимали. Но уже Карамзину было ясно, что ранние известия «Повести временных лет» восходят к устным источ-
никам, что приводит к условности хронологии.41 Однако в целом в достоверности сведений раннеписьменных источников об истории дописьмен-ного периода отечественная наука прошлого века, в отличие от западноевропейских современников, не усомнилась. Это, должно быть, было связано с некоторым консерватизмом и официозностью русской историографии, благодаря этому во многом «проскочившей» фазу гиперкритицизма по отношению к древним фиксациям устных преданий.
По-настоящему они были подвергнуты сомнению лишь в ходе «нор-манистских» споров XX столетия. Впрочем, следует заметить, что Карамзин и многие ученые вслед за ним решительно отвергали достоверность позднейших добавлений (в летописях, помимо Повести временных лет), расценивая их как домыслы или, вполне в духе западной науки, как недостоверное преломление древних событий в устной традиции.
Итак, уже в XIX в. было вполне ясно, что основной объем оригинальной информации о древнейшем периоде в русском летописании восходит к устным источникам. Что касается периодически возникавшей идеи о непрерывной письменной летописной традиции уже с IX в., то она не нашла признания в науке.
А. А. Шахматов в своем труде по начальному русскому летописанию немало места уделил проблемам соотношения отразившихся в летописании устных традиций и исторической действительности. Он также поставил и достаточно удачно разрешил вопрос о жанровой принадлежности устных источников летописца. Наряду с данными, заимствованными из народных преданий, он выделил также блок сведений, восходивших к дружинной устной традиции. Последнюю он связывал с «родом Свенельда» (к которому причислял, в частности, древлянского князя Мала и воеводу До-брыню). Исследователям не удалось найти доказательств родства Свенельда с его «потомками», однако концептуально направление поиска жанрового определения источников летописи было определено верно.
Необходимо отметить, что в эпоху «норманистских» споров довольно часто проявлялась тенденция отделять сказание о происхождении Рюриковичей («норманнскую легенду») от устной «хроники» времен Игоря и Святослава не только в текстуальном отношении и по времени фиксации, что было вполне оправданно, но и в отношении жанровом, с чем сейчас сложно согласиться. Естественно при этом, что «норманнская легенда» и привлекала основное внимание специалистов, как у нас в стране, так и за рубежом.
Из зарубежных работ следует отметить труд датского исследователя А. Стендер-Петерсена «Варяжская сага как источник древнерусской летописи».43 Ученый обратил внимание на жанровую близость скандинавских саг и первоисточника русской летописи. В то же время принципиальная характеристика последнего как «варяжской саги» вызвала серьезные воз-
„44
ражения в отечественной науке, делавшей акцент на типологическом сходстве ранних форм исторического знания на Руси и в Скандинавии.
Важным итогом работы исследователей после Шахматова явилась привязка генеалогического сказания во многих работах уже не к какому-либо знатному придворному роду, а к самой династии Рюриковичей, оценка основного устного источника летописцев как официальной истории Руси дописьменного и раннеписьменного периодов. М. Н. Тихомиров говорил о двух сводах дружинных преданий, легших в основу летописного текста — «Сказании о русских князьях» и сказании о призвании варягов, зафиксированных соответственно в конце X и в первой половине XI в.45
Таким образом, нетрудно видеть, что изучение данной тематики происходило на фоне и в преимущественном контексте «норманистской» дискуссии. Вместе с тем, предания о предшествующем «призванию варягов» периоде славянской истории, отраженные в русском летописании, привлекались исследователями преимущественно в констатирующей форме, не подвергались подробному разбору. Из работ современных ученых
исключение представляли статьи В. В. Иванова и В. Н. Топорова, в которых анализировались содержащиеся в ранних славянских источниках антропонимы мифологического происхождения (имена «Кий», «Лыбедь» и др.).46 В работах Б. А. Рыбакова47 специально рассматривалось предание о Кие — в большей степени с точки зрения соответствия археологически устанавливаемым историческим фактам, чем с точки зрения эволюции предания от факта к письменной фиксации.
В последнее время в отечественной науке всесторонне анализируется как типологическое, так и возможное генетическое сходство древнерусской и германо-скандинавской устной исторической традиции, сопоставляются разные варианты отражения устной традиции в древней и средневековой литературе. Результаты этой работы нашли отражение в серии
сборников Института всеобщей истории АН СССР. Большой интерес представляет статья Е. А. Мельниковой, сопоставляющая отражение и преломление устной традиции на скандинавском («Сага об Инґлингах») и русском (Повесть временных лет) материале.49 Это направление сопоставлений представляется наиболее перспективным ввиду исторической близости германо-скандинавских и славянских племен, что должно было привести к типологически сходным явлениям в эволюции устной традиции. Известный же параллелизм общественно-политического и отчасти культурного развития Руси и Скандинавии позволяет выявить ряд общих тенденций. В то же время исследовательница совершенно справедливо обращает внимание на серьезные отличия русского памятника — среди них устранение следов языческой культуры и мифологии, рационализация попавшей в руки летописца устной традиции. В основе Повести временных лет, по мнению Е. А. Мельниковой, лежат устные предания разных типов — родовые, княжеско-дружинные, облеченные в поэтическую форму.50
В. Я. Петрухин51 исследует отражение библейских мотивов в древнейшем русском летописании, в частности их воздействие на оформление
относимых обычно к фольклору сюжетов Повести временных лет. В статье удачно демонстрируются целостность и логичность текста Повести в рассматриваемой части (нередко оспаривавшаяся в науке), даются конкретные примеры осмысления летописцем истории своего народа через призму библейской традиции, использования библейской лексики. Однако отнесение к ряду библейской образности универсального фольклорного мотива трех братьев-родоначальников вызывает определенные сомнения. Другая статья исследователя посвящена проблеме дохристианской генеалогиче-ской традиции. Ученого привлек один из аспектов этой обширной темы — именно достоверность теогонических и связанных с языческими богами генеалогических указаний в «Слове о полку Игореве». Представляется, что ограничение исследования одним источником, к тому же не историческим и не генеалогическим, и полное исключение из рассмотрения иного (не древнерусского) славянского материала здесь не слишком оправданы. Впрочем, скудость источниковой базы в данном случае очевидна, и не дает оснований для каких-либо однозначных выводов. Во всяком случае, скепсис при рассмотрении данного частного аспекта едва ли следует распространять на наличие генеалогической традиции у славян-язычников как таковое.
Исследование источников раннего летописания происходило в неразрывной связи с совершенствованием методов текстуального исследования летописей, установлением взаимосвязи сохранившихся летописных текстов. Во все времена это являлось магистральным направлением российского летописеведения.
Изучение летописных текстов, установление предыстории сохранившихся памятников продвинулось далеко уже в XIX — начале XX в. когда появился ряд значимых работ по истории русского летописания.53 Но, как справедливо отмечалось в позднейшей литературе,54 развитие летописеведения тормозилось несовершенством методики. Нельзя не заметить
еще, что попытки воссоздания несохранившихся как самостоятельные памятники «начальных» летописей древней Руси сохраняли пережитки компиляторного подхода.
Поворотное значение в деле изучения русского летописания принадлежало упомянутым выше трудам А. А. Шахматова. Будучи филологом и фольклористом, А. А. Шахматов активно использовал методы других дисциплин для работы над источниками по русской истории. Разработанная им методика анализа летописных текстов позволила воссоздать адекватную картину развития русского летописания, прежде всего истории его начальных этапов. Хотя позднее ряд исследователей, и подчас весьма справедливо, указывали на недостатки как отдельных положений схемы Шахматова, так и в целом его концепции начального русского летописания, сам метод Шахматова остается наиболее пригодным для реконструкции истории русского летописания до начала XVI в. включительно.
А. А. Шахматов не успел завершить построение единой схемы русского летописания времен Киевского государства и раздробленности. Эта задача была для своего времени решена обобщающим трудом М. Д. При-селкова.55 Он воссоздал на доступном в то время материале историю развития летописания Древней Руси в XI — XV вв. Схема Приселкова не потеряла своего научного значения по се день и наряду с базовыми выводами Шахматова лежит в основе построений большинства позднейших исследователей.
Важное значение имели труды Д. С. Лихачева56 и А. Н. Насонова,57 в которых сложившиеся представления о развитии русской летописания были во многом скорректированы. Ряд выдвинутых этих работах положений до сих пор остаются предметом научной дискуссии. Проблемам начального русского летописания уделили значительное внимание Б. А. Рыбаков,58 Л. В. Черепнин59 и М. Н. Тихомиров.60 Современные специалисты по истории летописания имеют возможность развивать и корректировать выно-
шенные в многочисленных и весьма плодотворных дискуссиях выводы ученых предшествующих поколений.
Итак, отечественными и зарубежными учеными накоплен огромный материал по разным аспектам рассматриваемой нами тематики. Сделаны важные выводы, касающиеся отдельных памятников или их этнических групп (например, древнерусских летописей). Однако существенным пробелом, на наш взгляд, является отсутствие монографического исследования, которое рассматривало бы древнеславянскую раннеисторическую традицию как целое, на материале хотя бы всей славяноязычной средневековой литературы.
Целью настоящего исследования является комплексный анализ происхождения, форм бытования, эволюции устной исторической традиции древних славян дописьменного периода и выявление особенностей восприятия этой традиции в письменной культуре средневековых славянских государств. В этом контексте решаются следующие задачи:
Охарактеризовать сводимые нами в единый комплекс памятники славянских литератур в историко-культурном отношении, а также с точки зрения состояния их изученности.
Выделить памятники, восходящие к устной традиции и по мере исследовательских возможностей определить характер этой традиции, пути ее эволюции от легшего в основу факта и легшей в основу мифологемы до письменной фиксации.
Определить место рассматриваемой традиции в структуре славянской культуры дописьменной эпохи.
Показать закономерности и особенности восприятия языческой по происхождению устной исторической традиции в христианской письменной культуре средневековья.
Выявить идейно-религиозные, социально-культурные и социально-политические причины, влияющие на особенности этого восприятия.
6. Выявить на конкретных примерах специфику отражения мифологической и исторической «реальности» в памятниках, восходящих к устному эпосу и преданию.
Предметом настоящей работы является историческая традиция славян о дописьменной эпохе, отраженная в славянской средневековой литературе, ее место и роль в структуре славянской культуры.
В качестве объекта исследования избраны славянская культура на двух стадиях своего развития — древнеславянская культура дописьменной эпохи и письменная славянская культура XI — XV вв.
Рассмотрение конкретных памятников ограничивается рамками славянских литератур. За пределы рассмотрения выходят памятники, изначально написанные на латинском языке (а не переведенные на него позднее). Здесь имеются в виду, прежде всего, исторические сочинения, созданные в XI — XV вв. в западнославянских государствах — в Польше и Чехии. Не все из них, стоит отметить, создавались славянами. Отражение славянской устной традиции в латинских сочинениях имело свою специфику, заметную особенно остро в самых первых ее образцах — хрониках Козьмы Пражского и Анонима Галла. Этот тезис будет проиллюстрирован в диссертации на конкретных примерах. Здесь же отметим такой несомненный факт, как сложившиеся уже в VI — X вв. каноны латинской «этнической» историографии, ориентированной на сознательное подражание пространным римским «историям» и на введение своей истории не просто в контекст мировой (что было присуще всем славянским историческим трудам), но именно римской. Это приводило, например, к искусственным синхронизациям и удревнениям за счет сознательного «размножения» одноименных древних правителей, к созданию разного рода мифов о контактах с античным миром. Данное явление характерно, например, для польских хроник Винцентия Кадлубка63 и Богухвала,64 для датской — Саксона
т- 65
Грамматика, но совершенно нехарактерно ни для ранних славяноязыч-
ных исторических сочинений, ни для скандинавских «королевских саг». Очевидно, в естественной языковой среде следование привнесенным канонам (будь то латинским или византийским) в меньшей степени ощущалось как необходимая потребность. Несомненно, что и сами создатели славянской письменной традиции остро ощущали ее как противоположность иноязычной — это также влияло на ее специфику.
Лишь по отчасти сходным причинам мы не рассматриваем здесь и древнейший письменный памятник болгарского исторического знания — «Именник болгарских князей (ханов)». По типу отраженного в нем мышления он представляет для нас немалый интерес и поэтому не может не привлекаться в качестве сопоставительного материала. Но, хотя и сохранившийся в рамках славянской уже литературной традиции, на славянском языке, памятник этот не только был создан изначально на греческом, но и является памятником исторической традиции не славян, а оказавшегося теснейшим образом с ними связанного тюркоязычного народа — «прото-болгар».
С другой стороны, к рассмотрению привлекаются изначально славяноязычные памятники, сохраненные латинским переводом или переложением. Таких памятников всего два — «Книга Готская», легшая в основу так называемой «Летописи попа Дуклянина», и русская летопись, использовавшаяся польским историком Яном Длугошем. Особенно важна «Летопись попа Дуклянина» как единственный заслуживающий в этой связи подробного анализа памятник средневековой сербской (точнее, дуклян-ской) литературы. Естественно, что эти памятники в своей сохранившейся форме несут отпечаток и латинской литературной традиции, что в каждом конкретном случае будет проанализировано.
За пределами рассмотрения, с другой стороны, остается относящаяся к XIV в. «Чешская рифмованная хроника» Далимила66 — первое историческое сочинение на чешском языке. Тесная связь труда Далимила с народ-
ной, фольклорной традицией не вызывает сомнений. Вместе с тем, было нерационально рассматривать его «Хронику» в отрыве от предшествующих и синхронных памятников чешской (латиноязычной) исторической мысли. В конечном счете, в основе труда Далимила лежит «Хроника» Козьмы Пражского — хотя нельзя не отметить, что материалом славянских преданий Далимил оперирует гораздо свободнее, чем Козьма. Это, помимо прочего, подтверждает вывод о большом воздействии языкового лица памятника на характер восприятия им устной народной традиции.
За рамки специального рассмотрения выходят (хотя в процессе его привлекаются) данные нелетописных памятников русского происхождения
прежде всего, жанра светского («дружинного», «воинского») эпоса. Сам факт существования этого жанра имеет важное значение для темы нашего исследования. Однако памятников, непосредственно посвященных «дого-сударственному» периоду, в нем не сохранилось — о них можно лишь догадываться по историческим сочинениям. Функционирование сохранившегося из средневековых славянских литератур лишь в древнерусской жанра светского эпоса заслуживает отдельного большого исследования. Мы не анализируем также многочисленные русские летописные сочинения XVI
XVIII вв. Они явились итогом уже длительного развития летописной традиции. Их оригинальные сведения, заимствованные из фольклора, — след вторичного восприятия последнего. И речь в этом случае идет уже не об архаическом фольклоре эпохи раннего средневековья, а о фольклоре, длительное время сосуществующем с письменной культурой в рамках христианского социума.
Наконец, мы выводим за пределы рассмотрения обширную проблему фальсификаций древних памятников. В то же время не без сожаления следует отметить, что эта проблема (в связи с т. н. «Влесовой книгой» и другими подобными сочинениями) в последнее время приобрела не только уз-
ко научную, но и религиозно-политическую, и общекультурную актуаль-
ность.
Хронологические рамки исследуемых письменных памятников — XI — XV вв. Верхняя граница обоснована нами выше. Нижняя граница определяется временем создания древнейших сохранившихся исторических сочинений на славянских языках, описывающих события «догосударствен-ной» эпохи. Это болгарская «Апокрифическая летопись» и русский Начальный летописный свод.
Сложнее четко определить верхнюю хронологическую границу исследуемых сюжетов в рассматриваемых памятниках. Очевидно, что конкретным объектом нашего рассмотрения должны быть сведения о событиях, произошедших до возникновения средневековой государственности, до принятия христианства и до появления славянской письменности. Именно сведения об этой эпохе у славянских историков средневековья должны были основываться, за вычетом иностранных источников, исключительно на устной исторической традиции самих славянских племен. Заметим, что иностранные авторы, за единственным и неизвестным в славянском мире исключением Константина Багрянородного, не давали сколько-нибудь полной и последовательной картины истории древних славян.
Появление славянской письменности традиционно относится к IX в. (хотя ханы тюрко-славянской Болгарии использовали до того для официального летописания греческий язык). К IX же веку относится принятие христианства молодыми славянскими государствами — Моравией, Болгарией, Сербией, Хорватией, начало христианизации Руси. В сознании самого славянского общества дописьменный период воспринимался как равнозначный дохристианскому.
Об этом четко свидетельствуют слова аполога славянской письменности болгарского черноризца Храбра: «Прежде убо словене не имеху книгъ, ну чрьтами и резами чьтеху и гатааху, погани суще».68 «Черты и ре-
зы», что важно отметить, не являлись в глазах Храбра собственно алфавитом, передачей речи. Как «неустроенное» письмо он далее характеризует запись славянских слов греческим и латинским алфавитами. «Черты и ре-зы» при этом представляются Храбру еще более примитивной формой передачи информации, рисуночно-знаковым «протописьмом». Таковое известно в разных формах практически всем первобытным народам. Было бы скорее странно, если бы его не было у славян. Его существование само по себе не имеет отношения к проблеме так называемой «докириллической» письменности. В литературе высказывались мнения как о славянском, так и о «протоболгарском» характере упомянутых Храбром «черт и рез».69
В историко-культурном плане известие Храбра важно еще и тем, что демонстрирует четкую грань — в глазах уже самого древнего славянина — между дописьменным, языческим, периодом в истории его народа, и периодом письменным, христианским. Соответственно, само собой разумелось, что писатель, взявшийся за повествование об истории языческой поры, должен опираться на устные повествования. Именно такое обращение к преданию и заявлено как предмет нашего исследования.
Формирование названных славянских государств протекало во многом параллельно процессу усвоения христианства и христианской культуры, — а главное, в тесной взаимосвязи с этим процессом. Дохристианский период в Болгарии или, скажем, на Руси, не тождественен догосударствен-ному. Но принятие христианства способствовало превращению Болгарии в собственно славянское государство (что убедительно показано в работах Г. Г. Литаврина ). На Руси же заметные вехи государствообразования (реформы Ольги, Владимира) являлись и вехами введения новой религии.
С учетом всего вышесказанного, а также в интересах хронологической унификации (что позволит более продуктивно сопоставлять полученный из разных этнических литератур материал), мы избрали во многом условный хронологический рубеж — рубеж VIII/IX вв. Таким образом, сю-
жеты, отражающие процесс государственного образования в IX в. и введение христианства, глубокую ломку устоев архаического общества, в основном, не затрагиваются в настоящей работе. Кроме того, принципиально исключается (в том числе и для Болгарии, что будет обосновано) использование иных местных комплексов источников, кроме устной традиции. С общеисторических позиций такой подход представляется оправданным. Для славян с IX в. наступает время оформления отдельных государств, ставших основой национальной государственности позднего средневековья и нового времени. Таким образом, период «племенного строя», «варварства», породивший исследуемую нами устную традицию — и одновременно эпоха общеславянского культурного единства — подходит к концу. Следовательно, предлагаемая верхняя граница является рубежной не только с точки зрения истории социально-политической, но и истории культурной, и как следствие — с точки зрения обеспеченности славянской истории письменными источниками местного происхождения. Вместе с тем не исключено, что в ряде случаев мы вынужденно выйдем за ее пределы. Это связано с отсутствием прочных хронологических ориентиров для недатированных свидетельств русских летописей, а также «Летописи попа Дуклянина».
Нами будут рассмотрены поочередно следующие основные источники по интересующей нас теме (библиографические и археографические сведения будут приведены в соответствующих главах):
Болгарская «Апокрифическая летопись» («Сказание Исайи пророка»), создание которой относится, вероятно, ко второй половине XI в.
Болгарские заметки летописного характера при переводной «Хронике» («Летописи») византийского автора Константина Манассии. Создание перевода и заметок датируется началом 40-х гг. XIV в.
Памятник югославянского происхождения, известный в науке как «Летопись попа Дуклянина» или «Барский родослов», а в оригинале на-
званный «Королевство славян». Памятник сохранился в единственном латинском списке XVII в. и в более раннем хорватском переводе. Латинский текст определен своим создателем как перевод славяноязычной «Книги Готской» и излагает историю Дукли и сопредельных земель до середины XII в. Датировка и атрибуция «Летописи» являются предметом долгой научной дискуссии.
Древнерусский «Начальный летописный свод» второй половины XI века. Непосредственно отразился в новгородских летописных сводах, послуживших источником сохранившегося летописного памятника XV в. — Новгородской первой летописи младшего извода. Возможно, что часть текста Начального свода восходит к предшествовавшему ему Древнейшему своду конца X или первой половины XI в.
«Повесть временных лет», созданная в начале 10-х гг. XII в. и сохранившаяся в двух редакциях. Из них одна создана в 1116 г. игуменом Сильвестром и дошла в составе Лаврентьевской и Радзивиловской летописей, восходящих к Владимирскому летописному своду конца XII или начала XIII в. При этом Лаврентьевская летопись восходит к общему протографу (Свод 1305 г.) с известной Н. М. Карамзину несохранившейся Троицкой летописью. Другая редакция Повести временных лет дошла в составе сохранившихся Летописца Переяславля Суздальского и Ипатьевской летописи. Различные редакции Повести временных лет отразились, вероятно, в летописях «Софийско-Новгородской» группы начала XV в.
Новгородский свод 1167 г., отраженный Новгородской 1 летописью младшего извода, содержал, вероятно, первоначальную редакцию сохраненного ею списка посадников Новгорода, — наиболее ранний источник, содержащий имя Гостомысла, полулегендарного вождя ильменских словен.
Другой новгородский летописный памятник эпохи раздробленности, легший в основу так называемого Софийско-Новгородского свода
первой половины XV в. Интересующий нас текст новгородской редакции вводной части Повести временных лет отразился в Софийской первой, Новгородской четвертой летописях, близкой к ним Новгородско-Карамзинской, а также отчасти наряду с другими источниками — в Рогожском летописце.
8. Киевская летопись 1230-х гг., предположительно отразившаяся в основном массиве «русских» известий польского хрониста XV в. Яна Длу-гоша. Судя по его тексту, летопись восходила к третьей редакции Повести временных лет, но возможно, носила характер контаминации с Начальным сводом и некоторыми преданиями, ранее не фиксировавшимися.
Необходимо перечислить и другие источники наших сведений по ранней истории славянских племен, привлекаемые в настоящей работе. Некоторые ценные сведения имеются в позднейших русских летописных памятниках — например, в Устюжском летописном своде XVI в., предположительно использующем более древнюю Смоленскую летопись. Другие русские и украинские авторы XVI — XVII вв. фиксировали устные предания своего времени о древнейшей поре восточнославянской истории. Эти записи не всегда точны и исторически далеко не безусловно достоверны, но сообщаемая ими информация также может быть привлечена к исследованию. Благоприятные условия для записей местных устных преданий именно на Руси были во многом обусловлены полицентричностью русского летописания, непосредственно переросшего в XVIII — XIX вв. в раннее краеведение.
Непрерывность политической традиции в Чешском княжестве (королевстве) с VII в. обусловила неплохую сохранность здесь древнейших исторических преданий. Эти предания в Чехии более, чем где-либо, играли роль официальной истории и потому сразу же отразились у средневековых хронистов — в первую очередь, у Козьмы Пражского (1 четверть XII в.) и Далимила (начало XIV в.). Вместе с тем, как уже говорилось, на адекват-
ности восприятия устного предания в литературе Чешского средневекового государства влияли шаблоны латинской исторической науки.
Польская историография сперва не выходит вглубь веков за пределы IX столетия, когда началось правление династии Пястов. Только с рубежа ХП/ХШ вв. на страницах польских хроник появляются предания о более древней поре, что было связано со стремлением максимально удревнить существование Польского государства. За написанной в это время хроникой Винцентия Кадлубка в конце XIII в. последовали Богухвал и другие авторы. Применение древнейших по описываемым временам разделов польских хроник как исторических источников затрудняется упомянутым стремлением к «удревнению» истории. Оно выражалось, в частности, в разделении легендарных польских «королей» на нескольких одноименных персонажей — явление, известное, как уже говорилось, и в Скандинавии. Другая трудность связана с соперничеством Великой и Малой Польши, вызывающим переносы хронистами «королевских» резиденций древнейших времен из великопольских Гнезна и Крушвицы в малопольский Краков и обратно.
Хронист XV в. Ян Длугош в своем монументальном труде обобщил данные предшествующих польских историков, пополнив их информацией из устных преданий. Кроме того, он включил в свою хронику пересказ не-сохранившейся до нашего времени древнерусской летописи с некоторыми оригинальными сведениями о предыстории Руси, о которой было сказано выше. Соответствующий раздел труда Длугоша станет предметом нашего специального рассмотрения. Что касается позднейших польских историков Польско-Литовского государства XVI — XVII вв. в., то они редко использовали для расширения информации о древности фольклорный материал. В «польской» (не в «литовской») части своих трудов они в основном повторяют с некоторой авторской обработкой труд Длугоша.
Сведения поздних русских летописцев, польских и чешских хрони-
стов, использовавших фольклорную традицию, напрямую смыкаются с устными историческими преданиями, записывавшимися в XVIII — XX вв. Нередко фольклористы нового времени записывали те же сюжеты, что и авторы позднего средневековья. Количество преданий, восходящих к славянской древности до IX в., сравнительно невелико, но таковые все же имеются и могут использоваться исследователем в качестве вспомогательного материала. Надо, однако, иметь в виду, что с увеличением временной дистанции фактическая достоверность фольклорного произведения снижается. Что касается «неисторических» жанров фольклора, то некоторые из них весьма архаичны и могут использоваться как источник по культурной и социальной истории древних славян.
Иностранные письменные источники, современные описываемым событиям, остаются наиболее достоверным материалом для воссоздания праистории восточных славян (если говорить именно о письменных источниках). К числу источников, синхронных событиям либо пользующихся несохранившимися записями очевидцев, относятся византийские,71 восточные,72 значительная часть западноевропейских.73 Вместе с тем следует иметь в виду специфику нашей темы исследования. Для древнейших исторических преданий восточных славян, например, довольно трудно находить параллели в иностранных письменных источниках — и с точки зрения отражаемых фактов, и с точки зрения выявления более ранних стадий бытования традиции. Иначе, конечно, обстоит дело с южными славянами. Их ранняя история неплохо представлена, прежде всего, в византийских источниках VII — начала IX в. («Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора и др.).
Особенно ценны те случаи, когда иноэтничный автор отмечает параллельный или более ранний этап функционирования изучаемого предания. Так, далматинский хронист XIII в. Фома Сплитский74 сообщает о первом появлении славян в Далмации. Его известия основаны и на городском
сплитском, и на славянском предании. Они, более того, могут быть сопоставлены с более древней (середина X в.) информацией Константина Багрянородного. Ученый император оперировал в своем трактате «Об управлении Империей» как письменными, так и устными источниками о потере Далмации. При этом он использовал предания как далматинского, так и славянского происхождения, причем в нескольких вариантах.
Как минимум один случай, когда иностранный автор сохраняет для нас более раннюю стадию бытования позднее отраженной славянскими письменной традиции, дает и восточнославянская история. Известнейший арабский историк и географ, «арабский Геродот» X в. ал-Масуди передает восточнославянское предание о происхождении славянских племен, не имеющее прямых аналогов в русских летописях. Его полезно сопоставить с данными «Повести временных лет».
В то же время другая часть иноязычных источников (в первую очередь североевропейские75) основана на устных традициях сопредельных со славянами народов (прежде всего, скандинавов) и в этом смысле мало отличается от ранних разделов древнерусского летописания, основанного в этой части на аналогичных традициях восточных славян. Надо отметить, что и скандинавские источники могут сохранять фрагменты устной традиции восточнославянских племен, подчас не отраженной ни летописями, ни позднейшими записями. «Деяния данов» Саксона Грамматика передают (в искаженной форме) русское сказание о «короле» Бое, находящее параллель в записях устных преданий с территории Белоруссии XIX века и восходящее, вероятно, к племенной мифологии славян-кривичей. Появление этого сказания в датской хронике объясняется родовыми связями между датской династией Кнютлингов и правившими в Полоцке Всеславичами.
Во многом отрывочную картину, создаваемую всеми видами письменных и устных источников, позволяют наполнить содержанием и во многом скорректировать данные «исторической антропологии». Большой
массив данных археологии, языкознания, физической антропологии дополняется результатами исследований в области этнографии, социальной и хозяйственной типологии, сравнительной мифологии. За прошедшие десятилетия издан (либо издается) ряд обобщающих работ, в которых сводился воедино материал, предоставляемый в распоряжение современного исследователя славянской истории археологией76 и языкознанием.77 В то же время материальные источники, играющие огромную роль для воссоздания этнической, социальной, отчасти политической истории древнеславян-ских племен, пока предоставляют лишь ограниченную информацию по духовной культуре. Что касается данных этнографии, то зафиксированные в XIX — XX вв. этнографические реалии отражают, разумеется, позднейшую историческую реальность. При исследовании древнеславянской культуры их допустимо привлекать лишь в сопоставлении с материалами археологии и языкознания.
Научная новизна данного исследования состоит, прежде всего, в следующем — комплексный анализ преломления устной традиции в письменную на материале южнославянской и восточнославянской средневековой исторической литературы предпринимается впервые. При этом выявляются структурные черты, пути развития и адаптации христианской культурой устного предания, устанавливаются характерные черты самой древнеславянской устной исторической традиции. Кроме того, в рамках данной работы создается первый комментированный свод сведений средневековой славянской исторической литературы о ранней истории славян. Создание такого свода, в случае удачности опыта, имело бы и историко-культурное, и источниковедческое значение. В рамках работы предлагаются авторские переводы фрагментов из памятников средневековой латинской историографии — первых глав «Летописи попа Дуклянина» (профессиональный перевод которой на русский язык отсутствует) и «русского» фрагмента «Хроники» Яна Длугоша. Кроме того, в работе предлагаются решения ряда
вопросов, связанных с текстологией и атрибуцией памятников славянской средневековой исторической литературы. В том числе, представлена авторская схема развития текста «Повести временных лет», происхождения Летописи попа Дуклянина, русского Начального летописного свода.
В статьях автора данной работы, выходивших с 1994 г., анализировались типология первоисточников славянской средневековой историографии, рассматривались вопросы соотношения преданий, отразившихся в летописях, дружинного и народного. Источниковедческий аспект темы получил развитие, в том числе, в комментированном издании древнерусского Начального свода по Новгородской 1 летописи в переводе автора.78
Первое монографическое исследование автора было посвящено проблематике древнеславянской религии и процессам христианизации.79 Результаты исследований в области древнеславянской культуры использованы при написании монографии, посвященной истории славян в раннее средневековье.80 Здесь отражены в том числе выводы автора об эволюции рассматриваемой нами устной традиции. Материалы исследований отразились в ряде выступлений на научных конференциях и «круглых столах», активно используются автором в преподавательской работе по курсам «История», «История религии».
Результаты исследования, соответственно, могут найти практическое применение при разработке лекционных курсов, подготовке учебных и учебно-методических пособий. Произведенное в процессе исследования создание свода данных местного происхождения о древнейшей истории славян может стать хорошей базой для последующих общеисторических, историко-культурных и источниковедческих трудов. Автор выражает надежду, что данная работа явится его посильным вкладом в поступательное развитие отечественной науки, традиционно уделяющей немалое внимание проблемам догосударственного периода истории славян, в том числе и в контексте переосмысления накопленного материала.
Настоящая работа состоит из двух разделов. Первый раздел посвя
щен немногочисленным памятникам южнославянской средневековой ис
ториографии XI — XIV вв. Рассматриваются древнейшие по описываемым
событиям части уникальных памятников болгарской исторической тради
ции — «Апокрифической летописи» («Сказания Исайи пророка») и лето
писных заметок при переводе византийской хроники Константина Манас-
сии. Завершает раздел глава об уникальном образце югославянской сред
невековой историографии — т. н. «Летописи попа Дуклянина» («Барский
родослов», в оригинале — «Королевство славян» или «Книга Готская»).
Это сочинение, являющееся, по собственным показаниям, переводом со
славянского языка, наиболее значительный и подробный памятник средне
вековой южнославянской исторической книжности, представляет особый
интерес именно для рассматриваемой нами темы. !
Второй раздел посвящен преимущественно анализу древнейших частей памятников киевского летописания времен единого государства и начала политической раздробленности (XI — начало XII в.). Рассматриваются известия по интересующему периоду Начального свода и «Повести временных лет». Уделено внимание и памятникам эпохи феодальной раздробленности начиная с XII в., прежде всего, преданиям, отраженным в Новгородской первой летописи младшего извода и летописях «Софийско-Новгородской» группы. Наконец, завершается раздел рассмотрением сведений текста, сохранившегося также только в латинском переложении — гипотетической русской летописи, послужившей непосредственным источником для польского хрониста Я. Длугоша.
В Заключении подводятся итоги работы автора и формулируются его основные выводы о ходе эволюции исторического сознания у славян при переходе от бесписьменной к письменной культуре, от первобытности к христианской цивилизации. Автор постарается продемонстрировать те общие и особенные черты, которые проявились у разных славянских наро-
(
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
дов, в разных славяноязычных литературах средневековья при осмыслении фактов древнейшей славянской истории, вскрыть религиозные, социокультурные, идеологические механизмы такого осмысления древней устной традиции. Автор надеется, что эта работа внесет свой вклад в определение значимости той информации о ранней славянской истории, которая содержится в славянских повествовательных источниках.
1 v
SafarikP. Slovanske starozitnosti. Praha, 1837; Славянские древности. В 3-х тт. М., 1837-1848.
2 Niderle L. Slovanske starozitnosti. Praha, 1902 - 1906; Нидерле Л. Славян
ские древности. М., 1956 (переизд. — М., 2001).
3 Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах.
СПб., 1908; Шахматов А. А. «Повесть временных лет». СПб., 1916; Шах
матов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV — XVI вв. М. —
Л., 1938.
4 Heusler A. Die gelehrte Uhrgeschichte in altislandischen Schriftum. Berlin,
1908; Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах.
5 Блок М. Апология истории. М., 1986; Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
6 Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения// Источникове
дение: теоретические и методологические проблемы. М., 1969; Шмидт С.
О. О классификации исторических источников// Вспомогательные истори
ческие дисциплины. Т. XVI. Л., 1985.
*7
Oral history of Middle Ages. The spoken word in context. Krems — Budapest, 2001.
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.
9 Пропп В. Я. Русский героический эпос. Л., 1955.
10 Рыбаков Б. А. Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1973.
11 Скафтымов А. П. Поэтика и генезис былин. М. — Саратов, 1924; Азбе-
лев С. Н. Историзм былин и специфика фольклора. Л., 1982.
Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974.
1 "\
Buck P. Vikings of the Sunrise. New Sealand, 1938; Vansina J. Introduction a Fetnographie du Congo. Kinshasa, 1966; Vansina J. Oral Tradition as History. Wisconsin, 1985.
14 Котляр E. С. Эпос народов Африки южнее Сахары. М., 1985.
15 Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. М., 1981.
16 История первобытного общества. Вып. 3. М., 1988. С. 359 —363.
Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. С. 30.
18 Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. С. 30.
19 Лихачев Д. С. Летописные свидетельства об Александре Поповиче//
Труды отдела древнерусской литературы. Т. 7. Л., 1949.
Бибиков М. В. Византийская историческая проза. М., 1996. С. 154. 21 Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965; Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М.. 1974; Топоров В. Н. Предыстория литературы у славян. М., 1998.
Рыбаков Б. А. Древняя Русь...; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1980; Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII — XIII вв. М, 1982.
Панченко А. М. Чешско-русские литературные связи XVII в. Л., 1969; Панченко А. М. Русская культура в канун Петровских преобразований. Л., 1983; Панченко А. М. О русской истории и культуре. СПб., 2000. 24 Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х гг. Л., 1991; Егоров Б. Ф. О материальной культуре и народной нравственности.// Знамя. 1995. № 8; Егоров Б. Ф. Очерки по русской культуре XIX в.// Из истории русской культуры. Т. 5. М., 2000.
Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. М., 1991.
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки; Пропп В. Я. Рус-
ский героический эпос.
27 Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. СПб., 1994.
28 Приселков М. Д. История русского летописания XI — XV вв. Л., 1940;
Лихачев Д. С. «Повесть временных лет»// Повесть временных лет. Ч. 2. М.
— Л., 1950; Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия IX — XIV вв.
М., 1978; Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном про
цессе средневековья XI — XIII вв. М., 1980; Петрухин В. Я. Древняя Русь.
Народ. Князья. Религия.// Из истории русской культуры. Т. 1. М., 2000.
Дуйчев И. Из старата българска книжнина. Т. 1 — 2. София, 1943. — 1944.
30 История на българската литература. Т. 1. София, 1963; БогдановиЬ Д. Стара српска кіьижевност (Исторщ'а српске кіьижевности. Т. I.). Београд, 1991; Очерки истории культуры славян. Т. 1. М., 1996; История литератур южных и западных славян. Т. 1. М., 1997.
У |
Тихомиров М. Н. Именник болгарских ханов// Тихомиров М. Н. Исторические связи России с Византией и слаянскими странами. М., 1969.
Литаврин Г. Г. Формирование и развитие Болгарского раннефеодального государства (конец VII — начало XI в.).// Литаврин Г. Г. Византия и славяне. СПб., 2001.
Наумов Е.П. Этнические представления на Балканах в эпоху раннего средневековья (по материалам «Летописи попа Дуклянина») // Советская этнография. 1985, № 1. 34 Иванов Й. Богомилски книги и легенди. София, 1925.
БанашевиЬ Н. Летопис попа Дуюъанина и народна преданна. Београд, 1971.
36 Острогорски Г. Порфирогенитова хроника српских владара и ньени хро-нолошки подаци// Сабрана дела. Београд, 1970. Кн. 4. С. 79 — 86.
Бешевлиев В. Начал ото на българската държава според апокрифен лето-
пис от XI в.// Средневековна България и Черноморието. София, 1982.
38 Татищев В. Н. История Российская. Т. 1,4. М., 1994.
39 Шлецер А. Нестор. Т. 1 — 3. СПб., 1809—1819.
40 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 1. М., 1988.
41 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 1. М., 1988. С. 31
— 32.
42 Шахматов А. А. Разыскания... Спб., 1908.
43 Stender-Petersen A. Die Varagersaga als Quelle der altrussischen Chronik.
Aarhus, 1934.
44 Рыдзевская E. А. Древняя Русь и Скандинавия. С. 233 — 236.
45 Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 62 — 66.
46 Иванов В. В., Топоров В. Н. Мифологические географические названия
как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории сла
вян// Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных ро-
манцев. М., 1976; Иванов В. В. Язык как источник при этногенетических
исследованиях// Там же; Славянская мифология. Энциклопедический сло
варь. М., 1995.
47 Рыбаков Б. А. Город Кия.// Вопросы истории, № 5, 1980; Рыбаков Б. А.
Киевская Русь и русские княжества. С. 90 — 107.
48 Восточная Европа в древности и средневековье. Историческая память и
формы ее воплощения. М., 2000; Древнейшие государства Восточной Ев
ропы. 2001 год. Историческая память и способы ее воплощения. М., 2003;
Древнейшие государства Восточной Европы. 2002 год. Генеалогия как
форма исторической памяти. М., 2004.
49 Мельникова Е. А. Историческая память в устной и письменной традици
ях (Повесть временных лет и «Сага об Инглингах»).// Древнейшие госу
дарства Восточной Европы. 2001. С. 48 — 92.
50 Мельникова Е. А. Устная традиция в Повести временных лет: к вопросу
о типах устных преданий.// Восточная Европа в исторической ретроспективе. М., 1999. С. 153 — 165.
51 Петрухин В. Я. История славян и Руси в контексте библейской тради
ции: миф и история в Повести временных лет.// Древнейшие государства
Восточной Европы. 2001. С. 93 — 112.
52 Петрухин В. Я. «Дохристианские» генеалогии: «Слово о полку Игореве»
и древнерусская традиция.// Древнейшие государства Восточной Европы.
2002. С. 160—174.
Перевощиков В. М. О русских летописях и летописателях по 1240 год// Материалы по истории росссийской словесности. СПб., 1836; Срезневский И. С. Чтения о древнерусских летописях. СПб., 1862; Бестужев-Рюмин К. Н. О стоставе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868; Иконников В. И. Опыт русской историографии. Кн. 1. Киев, 1908.
54 Лурье Я. С. Михаил Дмитриевич Приселков и вопросы изучения русско
го летописания// Отечественная история, 1995. № 1, С. 156.
55 Приселков М. Д. История русского летописания.
56 Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение.
М. — Л., 1947; Лихачев Д. С. Повесть временных лет.
57 Насонов А. Н. История русского летописания XI — начала XVIII в. М.,
1969.
f о
Рыбаков Б. А. Древняя Русь; Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества.
59 Черепнин Л. В. «Повесть временных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды// Исторические записки. Т. 25. М., 1948.
Тихомиров М. Н. Развитие исторических знаний в Киевской Руси, феодально-раздробленной Руси и Российском централизованном государстве// Очерки истории исторической науки в СССР. Вып. 1. М., 1955; Тихомиров М. Н. Русское летописание.
Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962.
62 Аноним Галл. Хроника и деяния князей или правителей польских. М.,
1961 (то же в кн.: Славянские хроники. СПб., 1996).
63 Mistrz Wincenty. Kronika polski. Warszawa, 1992.
64 Великая хроника о Польше, Руси и их соседях. М., 1987.
65 Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Havniae, 1837.
66 Staroceska kronika tak recenoho Dalimila. Praha, 1988.
Соболев H. А. Проблемы изданий-фальсификатов.// Что думают ученые о «Велесовой книге». СПб., 2004; Алексеев С. В., Королев А. А. Новые религиозные движения. М., 2004. С. 91 — 92.
68 Куев К. Черноризец Храбр. София, 1967. С. 188, 211.
69 Георгиев Е. Разцветът на българската литература в IX — X вв. София,
1962. С. 14 —15.
70 Литаврин Г. Г. Византия и славяне. СПб., 2001. С. 237 — 348.
Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 — 2. М., 1991
— 1995; Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хроно-
графия» Феофана, «Бревиарий» Никифора. М., 1980; Константин Багряно
родный. Об управлении Империей. М., 1989; Продолжатель Феофана.
СПб., 1992. См.: Бибиков М. ВВ. Byzantinorossica. Свод византийских сви
детельств о Руси. I. М., 2004.
7?
Свод древнейших письменных известий о славянах; Гаркави А. Я. Известия мусульманских писателей о славянах и русах. СПб., 1870; Армянская география VII в. СПб., 1878; Заходер Б. Н. Каспийский свод. М., 1964
— 1967; Новосельцев А. П. Восточные источники о славянах и Руси VI —
IX вв.// Древнерусское государство и его международное значение. М.,
1965; Еремян С. Т. Армения по «Ашхарацуйцу» («Армянской географии»
VII в.). Ереван, 1963.
Свод древнейших письменных известий о славянах; Свердлов М. В. Ла-
тиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия. Вып. 1 — 2. Л., 1989 — 1990; Назаренко А. В. Немецкие латиноязычные источники IX
— XI вв. М., 1992.
74 Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. М., 1997.
Saxo Grammaticus; Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения. М., 1989; Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Вып. 1 — 3. М., 1993 — 2000; Глазырина Г. В. Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996.
76 Кухаренко Ю. В. Археология Польши. М., 1969; Федоров Г. Б., Полевой Л. Л. Археология Румынии. М., 1973; Седов В. В. Восточные славяне в VI
— XIII вв. М., 1982; Древняя Русь: город, замок, село. Отв. ред. Б. А. Кол-
чин. М., 1985 (Археология СССР); Седов В. В. Славяне в раннее средневе
ковье. М., 1995; Древняя Русь: быт и культура. Отв. ред. Б. А. Колчин, Т.
И. Макарова. М., 1997 (Археология); Седов В. В. Славяне. М., 2003.
Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962; Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1 — 4. Пер. с нем. и дополнения О. Н. Трубачева М., 1996 (3-е изд.); Бирнбаум X. Праславянский язык. М., 1987; Этимологический словарь славянских языков. Т. 1 — 30. М., 1974 — 2004 (продолжающееся издание); Языки мира. Славянские языки. М., 2005. 78 Начальная летопись. М., 1999.
Алексеев С. В. Древние верования восточных славян. М., 1996. 80 Алексеев С. В. История славян в V — VIII вв. Т. 1 — 2. М., 2002 — 2004.
Сказание исаие пророка («болгарская апокрифическая летопись»)
Под названием «Болгарская апокрифическая летопись» в науку вошел текст, названный в оригинале «Сказание Исайе пророка, како възне-сень бысть аггломъ до 7-го небесы». Он сохранился в единственном, сербском списке — в рукописном сборнике Преображенского монастыря в Москве (рукопись № 123 из собрания А. Ф. Гильфердинга).
Рукопись, введенная в научный оборот во второй половине XIX в., впервые была опубликована сербским ученым Л. Стояновичем. Л. Стоя-нович провел лишь первичный анализ содержания, без особого труда придя к выводу о болгарском происхождении памятника. В этом не оставляла сомнений глубокая укорененность его содержания в болгарской истории и практическое отсутствие сербской сюжетики. Не вызывала сомнений также принадлежность сочинения к обширному кругу балканской апокрифической литературы, центром распространения которой в средние века являлась в славянском мире опять же Болгария. Стоянович первым дал памятнику название («т. н. Болгарская летопись»).
Первое подробное исследование памятника принадлежали чешскому слависту К. Иречеку. В центре его внимания находились библейско-апокрифический, «внешний», и конкретно-исторический составные элементы географической номенклатуры памятника. Выводы К. Иречека имели значение и для постановки вопроса о значении сочинения как исторического источника, и для анализа его соотношения с устной традицией (прежде всего, с топонимическими преданиями). Важнейший вывод, к которому пришел К. Иречек в своей работе, тем не менее, не имел прямого отношения к ее непосредственной теме. Но это положение не было поставлено под сомнение позднейшими исследователями и совершенно справедливо утвердилось в науке — «Болгарское видение Исайи пророка» является одним из немногих сохранившихся подлинных памятников болгарской бого мильской ереси. Уникальность памятника усиливается тем, что здесь мы единственный раз имеем дело с богомильской историографией.
Подробное исследование памятника, не потерявшее значение до сего дня, предпринял крупнейший болгарский историк И. Иванов. Именно ему принадлежит утвердившееся название памятника — «Болгарская апокри-фическая летопись». В тексте сочинения И. Иванов выделил две составные части — «апокалиптическую» и «летописную». Рубежом между ним он считал исчезновение пророка Исайи в качестве действующего лица и описание поселения болгар в Добрудже.10 Впрочем, в этой связи нельзя не отметить, что, как увидим далее, «историческая», «летописная» часть связана с «апокалиптической» довольно искусным переходом, и механическое де-ление текста едва ли возможно — что, конечно, признавал и сам И. Иванов. Тема болгарской истории вводится, по его членению, еще в конце «апокалиптической» части.
В соответствие с общей темой своей работы «Богомильские книги и легенды», И. Иванов основное внимание уделил религиозному содержанию памятника, его идейным тенденциям и литературному происхождению. Он развил гипотезу К. Иречека о богомильском происхождении «летописи», превратив ее, по сути, в уверенность. Иванов обосновал наличие в «летописи» конкретных признаков богомильской идеологии.
Так, бросается в глаза негативное отношение «летописца» к браку — наиболее «положительные» цари у него никогда не описываются ни как супруги, ни даже как рожденные в браке и имеющие обоих родителей дети. Автор иногда призывает на службу в этой связи даже языческие тотемные представления (царя «Испора» — хана Аспаруха три года вынашивает корова). Известный «пацифизм» богомилов отразился, по мнению И. Иванова, в заметном избегании сообщений о войнах (особенно с Византией). Памятник приписан Исайе — библейскому пророку, имя которого нередко использовалось в богомильской среде. Болгария, в IX — XII вв. сердце бо гомильства, представлена «обетованной страной» и подспудно противопоставлена той же Византии. Наконец, в памятнике отражается богомильская космология — концепция семи небес, отделяющих материальный мир от Бога.11
Проанализировав и болгарский апокриф «Видение Исайи» (также содержащий некоторые исторические добавления), с которым сближал «летопись» К. Иречек, И. Иванов пришел к выводу, что текстуальная близость не является свидетельством вторичности «летописи». «Летопись», действительно, весьма близка в первой, «апокалиптической» части к «Видению». Но эта близость объясняется тем, что оба богомильских апокрифа независимо восходят, в конечном счете, к одному греческому источнику — первоначальному «ветхозаветному» апокрифу «Видение Исайи».
Политическая тенденция памятника сочетает ярко выраженный (более религиозный) болгарский патриотизм с несколько неожиданным в пору византийского владычества благожелательством к грекам. Конфликты с ними искусно замалчиваются, византийские императоры (даже Василий Болгаробойца) прославляются. Одним пацифизмом автора-богомила это едва ли можно объяснить — к русским (правда, не называемым прямо) и печенегам автор настроен резко отрицательно.13 По политическим реалиям, в ней отраженным, И. Иванов датировал «летопись» временем не ранее середины XI в.14
Общий вывод Й. Иванова относительно исторической (не историко-культурной и историко-религиозной) ценности сочинения неизвестного богомила неутешителен: «как историческое сочинение эта летопись не имеет никакого значения». 5 Действительно, исторические события предстают в туманном, иногда фантастически искаженном виде. Достаточно отметить, что византийский император X в. Константин Багрянородный в памятнике отождествлен с Константином Великим (и, соответственно, византийское христианство и государство оказываются вторичны по отно шению к болгарскому). В то же время Й. Иванов признал, что сохраненные в «летописи» предания, в первую очередь, топонимического характера, могут отражать и некие реальные события. Однако от подробного исследования этой стороны памятника ученый сознательно отказался, ограничившись отдельными сопоставлениями в подстрочных примечаниях.
Издание памятника в коллекции богомильских текстов И. Иванова стало основой для последующих переизданий и переводов на болгарский язык.16 На нем же основан единственный перевод памятника на современный русский язык.17
В основном позднейшие исследования памятника подтверждали вы-воды И. Иванова. Несколько разнилась в одном существенном аспекте точка зрения П. Динекова на отношение автора «летописи» к Византии. В обоснование ее он выделил тот очевидный факт, что в «летописи» Болгария предстает, по сути, предшественницей византийской государственности и едва ли не родиной «истинного», по мнению богомилов, христианства. По мнению П. Динекова, подобное возвеличение Болгарии в условиях византийского господства носило объективно антивизантийский, патриотический характер. В этом же ключе можно толковать и возвеличение, идеализацию прошлого Болгарского ханства и Первого Царства. Политическую тенденцию памятника Динеков определил, соответственно, как сознательно антивизантийскую.18
Историческое содержание «апокрифической летописи» анализировал В. Бешевлиев. Он пришел к выводу о возможности (со значительной долей осторожности) использования этого богомильского сочинения в качестве исторического источника — прежде всего, по истории формирования Болгарского ханства на Балканах.19 «Летопись» в качестве источника по ранним этапам истории и предыстории Балканской Болгарии привлекает российский исследователь Г. Г. Литаврин.20 Интересен сделанный болгарскими исследователями вывод об известности памятника историку и церковному деятелю XVIII в. Паисию Ве-личковскому (Хилендарскому), автору «Истории славеноболгарской». Он упоминает в связи с раннесредневековой историей Болгарии мифического царя Селевка, нигде, кроме «летописи», не фигурирующего. Однако использование летописи Паисием было более чем ограничено. Тщательный и заботливый собиратель любых остатков литературы царской Болгарии, Паисий вместе с тем с очевидностью не мог полагаться на источник заведомо апокрифический и явно во многом недостоверный.
Киевский начальный свод
С первых шагов изучения русского летописания было ясно, что летописная традиция начала XII в. не могла родиться на пустом месте. Уже В. Н. Татищев на основании «аминя», проставленного в известных ему списках Повести временных лет под 6601 г., после описания грехов современников и половецкого нашествия, выделил первоначальную летопись, составленную около 1084 г. и приписал ее составление Нестору. Сильвестра он рассматривал как продолжателя печерского летописца до 1110 г. Н..М. Карамзин (он, похоже, сомневался в самом факте существовании «аминя» в источнике В. Н. Татищева) в целом достаточно основательно опроверг вывод о составлении труда Нестора в 1090-е гг., отнеся к нему весь текст Повести временных лет до 1110 г. Сильвестр, по его мнению, — редактор и переписчик, но не продолжатель Нестора.3
Ни В. Н. Татищев, ни А. Л. Шлецер, ни Н. М. Карамзин не связывали первоначальную русскую летопись с т.н. «летописью попа Иоанна»,как именовался в работах того времени Академический список Новгородской первой летописи младшего извода. Содержащиеся в нем во многом отличные от Повести временных лет сведения не оценивались как первичные по отношению к Нестору. Авторитет последнего как «отца летописания» был у историков XVIII — XIX вв. непререкаем.
Революционное значение в этом вопросе имели труды А. А. Шахматова.4 Обратив внимание на очевидно первичный по отношению к Повести временных лет характер в первую очередь ранних известий Новгородской 1 летописи младшего извода, используя обширный материал (в том числе и вышеприведенное свидетельство Татищева), исследователь пришел к выводу, что в ней под 6362 — 6524 и 6562 — 6582 гг. читается текст Киевского Начального свода 1093 г. созданного в Киево-Печерском монастыре. Описание княжения Ярослава Мудрого и событий после 1074 г. дано в Новгородской 1 летописи младшего извода не по Начальному своду, а по новгородским источникам, отразившимся в Синодальном списке Новгородской первой летописи (ныне характеризуется как ее старший извод).
А. А. Шахматов, первоначально считая Свод 1090-х, гг. отправкой точкой русского летописания, затем вычленил предшествующие ему летописные памятники, в частности, Свод 1073 г. Этот последний он связал достаточно убедительно с именем Киево-Печерского игумена Никона. Шахматов предложил свою реконструкцию первого Киево-Печерского свода 1073 г. на основе текста Новгородской 1 летописи и других источников5 и выделил в тексте Повести временных лет фрагменты, предположительно перенесенные Нестором из свода 1093 г.6 Гипотеза А. А. Шахматова об отражении свода конца XI века, легшего в основу труда Нестора, в Новгородской 1 летописи младшего извода была принята большинством исследователей. Д. С. Лихачев предположил, что перенос Начального свода в новгородскую летопись произошел после событий 1136 г. и был связан с критическим отношением раннего летописца к отвергнутой новгородцами княжеской власти.7 Составление новгородского летописного свода, непосредственно вошедшего в состав новгородской первой летописи,
А. А. Шахматов датировал 1204 г., а в качестве его источника выделял новгородский же Свод 1167 г.9
С последним тезисом вполне можно согласиться. Список киевских князей, включенный в летопись под 6496 годом, доведен до 1167 г. Тем же примерно временем датируется и комментарий новгородского компилятора к местном известию под 6557 г., не имеющий соответствий в Новгородской 1 летописи старшего извода.
К числу основных выводов отечественной историографии можно отнести следующие:
1. В Новгородской первой летописи младшего извода отразился летописный свод, составленный в Киево-Печерском монастыре и Начальный по отношению к сохранившимся текстам Повести временных лет.
2. Текст Новгородской первой летописи младшего извода охватывающий события до 1074 г. включительно, заимствован в основном из киевского источника. Несомненной новгородской вставкой, восходящей, вероятнее всего, к Своду 1167 г., являются княжеские, посадничьи и владычные списки в статье 6496 г. Возможно выделение и некоторых других вставок.
Представляется ясным, что отраженный в Новгородской 1 летописи текст первичен по отношению к реально дошедшим до нас редакциям Повести временных лет. Но следует отметить периодически высказывавшуюся гипотезу о тождестве первоначальной редакции Повести временных лет и отраженного в Новгородской 1 летописи текста либо об отнесении создания самой Повести в первоначальной версии ко второй половине XI в. (М. X. Алешковский, А. Г. Кузьмин).10 В последнее время точку зрения М. X. Алешковского о присутствии «космографического введения» Повести уже в Начальном своде поддержал В. Я. Петрухин.11 С его точки зрения, вводная и начало датированной части Повести временных лет (включая фрагменты, считающиеся заимствованными из Начального свода и при 184
сутствующие в Новгородской 1 летописи) — целостный текст, в немалой степени обусловленный библейскими архетипами. Введение Новгородской 1 летописи младшего извода рассматривается в таком случае как новгородское сочинение.
Текст киевского источника в Новгородской 1 летописи младшего извода заканчивается статьей 6582 (1074/5) г., причем нигде в предшествующем изложении не содержится экскурсов в более поздний период. Это вселяет некоторые сомнения по поводу того, который из двух гипотетических летописных сводов второй половины XI в. отразился в новгородском летописании. Допустимо, заметим, поставить под сомнение и сам факт наличия двух сводов. Во всяком случае, следует заметить, что разница между Сводом 70-х гг., как он реконструируется А. А. Шахматовым, и Начальным сводом не слишком велика. Статья 6582 г. (выходящая, по Шахматову, за хронологические рамки Свода 1073) могла все же принадлежать Никону Великому. Если сам он не принадлежал к свидетелям смерти Феодосия Печерского, которой посвящена эта статья практически целиком, то мог сделать дополнительную запись со слов очевидцев. Наконец, дополнение могло быть сделано позднее кем-то из монахов, но еще до составления гипотетического Свода 1093 г. Кроме того, не следует забывать и о том, что сама фигура Никона как автора «Свода 1073» — лишь гипотеза А. А. Шахматова, основанная на данных о его литературной деятельности и о пребывании в Тмутаракани. Деятельность Никона действительно очень хорошо укладывается в такую схему возникновения второй части Начального свода по Новгородской 1 летописи (статьи 1044 — 1074 гг.). Но картина серьезно корректируется — стоит допустить, что собственно текст был создан кем-то другим из братии, свидетелем смерти Феодосия, на основе записей и указаний Никона. Подобный вариант имеет полное право на существование и по-своему основателен.
Упоминание византийских императоров «Олексы и Исакья», о чем речь пойдет ниже, позволяет на самом деле отнести составление летописи уже к 1080-м гг. Что до содержащихся во введении сентенций по поводу грехов современников и вторжения «поганых», то они в равной мере могут относиться и к 80-м, и к 90-м гг. XI столетия, и к 1110-м гг. — времени создания Повести временных лет. В статье же 6605 г. Повести они могли появиться благодаря заимствованиям у предшественника показавшихся подходящими к современной ситуации слов. В целом этот вопрос представляется трудноразрешимым. Сам «Свод 1093 г.» также гипотетичен — концепция о нем исходит из как будто итогового характера статьи 1093 г. и серии указаний в тексте на иного, чем Нестор, автора повествований о Пе-черском монастыре. Заметим, притом, что в Новгородской 1 летописи эти повествования отсутствуют — лишнее доказательство того, что даже целиком в пределах схемы А. А. Шахматова мы имели бы дело со «Сводом 1073», а не со «Сводом 1093 г.».
Отсутствие в тексте Новгородской 1 летописи указаний на составление отраженного в ней свода после начала 1080-х гг. тем более не позволяет максимально приближать его по времени к сохранившимся версиям Повести временных лет. Версии Повести временных лет, сохраненные Лав-рентьевской — Радзивиловской (Сильвестрова) и Ипатьевской летописями, явно восходят к общему источнику, уже носившему заглавие «Се повести временных лет». Текст же, сохраненный Новгородской 1 летописью, озаглавлен «Временник», и нет доказательств того, что он именовался как-то иначе. Нет, как будет показано, и четких следов замены введения новгородским летописцем. Воспринимать текст «Временника» как целостность не меньше оснований, чем воспринимать так текст Повести временных лет. Одно это, если не брать даже в расчет резких содержательных отличий (прежде всего в древнейшей части, которая сходна в обеих основных версиях Повести и совершенно отлична от Новгородской 1 летописи), не по зволяет, как представляется, характеризовать текст, дошедший в последней, как первоначальную редакцию Повести. Текст введения «Временника» связан с заглавием и построен — по направлению к первой датированной статье — не менее логично, чем текст Повести временных лет. «Космографическую» картину, развернутую в Повести, здесь, как представляется, просто некуда вставить. Начальный свод по Новгородской 1 летописи в этой своей части, очевидно, представляет логическую целостность, не нуждающуюся ни в изъятиях, ни в дополнениях. Нет никаких достоверных оснований думать, что источник реально дошедшего текста представлял собой здесь что-либо иное
Памятники новгородского летописания
Летописцы XII — XIII вв. основывали свои изложения ранних событий восточнославянской истории на «Повести временных лет» и отчасти Начальном своде. Однако объем доступных им источников не ограничивался этим. Даже в Киевской земле имелись версии устных преданий, не охваченные автором Повести временных лет. Тем более киевские летописцы не уделяли достаточно внимания устным преданиям местного происхождения, не исключая новгородские. Это касалось и преданий, бытовавших в аристократической среде, среди представителей местных боярских кланов. С вычленением полунезависимых княжеств из Киевского государства интерес к этим преданиям возрастал, им возвращался статус полуофициальной устной истории. Но истории устной трудно было сохранять хотя бы отчасти официальный характер в условиях господства письменной культуры. Отсюда естественная потребность и в записи памятников дружинной поэзии (от «Слова о полку Игореве» до произведений Куликовского цикла), и во внесении местных преданий в летописные своды, составлявшиеся при княжеских и владычных дворах.
Однако и в осколках «империи» Рюриковичей интерпретация истории древнейшей Руси жестко регламентировалась составленной на материале их придворных преданий начальной летописью. Потому устная традиция, бытовавшая в среде местной, подчас традиционно враждебной Рюриковичам аристократии, отражалась в летописании лишь фрагментарно. Языческий характер многих преданий также препятствовал их включению в официальную летопись. Кроме того, должно быть, играл роль и фактор культурного консерватизма, подчас доходившего до слепого следования старым образцам. На эти образцы (Начальный свод и Повесть временных лет) летописцы эпохи раздробленности лишь нанизывали остатки местных преданий. Впрочем, следует учитывать, что такой вывод может быть в немалой степени обусловлен фрагментарностью самого дошедшего до нас материала.
В более или менее первозданном виде до нас дошло только новгородское, псковское, киевское, галицкое и владимирское летописание. Во Владимирской земле местных преданий о столь глубокой древности могло и не быть; в Ростове до переноса столицы во Владимир летописания не велось — древнейшие разделы Владимирской летописи представляют летописец Переяславля Южного. Киевские же и новгородские предания (пусть новгородские в меньшей степени) были неплохо отражены в Киево-Печерском начальном летописании. Галицко-Волынский свод в древней части механически включил киевскую летопись, что отвечало политическим устремлениям князей юго-запада. Подобно этому Псковская летопись в начальной части зависит от Новгородской. Здесь пойдет речь о новгородском предании о Гостомысле, которое было включено в летописные памятники XII — XIV вв.
Первоисточником Новгородской 1 летописи младшего извода, как уже говорилось, являлся Новгородский свод 1167 г. По аргументированному мнению А. А. Шахматова, Свод 1167 г. уже был основан на Киевском Начальном своде. Самому новгородскому летописцу, однако, принадлежат вставленные в статью 6497 (989) г. списки князей, посадников и иерархов,3 новгородское происхождение которых несомненно. Один из этих списков (доведенный до 1167 г.) сохранился в первоначальном виде. Остальные были продолжены последующими новгородскими летописцами (1204 г. и др.). К продолженным относится и список новгородских посадников. Однотипность вставленным в текст Начального свода княжескому и другим перечням и явная сюжетная перекличка с некоторыми из них подтверждают мнение о создании перечня в первоначальном виде новгородским летописцем 1167 года. В древнейшей своей части он, очевидно, не претерпел изменений и лишь продолжался последующими авторами до их времени — вплоть до середины XV века. Во всяком случае, в Своде 1204 г., без смысловых изменений вошедшем в Новгородскую 1 летопись, древнейшая часть перечня уже должна была присутствовать в сохранившемся виде.
Список открывается именем Гостомысла: «А се посаднице новго-родчьскыи: пръвыи Гостомысл...3»341 Именем Гостомысла открывается и посадничий список, предпосланный в числе других дополнительных статей Комиссионному списку Новгородской 1 летописи342 и независимый от него.
Гостомысл упоминался еще в одном раннем источнике — окончательной редакции так называемого «Софийского временника» — основы «Софийско-Новгородского» общерусского летописного свода первой половины XV века. Говоря точнее, упоминание Гостомысла содержится в
Так в К. А — А се посадникы новгорочкии — первый Гостомыслъ. созданной в XIV в. на базе Владимирского Свода 1305 г. новгородской редакции вводной части Повести временных лет.
По А. А. Шахматову, избыток сведений Софийской первой и Новгородской четвертой летописей по отношению к Новгородской 1 и Повести временных лет в пределах «киевского» периода восходит к новгородской владычной летописи.343 Вывод Д. С. Лихачева о создании «Софийского временника» в первоначальной редакции в XII в. и его последующем использовании в «Софийско-Новгородском» своде344 позволило, кажется, конкретизировать определенный Шахматовым памятник. Им являлся, по данной логике, «Софийский временник» в его окончательной редакции. Эта редакция уже имела вводную часть, отсутствовавшую не только в Новгородской 1 летописи, но и в первой редакции Временника. Заголовок «Временник, еже нарицается Летописец» следует только в начале датированной части.345 Характерно, что использовавший «Софийско-Новгородский» свод белорусский летописец, создатель Свода 1430 г., отраженного Никифоровской и Супрасльской летописями, предшествовавшую заглавию недатированную часть опустил.
В то же время нельзя исключать и того, что название особого памятника «Софийский временник» — плод источниковедческой ошибки. «Софийский» — логичное определение для «Временника», вышедшего из новгородского митрополичьего дома. А таким «Временником», вне сомнения, являлся список Новгородской 1 летописи (точнее, одного из предшествующих ее младшему изводу сводов), находившийся в распоряжении московских летописцев. Определение «Софийский» может, таким образом, принадлежать им.
Место составления вводной части и, соответственно, ее принадлежность именно одному из новгородских источников Свода, определяется присутствием в ней новгородского внесения (о Гостомысле). На это указывает также удаление статьи 6362 г. (об основании Киева), обусловленное появлением вводной части и общее для «Софийско-Новгородского» и западнорусского сводов.
Кроме того, новгородское внесение присутствует в Рогожской летописи — доведенном до 1412 г. компилятивном (в ранней части) памятнике тверского происхождения. Текст Рогожской летописи, по всей вероятности, в основном сформирован в начале XV в.346 К тому же и сам единственный список памятника сейчас надежно датируется не второй половиной,347 а — по филиграням — 40-ми гг. XV в.348 С учетом этого, однако, весьма вероятна и возможность привлечения при ее создании самого «Софийско-Новгородского» свода. В любом случае, как увидим, ни смысловых, ни словесных различий в тексте интересующего нас известия нет.
Возможно, что древнейший его вариант читается в т. н. «первой выборке» связанной с «Софийско-Новгородским» сводом Новгородско-Карамзинской летописи. По мнению Я. С. Лурье, состоящая из двух летописных выборок (по 1411 и за 988 — 1428 гг.) Новгородско-Карамзинская летопись является вариантом новгородской редакции Свода, наряду с Новгородской IV летописью, причем лучше отражает первоначальный вид этой двухчастной, с его точки зрения, редакции.349
Однако согласно гипотезе Г. М. Прохорова, «первая подборка» (до 1411 г.) первична по отношению к «Софийско-Новгородскому своду», представляя собой особый летописный свод 1411 г.350 К этой точке зрения присоединяется и А. Г. Бобров.351 Отличаются точки зрения этих исследователей лишь на «вторую выборку», менее интересную для нашей темы — по мнению А. Г. Боброва, это дополнение к Своду 1411 г. сделано непосредственно на основе протографа митрополичьего свода 1418 г., тогда как Г. М. Прохоров считает «вторую выборку» вторичной по отношению к Софийской 1 летописи. Б. М. Клосс же склонен рассматривать Новгород-ско-Карамзинскую летопись как памятник, близкий к архетипу Свода., если не тождественный ему. Свод 1418 г., по его мнению, уже имел двухчастную структуру.
Нельзя не признать привлекательность версии о своде 1411 г., поскольку она приближает к решению проблемы новгородского источника «Софийско-Новгородского свода», не вполне тождественного летописанию линии Новгородской 1 летописи. Свод 1411 г. мог стать независимым источником и для Рогожской летописи, если она была создана (в протографе) вскоре после 1412 г. Новгородско-Карамзинская летопись сохранилась в единственном списке конца XV — начала XVI в.353 Первое ее издание предпринято в рамках серии «Полное собрание русских летописей» в 2002 г.354