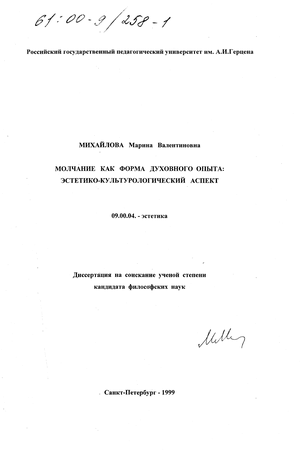Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Опыт молчания: молчание как эстетический феномен
1.1. Нулевая степень дискурса. Варианты актуализации молчания.
1.2. Логос безмолвия. Инвариантная внутренняя форма молчания .
Глава 2. Молчание как граница эстетического .
2.1. Возможность перевода как эстетическая проблема .
2.2. Молчание как эстетическая репрезентация истины .
Глава 3. Онтоэстетический статус молчания .
3.1. Молчание как ничто: эстетические основания апофазиса.
3.2. Молчание как любовь: этика преодоленной формы .
Заключение.
Библиография.
- Логос безмолвия. Инвариантная внутренняя форма молчания
- Возможность перевода как эстетическая проблема
- Молчание как эстетическая репрезентация истины
- Молчание как любовь: этика преодоленной формы
Введение к работе
В конце 20 века становится очевидно, что прожитое столетие было одной из критических точек истории. Быть может, никогда экзистенциальные вопросы не поднимались так остро. Дело не только в том, что биологическое существование человечества стоит под реальной угрозой, но и в том, что на фоне планетарного экологического кризиса происходят социально-антропологические процессы, дающие философам основание говорить о смерти человека.
Мир после Аушвица уже не может с прежним доверием относиться к привычным системам и полагаться на общепринятые конвенции: они обнаружили свою несостоятельность. Сегодня аксиологическая переориентация затрагивает все сферы человеческого бытия. Не в последнюю очередь подвергается переосмыслению статус слова, языка, речи.
Слово в пространстве современной цивилизации стремительно утрачивает свою укорененность в измерении сакрального. Цивилизация предстает как империя болтовни. Переход от традиционных средств хранения и распространения информации к современным породил такой мощный всплеск пустословия, какого человечество прежде не знало. С точки зрения М.Хайдеггера, человек в царстве техники "оглушен и ослеплен" потоком болтовни, а потому бессилен внимать бытию. Причины и механизмы этого процесса - тема отдельного исследования. Некоторые аспекты указанной проблемы будут затронуты во второй главе настоящей работы, а пока для нас важно отметить связь между кризисом языка и ориентированностью постиндустииальнои цивилизации к принципу "иметь", который аксиологически противоположен принципу "быть", организующему смысловое пространство гармонизированной культуры, между редукцией общения в коммуникацию и приоритетом продукции над творчеством. Подобно тому, как авторские, сделанные руками вещи сегодня вытесняются продуктами конвейерного производства, ответственное отношение к языку вытесняется болтовней. Помещенное в эту опасную зону сознание оказывается в пустоте и одиночестве, так как оно теряет живые связи с миром, Другим и Богом, осуществляемые через речь и молчание.
Язык, используемый социополитическими технологиями как инструмент формирования общественного и индивидуального сознания, девальвируется. Истертые и искаженные безответственным или бессовестным употреблением слова приобретают черты оруэлловского новояза. Так, после перестройки в России переместились в сферу непристойного понятия "демократия" и "свобода", а война, начавшаяся в Югославии, выбросила туда же целый пласт "миротворческой" лексики. Интересно, что именно на семиотическом уровне особенно ярко проявляется тоталитаризм современных демократий 2.
В сфере эстетической культуры пустословие порождает поток артефактов, лишенных соотнесенности с миром в полноте его исторической и метафизической реальности. Феномен массовой культуры, выполняя благотворную компенсаторную функцию на психоэмоциональном уровне, обнаруживает при этом свою сно-виденную природу, упраздняющую свободу и ответственность.
Размывание иерархически организованных стилистических систем, начавшееся в европейских языках еще в конце 18 века, сегодня завершилось. Однако это привело не только к возрастанию эпистемологических и эстетических возможностей языка, но и к появлению усредненного и бессильного стиля, легко распространяющегося среди носителей языка. Простота в пределах подобного узуса оборачивается упрощенностью, сложность воспринимается как заумность, высокое становится риторически-высокопарным, низкое приобретает черты нормы. В результате возникает ситуация, испытанная, вероятно, каждым человеком, который ответственно относится к речи: внутренне невозможно произнести слова, отсылающие к фундаментальным реальностям.
Кризис слова и порождает интерес к молчанию, который может быть рассмотрен как симптом конца тысячелетия: культура достигла такой искушенности и тонкости в языковых играх, пришла к такому изощренному и детализированному описанию мира в его разнообразии и богатстве, что утратила знание предельных оснований мировой и персональной жизни, которое может быть достигнуто в безмолвии. Говоря в терминах Хайдеггера, оглушеннность сущим привела к забвению бытия. Актуальность настоящей работы и обусловлена тем, что в ней предпринимается попытка показать, что в современной ситуации именно молчание как вечный коррелят языка, открывающий особые доступы к бытию, способно вернуть равновесие культуре и достоинство - человеку.
Молчание принадлежит к ряду феноменов, находящихся в центре интересов современной философии. Осмыслению различных его аспектов немало способствуют идеи, высказанные многими отечественными авторами. Так, молчание рассматривается в философско-культурологических исследованиях С.С.Аверинцева, К.Г.Исупова, К.С.Пигрова. Герменевтический подход к молчанию осуществляется в работах В.В.Бибихина, М.К.Мамардашвили, Л.М.Моревой. П.П.Гайденко проводит историко-философский анализ молчания у С.Киркегора. С.С.Хоружий и Т.М.Горичева рассматривают феномен молчания с религиозно-философских позиций. Ю.М.Лотман проводит семиотическое исследование молчания. В.А.Подорога реализует феноменологический подход к проблеме. Следует отметить ценность ряда зарубежных исследований. Теологический аспект молчания затронут в работах Д.Бонхоффера, К.Барта, Д.Робинсона, П.Тиллиха. Молчание актуально для эстетических концепций Т.Адорно и М.Мерло-Понти. Постструктуралистский и постмодернистский подход к молчанию осуществляется в работах Р.Барта, Ж.Бодрийяра, Ж.Делеза, Ж.Деррида, Ж.Лакана, Ж.-Ф.Лиотара, М.Фуко, У.Эко. Экзистенциальная значимость молчания актуализирована в исследованиях Ж.Батая, М.Бланшо, М.Бубера, Э.Левинаса, К.Ясперса. Л.Витгенштейн затрагивает логико-гносеологическую проблематику, связанную с молчанием. Социально философский анализ этого феномена проводит Э.Ноэль-Нойман. Онтоэстетический смысл молчания исследует М.Хайдеггер.
Тем не менее, молчание недостаточно тематизировано. В наиболее авторитетных философских словарях и энциклопедиях, таких, как "The Oxford Dictionary of Philosophy", 1994; "The Cambridge Dictionary of Philosophy", 1995; "Enzyklopadie Philosophic und Wissenschaftsheorie", 1995; "Encyclopedic Philosophique Universelle", 1997; "Routhledge Encyclopedia of Philosophy", 1998, статьи о молчании отсутствуют. Специальных диссертационных и монографических работ, посвященных этой теме, немного.
Среди отечественных исследований следует отметить монографию К.А.Богданова "Очерки по антропологии молчания" (СПб., 1998), который осуществляет психосоциолингвистический подход к проблеме, рассматривая молчание как особую коммуникативную стратегию в рамках языкового опыта, главы о молчании в книге В.В.Бибихина "Язык философии" (М., 1993), где предметом размышления становится его онтологический статус, и сборники под редакцией Л.М.Моревой "Silentium" (СПб., 1991-1996), объединяющие различные подступы к проблеме с позиций философской герменевтики.
Из зарубежных работ особого упоминания заслуживают изданные А.Яворским сборники "Власть молчания" (1993) и "Молчание: междисциплинарные перспективы" (1997), где молчание анализируется как дискурсивная практика, способ языкового поведения. В коллективном исследовании бразильских ученых "К феноменологии молчания" (1997) молчание подвергается феноменологическому рассмотрению в его различных аспектах. А.Эттин ("Говорящие молчания", 1994) помещает молчание в контекст европейской традиции и современной мысли. Д.Курзон в монографии "Дискурс молчания" (1997) исследует с позиций прагматической философии грамматику и семиотику молчания, его проявления в речевых контекстах и в библейских, литературных и кинематографических текстах. В рамках семиотического подхода молчание исследовали Ж.Песо ("Молчание: Оно говорит", 1979) и Л.Блок де Беар ("Риторика молчания", 1995). Р.Брэдфорд ("Молчание и звук", 1992), Д.Паттерсон ("Вопль молчания", 1992), П.Ван ден Хевель ("Речь, слово, молчание", 1985) рассматривают молчание в контексте проблем поэтики и теории литературы . Существует ряд интересных работ, рассматривающих молчание в юридическом4, феминистском5, социологическом6, искусствоведческом7 аспектах.
Однако, несмотря на высокие достоинства этих работ, они склонны рассматривать молчание внутри языка, как минус-дискурс, как отрицательный способ существования текста, тогда как последовательной попытки рассмотрения молчания рядом с языком, как особой невербальной, внедискурсивной формы опыта, пока не существует. Было бы интересно отнестись к молчанию именно как к модусу опыта, внеположному и равноправному языку, показать принцип соотношения молчания и языка в пространстве культуры.
Такая постановка проблемы не может не вызвать множество вопросов, особенно если учесть, что предпринимаемое диссертационное исследование заявлено как эстетическое. Возможен ли в принципе серьезный разговор об эстетике молчания, если оно понимается незнаково? Известно, что эстетика - философская дисциплина, традиционно соотносимая со сферой чувственного знания, ориентированная к выразительным формам бытия. Можно ли говорить о чувственно постижимом молчании, если это не звук, но отсутствие всякого звука, не язык, но негация языка? Обладает ли молчание выразительностью? Имеет ли оно формальные характеристики?
Вышеназванным исследователям удалось дать на все эти вопросы весьма удовлетворительные и внутренне непротиворечивые ответы именно потому, что они полагают язык онтологически и антропологически первичным. С этих позиций человеческий опыт мыслится исключительно в знаковой форме, сфера языка расширяется до границ собственно человеческого. Тогда молчание оказывается инкорпорировано в структуру языка как нулевой элемент, с какими теоретическая лингвистика научилась иметь дело начиная с Р.Якобсона, который ввел оппозицию знака с его отсутствием.
Признавая полную философскую легитимность такого подхода, автор не исключает и другую возможность рассмотрения молчания, на которую указывает опыт. Любому из нас знакомо состояние, когда мы прекрасно знаем, о чем хотим сказать, а слово ускользает, то есть смысл присутствует, а знаковость нарушена. Практика перевода обнаруживает в тексте непереводимый остаток, никак не означенный, но парадоксальным образом данный сознанию. Художественное произвел дение конституируется отсутствующим в плане выражения смыслом, который все-таки в нем читается. Мистический опыт с его высокой смысловой интенсивностью имеет незнаковую природу. Упомянутые эмпирические ситуации, безусловно, могут быть объяснены с логоцентрических позиций, но это не отменит их особенности, состоящей в том, что во всех этих случаях мы имеем дело с незнаковым смыслом. Таким образом, эстетическое рассмотрение феномена молчания эксплицирует его особую роль как границы эстетического, оформленного, выраженного.
Предположение о том, что семиотическое не является непременным и единственным способом бытия смысла, позволит нам подступиться к молчанию как форме опыта, внеположной и равноправной языку. Молчание в этом случае раскрывается как онтологически предшествующее формообразованию состояние познающего духа, как возможность рождения формы и условие ее существования, предстает не как нулевая степень языка, но как независимый модус отношений человека со смыслом, позволяющий воспринять мир конкретно-целостно, причем именно эта интегральная картина мира и делает возможным множественность интерпретаций естественными и культурными языками. При таком рассмотрении язык и молчание - два равносильных культурообразующих принципа, ян и инь, Аполлон и Дионис, существующие в вечной борьбе и притяжении, взаимоотрицании и взаимообосновывании.
В настоящей работе такой подход к пониманию феномена молчания осуществляется через рассмотрение форм его актуализации в культуре, в частности - художественной, и обоснование его экзистенциальной значимости и онтоэстетиче-ского статуса как фундаментального, наряду с языком, модуса духовного опыта. Такова цель предпринимаемого исследования.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:
- выстроить типологию внешних форм молчания в культуре и социуме;
- раскрыть внутреннюю форму феномена молчания в его культурных проявлениях как негации дискурса;
- исследовать характер взаимоотношений молчания и языка, аморфного и морфологического на уровне экзистенциального опыта, выводящего на границу эстетического;
- показать специфику молчания в сфере эстетического опыта в аспектах творчества и восприятия;
- эксплицировать эстетические основания апофатического метода на основе анализа актуализации апофазиса в современной философии и богословии;
- определить онтоэстетический статус молчания как особого доступа к пределам бытия.
Поскольку эстетических исследований незнакового пока не существует, работа построена скорее как преодоление пути (odos), чем как приложение способа (methodos). Тем не менее, автор считает необходимым указать некоторые важные методологические ориентиры на пути исследования. Работа опирается на применение феноменологического подхода и категорий экзистенциального философствования, принципов структурно-типологического и историко-культурологического анализа. Основой эстетико-культурологического исследования молчания послужили онтологическая эстетика М.Хайдеггера и принципы философской герменевтики. В некоторых ситуациях плодотворными оказались использование приемов апофа-тики и обращение к отдельным постмодернистским стратегиям.
Автор считает методологически необходимым дать краткую характеристику исходных понятий исследования: молчание, опыт, апофазис.
Словарное определение молчания - "факт неговорения, отсутствие слова". Таким образом, молчание негативно определяется через речь, но вряд ли в этом можно увидеть аргумент в поддержку понимания молчания как нулевой формы языка: последний и не может воспринимать молчание иначе, чем собственное инобытие. В русском языке существительное "молчание" произведено от глагола "молчать". В европейских языках silence восходит к латинскому silentium, а глагол "молчать" либо имеет иной корень (как французский se taire), либо является сог ставным (как английское to be silent; глагол to silence требует прямого дополнения и означает "заставлять молчать"). Это обстоятельство указывает на субстантивную природу феномена молчания: европейские языки раскрывают его не как предикат, но как вещь.
Семантика молчания включает в себя таинственность. Молчание связывается с сокрытием, секретом (молчать о чем-то).
Молчание существенно отличается от тишины, немоты и умолчания. В некоторых языках молчание и тишина обозначаются одним и тем же словом, но "тишина" - это значение, производное от "безмолвия": слово, означающее отсутствие речи, распространяется, на отсутствие звука вообще. Если тишина - природное состояние, то молчание свойственно лишь человеку (к животному это слово при менимо метонимически, настолько, насколько мы допускаем по смежности подобие звериного языка человеческому). В отличие от немоты - языкового бессилия, болезненного, аномального состояния, которое человек не выбирает, молчание является свободно избранным поведением. Человек бывает обречен немотствовать, но он осмысленно предпочитает молчать. Молчание и немота соотносятся как полнота и пустота, плюс- и минус- бесконечности; на первый взгляд формально близкие, они аксиологически противоположны. Умолчание - ситуация "минус-текста", когда текст нормально существует в сознании носителя языка, но не произносится. Умолчание находится в пределах языка и поддается адекватному переводу, тогда как молчание не переводимо на язык в силу того, что имеет отношение к реальности, ему трансцендентной.
Выше уже говорилось о том, что философские энциклопедии и словари не дают определения молчания, а в специальных работах оно понимается как "самоотрицание звучащего высказывания во имя утверждения невербализуемых о ценностей" , как "факт речевой культуры", играющий в информационной системе языка "роль фона по отношению к речи"9, как "пауза в процессе социально-речевой коммуникации", которая "обладает символической структурой и требует своего понимания в контексте понятийно-речевых смыслов"10. Общая интенция этих высказываний - включение молчания в сферу языка и активное его означивание. Молчание понимается как речевая стратегия, ему, как правило, отказывается в смысле, гетерогенном понятийному.
Принципиально иной подход к молчанию осуществляется в богословии. Конечно, теология, несмотря на всю непомерность и парадоксальность своего предмета, существует в ряду прочих логий, а следовательно, в пределах богословского дискурса уместны и часты рассуждения о том, что может означать молчание.11 Тем не менее, в христианском миросозерцании молчание онтологически предшествует слову. Пролог Евангелия от Иоанна - "В начале было Слово" - вовсе не противоре чат этому утверждению: Иоанн говорит о начале мира и о творческой силе Логоса-Сына Божия, Которым Бог приводит все в бытие. В начале мира, конечно, было слово, равно как и в начале становления человека находится речь. Но библейское богословие утверждает предшествование божественного молчания началу мира. Второе Лицо Троицы выступает как Логос именно по отношению к миру, но в Боге общение совершается в модусе молчания в силу того, что Живоначальная Троица единосущна, в Ней нет разделения, нет необходимости вербальной коммуникации, предполагающей инструментальное посредничество языка. Св. Игнатий Антиохий-ский называет Сына Словом Божиим, "исшедшим из молчания" . Таким образом, рефлектируя включенность безмолвия в дискурсивную ткань человеческого существования, богословие учитывает и независимость бытия молчания как фундаментального экзистенциального состояния, подобного немыслимой полноте Святой Троицы. Именно на богословской интуиции молчания как вершинной и адекватной форме богообщения основывается учение и практика исихихазма, который определяет молчание как "оставление всякого умственного действия"13, прорыв к смыслу, очищенному от искажений дискурсивности.
В данной работе молчание, или безмолвие, понимается как незнаковая форма отношения к смыслу, преднаходимому в мире, Другом и Боге. В отличие от языка (в широком понимании - как любой коммуникативной системы), который в силу конституирующей его энергии различения имеет дистантную природу и возможен лишь в ситуации несовпадения субъекта и объекта речи, молчание осваивает смысл через совпадение, бытие-вместе, преодолевающее субъект-объектные отношения.
Автор рассматривает молчание как форму духовного опыта, что обязывает дать рабочее определение этого понятия. Вслед за Гуссерлем, понимавшим опыт как силу, конституирующую мир для воспринимающего индивида14, Мерло-Понти, который интерпретировал опыт как взаимное силовое действие мира и человека,
подобное нулевому давлению двух твердых тел в физике15, Дьюи, выделявшем в опыте аспект постоянного взаимодействия человека и среды в модусах астивности и подвергнутости, претерпевания (undergoing)16, автор понимает опыт как фундаментальное состояние взаимодействия личности с миром.
В противоположность эксперименту, обладающему свойствами проективности и сообщаемости, опыт в его экзистенциальном измерении неповторим и невыразим. Уникальность и невыразимость опыта возрастают параллельно росту его экзистенциальной значимости. Исследователь Иисусовой молитвы говорит: "Опыт Симеона может быть адекватно объяснен лишь в терминах паламитского учения, а то, чему учил Палама, можно по-настоящему понять лишь в свете такого опыта"17. Получается, что единственный способ усвоить некоторый опыт - это пережить его, а описание опыта представляет собою приглашение совершить этот путь.
В ситуации опыта человек и мир оказываются равноправны, вступают в диалогические отношения. Активность познающего духа соизмерима той силе, с которой реальность испытывает его. Я и мир оказываются лицом к лицу, обнаруживая свои глубинные качества.
Опыт предполагает встречу мира и человека, их противоборство. Фасмер возводит опыт к "пытать", "спрашивать" и сопоставляет его с латинским глаголом puto, -are - обдумывать, полагать, рассчитывать, приводить в порядок, резать18. Одного корня с опытом испытание, попытка, пытливость, пытка. Испытание вводит тему искушения, героического преодоления, сопротивления. Пытка напоминает нам о страдательности опыта, его внутренней связи с терпением.
Весьма возможно, что корень -пыт- этимологически близок к -пут-. Тогда опыт - это путь. Он всегда - процесс. Даль приводит пословицу: "Чужим умом жить до порога, а дале всяк живет своим опытом" . Опыт раскрывается и как путеводная нить, и как плод, результат пути, дар, который не дается тем, кто сиднем дома сидит. Опыт длится столько же, сколько путь. Язык сближение опыта и пути допускает. Рассказывая о своем опыте, мы говорим: "Я через это прошел", "Все через это проходят". А еще мы говорим в утешение: "Это пройдет", то есть закончится для тебя. Путь опыта - встречное движение личности и жизни: в опыте мы проходим через мир и мир - через нас.
Итак, филологическое исследование слова "опыт" позволяет перенести акцент с понимания опыта как средства интеллектуального освоения мира на осмысление его роли в самопознании личности, ее становлении и утверждении. Опыт в экзистенциальном философствовании становится фундаментальным понятием: философия предстает как автобиография (Ф.Ницше), она основана на духовном опыте (Н.Бердяев), представляет собою экспликацию опыта, попытку его сообщения, перевода на общий язык. При этом ценность представляет не столько переводимый на язык рациональности опыт чистой мысли, сколько целостное событие противостояния личности миру.
Опыт как схватка человека и мира испытывает их обоих. Что-то сказать о мире мы можем только на основании опыта, но и о себе, и о Другом мы что-то узнаем только опытным путем. Интересно, что из одного и того же опыта люди выходят с разными результатами, и то, что повергает одного в ужас, другого оставляет равнодушным. Один видит миры в "пылинке на ноже карманном", а другой ее просто не замечает. Похоже, что опыт не формирует личность, как предполагает житейская мудрость, но выявляет ее логос. Таким образом, опыт - взаимодействие человека и бытия, которое является условием формирования личности и познания мира.
Чтобы определить специфику духовного опыта, обратимся к традиционному различению тела и духа, вещи и идеи, физики и метафизики: философия от начала склонна была предполагать в человеке и в мире некоторую глубину и неочевидность, нечто такое, что неуловимо пятью чувствами и не поддается рациональному описанию. Великие философские тексты нередко обладают не только научными, но и художественными свойствами, философия и филология смыкаются в своих корнях как науки, основанные на любви к мудрости, явленной в слове.
Различение видимого и интеллигибельного, с одной стороны, и неосязаемого и непостижимого, с другой, есть различение телесного и духовного начал. Как говорит китайская мудрость, "уток, вышитых на ковре, можно показать другим. Но игла, которой их вышивали, бесследно ушла из вышивки" . Разглядывание уток -метафора пребывания рефлексии опыта в границах телесности мира, но всякий раз, когда встает вопрос об иголке, мы имеем дело с предельными основаниями опыта, и он приобретет качество духовного.
Сегодня неразличение духовного и душевного становится общим местом. Современное сознание определяет духовное через психическое, дух при этом оказывается просто высшей функцией сознания, вершиной человеческого существа, органически вытекающей из биологии человека. Одна из причин такого положения вещей - закрытость измерения священного, характеризующая современность. Исходя из положения, что знание основано на опыте, автор предлагает определить духовный опыт с опорой на христианскую традицию.
Этимологически понятие духа связано и с дыханием, воздухом - то есть с некоторыми реальными, но неуловимыми вещами, и с животным, зверем - то есть с чем-то очень близким и совершенно иным, каков и Бог по отношению к человеку21. Дух - то, к чему невозможно прикоснуться ни рукой, ни взглядом, хотя голос Его слышен и посещение ясно. Действие Духа опознается изнутри, опытно, Он наполняет человека Своим неизреченным присутствием. Он "обновляет лицо земли" (Пс 103.30), результат действия Его очевиден - но "Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит" (Ин 3.8). Вероятно, именно об этом безграничном и всесильном, непредсказуемом и непознаваемом Присутствии и говорят апостолы, когда напоминают первой общине, видевшей воочию Христа, что "Бог есть Дух" (Ин 4.24), "Господь есть Дух" (2 Кор 3.17).
Реальность Духа не обладает тяжеловесной определенностью, Он весело нарушает все законы естества. Как сказано в одном из песнопений на праздник Преображения, "на небе и на земле Бог что хочет, то и делает". Самое определенное, что мы знаем об этой непостижимой реальности - это что Дух дышит, где хочет, и что где Дух Господень, так свобода.
Согласно библейскому богословию духовность не будет некоторым синонимом интеллигентности, нравственности, приобщенности к культуре, эмоциональной или эстетической развитости. Духовность - открытость Духу, свобода принять дыхание Иного, Живого, превосходящего всякую доступную описанию реальность. Так, духовным человеком был кочевник Авраам, вовсе не утонченный, суровый, иногда хитрый, иногда опасливый, и всегда прочно стоящий на земле под небом, "насыщенный жизнью". Духовным он был не в силу развитости, разработанности всяких интеллектуальных и душевных функций, а просто потому, что, услышав голос неведомого Бога, встал и пошел туда, куда Тот ему указал. В нем была странная, но всем нам родная свобода наполниться Духом.
Следствием двусоставности, духовно-телесности мира и человека является то обстоятельство, что всякий опыт имеет духовное измерение. Например, тривиальный опыт обмена квартиры лежит в сфере бытовой практичности, но может стать и духовным в том случае, если человек пережил момент сиротства, неприкаянности, бездомности, или же свобода от местожительства позволила ему радостно ощутить непрочность связей своих с устойчивым способом жить, или, наоборот, ему открылась вся тягота его зависимости от порядка вещей. Во всяком опыте есть это второе дно, но для того, чтобы оно нам открылось, требуется констелляция, совпадение особых состояний мира и человека, момент истины, как говорит Ма-мардашвили, озарение, гераклитова молния.
У В.В.Бибихина в "Узнай себя" говорится, что трансцендентное - это то, к чему пройти мы не можем из-за наличия границы, предела. Но предел этот конституирует человеческая природа: само трансцендентное не ограничено этим пределом, оно не находится за этой границею, ведь если бы оно было запредельно, то было бы и предельно. Запредельно, трансцендентно оно для нас, в силу того, что мы - существа конечные и затрудняемся выйти за свои пределы, страшимся нару шить границы. Трансцендентное - везде, нигде и здесь, но человек к нему не может пробиться в силу собственной ограниченности, предельности.
В свете этих рассуждений выясняется одно важное качество духовного опыта: он не находится на какой-то иной территории, чем любой другой. Батай рассказывает об одном эпизоде, внешне совершенно незначительном: солнечным утром он шел по улице с раскрытым зонтиком и смеялся. Внутренняя же форма этого опыта - теофания: "Со мной, идиотом, Бог говорит из уст в уста; словно пламя, голос выступает из темноты и говорит - пламя леденящее, обжигающая грусть - говорит с... человеком под зонтиком" .
Духовный опыт - одно из измерений любого опыта. Он может состояться, но его нельзя организовать, подготовить. "Дух дышит, где хочет". Конечно, чаще всего мы просто не хотим заглядывать в глубины, где возможна встреча с Иным, нам много удобнее оставаться на поверхности, опираясь на житейскую мудрость и привычные суждения. Один монах спросил старца, почему люди так много суетятся. Авва ответствовал: "Они бегают вдоль и поперек по миру из страха, как бы им не встретиться с ним лицом к лицу" . И все же, оставаясь в пределах простого жизненного опыта, мы переходим иногда предел - непонятно почему. Духовный опыт наступает как чудо, но чудо это высвечивает нам истинный порядок вещей. В нем всегда есть нечто, указующее на тайну бытия. Итак, под духовным опытом имеется в виду эпифания трансцендентного, возможная в пределах любого опыта.
Наконец, последнее из ключевых понятий данного исследования - апофазис, радикальное отрицание дискурсов о предмете, вводящее познающий дух в состояние созерцания предмета, свободное от ограничений и дисциплинарных границ, свойственных дискурсу. Апофазис как метод был разработан в раннехристианском богословии (прежде всего следует назвать Дионисия Ареопагита).
В современной философии синонимом апофазиса выступает негация, понимаемая в свете предложенного Делезом различения негативности и негации. Негативность существует как модус сохранения, неполное отрицание, она является оборотной стороной позитивности, созидания, порождения, тогда как негация вы ступает как радикальное отрицание порядка дискурса и порядка вещей, она выше порождения, сохранения, индивидуации, по сторону всякого основания, дна25.
Если негативность соотносима с грамматическим отрицанием, являющимся моментом бинарной оппозиции, то апофазис носит трансгрессивный и трансценди-рующий характер, освобождая предмет от необходимых структурных связей в порядке мира и помещая его в иной порядок (не)бытия. Эпистемологически апофазис не является актуализацией агностической позиции, но исходит из принципа сомнения в данностях, согласно которому всякая конкретная вещь и мир как целое не могут быть понят имманентным миру сознанием, понимание протекает sub specie aeternitatis. Апофазис не совпадает и с этическим нигилизмом, поскольку он включен в традицию негативного богословия, интуитивно постигающего Бога как Ничто. В данном исследовании апофазис понимается как процедура понимания вещи через испытание возможности ее бытия.
Структура диссертации определяется необходимостью провести эстетико-культурологический анализ молчания как апофатической формы духовного опыта на трех уровнях: феноменологическом, экзистенциальном и онтологическом. Работа поэтому состоит из трех глав, каждая из которых содержит два параграфа.
Первая глава работы - "Опыт молчания: молчание как эстетический феномен" - посвящена феноменологическому рассмотрению безмолвия в многообразии вариантов его актуализации на уровне дискурсивных практик, как персональных, индивидуальных, так и социокультурных, и последующему выявлению его инвариантной внутренней формы. В первом параграфе, "Нулевая степень дискурса. Варианты актуализации молчания", выясняются дискурсивные аспекты проблемы. Вслед за Р.Бартом, который в своей книге "Нулевая степень письма"26 посвящает отдельную главу анализу соотношения письма и молчания, автор рассматривает формы существования молчания в речевых контекстах. Молчание рассматривается здесь как особый способ отношения к смыслу, который находится с языком в антиномических отношениях. Второй параграф, "Логос безмолвия. Инвариантная внут ренняя форма молчания", содержит описание константных свойств, конституирующих молчание как феномен.
Во второй главе - "Молчание как граница эстетического" - предметом исследования становится экзистенциальный статус молчания как модуса существования личности на границе, перед лицом фундаментальных реальностей (рождения, истины, смерти). Первый параграф, "Возможность перевода как эстетическая проблема", посвящен анализу соотношений языков и молчания в сфере экзистенциального и культурного опыта личности, рассмотрению проблемы переводимости, сообщения опыта средствами языка. Во втором параграфе, "Молчание как эстетическая репрезентация истины", рассматривается экзистенциальная значимость молчания, обусловленная тем , что в граничных ситуациях нет смысла говорить, и гносеологическая обоснованность молчания как основы опыта искусства, связанная с тем обстоятельством, что истина, не поддающаяся процедуре верификации, подвластна версификации, способна принимать художественую форму.
Третья глава - "Онтоэстетический статус молчания" - рассматривает с эстетических позиций онтологическую значимость молчания как неопосредованного доступа к основам мира и в конечном счете - как открытости измерения священного. В первом параграфе, "Молчание как ничто: эстетические основания апофазиса", раскрывается роль молчания в преодолении сущего как развертывания данностей, уже освоенных в предшествующем культурном и персональном опыте и потому ограничивающих свободу личности. Такое преодоление необходимо для выхода на тот уровень опыта, где невозможное становится необходимостью. Второй параграф, "Молчание как любовь: этика преодоленной формы", посвящен раскрытию связи между феноменами молчания и любви, которая позволяет конкретизировать онтологический статус молчания как преодоления границ формальной разобщенности, пребывания в тайне, полноты общения.
Результаты проведенного исследования обобщаются в Заключении.
Логос безмолвия. Инвариантная внутренняя форма молчания
Из всех форм молчания в социуме молчание дилетантов представляется наиболее "чистым", свободным от признаков эпифеноменальности. Молчание народа или власти актуализируется в режиме сокрытия текстов, маргинальное молчание являет собою скорее проблему перевода, совместимости их языка с господствующими дискурсивными практиками. В каждом из рассмотренных случаев срабатывает один из социальных механизмов, преобразующих речь в молчание. В конечном счете ни народ, ни власть, ни маргиналы не выбирают между молчанием и словом, они оказываются в ситуации бессловесности помимо своей воли, просто в силу своего социального статуса. Для дилетантов молчание - свободно избранная позиция.
Новейшая отечественная история вызвала к жизни феномен внутренней эмиграции. Вероятно, термин "внутренняя" характеризует не только территориаль ное пребывание эмигрантов внутри страны, но и их особое духовное состояние принадлежности иному аксиологическому и интеллектуальному пространству. Молчание дилетанта раздражает власть именно потому, что за ним угадывается гражданство иного отечества. Отсюда истории с Мандельштамом и Ахматовой, которых провоцировали написать политически благонадежные стихи.
Право личности на молчание перед лицом государственных компетентных органов сегодня рассматривается как важная юридическая проблема48.
Одна из евангельских историй, к которым постоянно возвращается европейская культура - это молчание Христа перед судом. С.С.Аверинцев рассматривает различные интерпретации этого рассказа в первые века: ""Он все терпит молча, став безглаголен, дабы ликовал Адам!" - восклицает Роман Сладкопевец. "Безгласен стоял Говорящий громами, и без слова - тот, кто есть Слово". "Уловляющий в плен мудрецов совершил свою победу через молчание". Для этого поведения Христа, долженствовавшего стать этической нормой поведения христиан, византийские экзегеты указывали, разумеется, мистические основания, но наряду с этим - вполне практические причины, лежащие в социальной плоскости: "Научимся и мы отсюда, чтобы, если будем находиться пред неправедным судом, ничего не говорить... когда не слушают наших оправданий" (Блаж. Феофилакт Болгарский). Когда суд "неправеден" и человек отчетливо видит свою незащищенность, когда слово все равно не будет по-человечески расслышано, только молчанием еще можно оградить последние остающиеся ценности. Столь неэллинская черта евангельского эпизода была особо отмечена таким "обратившимся" эллином, как Ориген: "Спаситель и Господь наш Иисус Христос молчал, когда на него лжесвидетельствовали, и ничего не ответствовал, когда его осуждали". Для эллинов "необращенных" отсутствие красивых предсмертных изречений Учителя - просто глупость, доказательство невысокого духовного полета новой религии"49.
Молчание Иисуса на суде - сакральный архетип молчания дилетантов: судьи его слушались голоса своего разума, который им подсказывал, что "лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб" (Ин 11, 50), и голоса своего самолюбия, который им велел устранить опасного пророка. Перед такими людьми, твердо уверенными в себе, надежности своего разума и опыта, единственно достойное поведение - хранить молчание. Раз все уже решено, остается лишь безмолвствовать. Эта позиция нравственно точна и эстетически оправдана.
Итак, молчание как форма социального поведения раскрывает свою опасную двойственность: с одной стороны, в определенных обстоятельствах оно позволяет индивидууму противостоять репрессивным машинам общества и защитить если не жизнь свою, то достоинство. Однако, давая возможность сохранить худой мир, который, бесспорно, лучше доброй ссоры, оно в то же время способствует разверты ванию лжи, формированию псевдодействительности и тем самым - углублению антропологического кризиса.
Молчание и слово находятся в центре захватывающих игр власти и свободы. Среди прав и свобод человека, которые, без сомнения, принадлежат к числу великих завоеваний своременности, не последнее место занимает право на слово, что особенно актуально в ситуации разрушения иерархий, отмены запретов, перераспределения власти. Психологические исследования показывают, что у среднего нашего современника власть стойко ассоциируется с частотой говорения: кто говорит, тот и властвует, и наоборот50.
Но возможна ли свобода слова без свободы молчания? Не попадаем ли мы, реализуя эту конституционно гарантированную свободу, в зависимость от болтовни? Разве не право на слово делает действенными заклинания вроде "Голосуй или проиграешь" - и, зачарованные своим правом на слово, мы идем и рабски исполняем волю другого?
М.Фуко показал, как свобода слова трансформируется в обязанность признания: "Мы уже больше не воспринимаем ее как действие принуждающей нас власти \...\ Нужно иметь перевернутое представление о власти, чтобы считать, что именно о свободе говорят нам эти голоса, \...\ этот потрясающий наказ говорить о том, что ты есть, что ты сделал, что ты помнишь и что забыл, о том, что прячешь и что прячется, о том, о чем ты не думаешь или думаешь, что ты об этом не думаешь
Возможность перевода как эстетическая проблема
Понятие текста принадлежит к ключевым эпистемам европейской цивилизации. Не только культура воспринимается как Текст и совокупность текстов - все есть текст для человека постгутенберговской эпохи. Сама жизнь человека подобна книге. У нее есть начало и конец, из нее слова не выкинешь, и она понятна во всех подробностях лишь тогда, когда написана (или прочитана) до конца. В культуре существует презумпция того, что все в жизни может быть описано и выражено словом. Культура личного дневника не в последнюю очередь возникла именно из представления о том, что слово выступает гарантом подлинности прожитого и способом его сохранить.
Борхес в рассказе "Вавилонская библиотека" мифологизирует пантекстуаль-ность, приобретающую в ситуации смешения языков трагически-абсурдный характер, когда человек оказывается лишь необязательным приложением к Библиотеке-Вселенной: "Я думаю, что человеческий род - единственный - близок к угасанию, а Библиотека сохранится: освещенная, необитаемая, бесконечная, абсолютно неподвижная, наполненная драгоценными томами, бесполезная, нетленная, таинственная"68.
В.В.Бибихин подчеркивает, что "выбор между молчанием и речью" принадлежит "к первой и последней свободе человека \...\ Человеческая речь есть то, чего могло не быть. Текст есть ткань из молчания и слова"69. Похоже, что современность не оставляет пространства выбора. Появляясь на свет в логоцентрически организованном социокультурном пространстве, человек обречен видеть мир и самого себя вербально и текстуально. Поэтому молчание воспринимается по аналогии со словом, и всякий текст о молчании занимает свое достойное место в одном из шестигранников библиотеки Вавилона.
Слово имеет внутреннюю форму, обладает смысловой структурой, которая делает возможным соотнесение означаемого и означающего. Первый параграф на стоящей главы является опытом рассмотрения молчания как означающего. Теперь задачей исследования становится выяснение его внутренней формы.
Внешним образом молчание выступает как минус-текст, значимуая пауза в речевом процессе, лакуна в цепи смыслопорождения. Оставаясь на этом уровне понимания, возможно актуализировать антропологический аспект молчания, рассмотреть его в ряду коммуникативных стратегий, определить его религиозный и социальный статус, исследовать модусы его тематизации в художественной культуре. Тогда молчание предстанет как элемент языковой системы, отличие которого от прочих знаков состоит лишь в том, что он не имеет фиксированного денотата, не обладает точным экстенсионалом и, следовательно, являет собой пустоту, которая может быть заполнена чем угодно в зависимости от контекста.
Ж.Деррида в беседе с В.А.Подорогой, где речь шла о литературе как "борьбе с языком ради демонстрации ряда особых идей, которые не могут найти адекватного выражения в языке, не вписываются в него, \...\ борьбе за какую-то неязыковую реальность, во имя которой он приносится в жертву"70, постулирует различение невербального и атекстуального: "Я полагаю, что есть нечто довербальное, и это нужно принимать в расчет, но довербальное при этом не является атекстуальным, простым чувством, неструктурируемым аффектом" . Довербальное, находящееся вне пределов языка, не есть эмоция, чувственная стихия. Оно имеет отношение к смыслу, но реализует его иначе, чем язык, а именно - не используя формальный момент.
Молчание, вступая в. соприкосновение с языком, сохраняет свою невербаль-ность, но приобретает особого рода текстуальность, которую предлагается обозначить как негативную текстуальность.
Негативность молчания иная, чем языковая. Ее отношение к средствам отрицания, которыми располагает язык, метафорически описывается через отношение нуля к отрицательным числам: отрицательные числа по многим своим свойст вам подобны положительным, отрицательность их формальна, это лишь знак, указывающий на положение на числовой прямой. Нуль обладает особым статусом среди других чисел: строго говоря, это не число, но его радикальное отсутствие. Нуль в системе координат - точка порождения и уничтожения числа, на нем основывается система чисел, но им же она и поглощается. Подобным образом молчание, рассматриваемое в контексте дискурсивных практик, одновременно обосновывает речь и разрушает ее.
Семиотически молчание выступает и в роли нуля, и в роли бесконечности, к которым равно устремлена внутренняя логика дискурса. Не означая ничего из мыслимых вещей, молчание отсылает нас к пределам возможного - полноте и ничто. Его присутствие в любом тексте создает игру трансцензуса, обращенности к реальностям полноты, преодоления мира через переживание его единства, и ничто, выхода к корням бытия через радикальный отказ.
Молчание нетождественно ничему в мире. Удел слов - отождествляться с тем или иным, вступать в брак с вещами. Молчание свободно от этой необходимости что-то означать, оно может это делать, а может и не делать. Логоцентрическо-му сознанию свойственно считать, что всякое молчание есть молчание о чем-то, но свободному созерцанию раскрывается то обстоятельство, что молчание, в отличие от умолчания, всегда ни о чем из доступного нам в мире. Вечная страсть разума -помыслить "о чем-то" - в молчании исцеляется (в прямом смысле слова - обретает целостность, преодолевает расколотость, поврежденность и становится простым целым). Безмолвие освобождает сознание от заложенной в языке необходимости анализировать, синтезировать, классифицировать, сопоставлять, выделять и так далее.
Молчание как эстетическая репрезентация истины
Формами духовного опыта названные феномены являются по двум причинам. Во-первых, в них этот опыт выражен. Стихия опыта все-таки воплощается в некоторых формах. Во-вторых, это пути добывания опыта. Конечно, опыт "настигает мгновенно, врасплох", он непредсказуем. Но человеку свойственно предполагать, что на каких-то путях он "бывает", что в каких-то местах его можно добыть.
Речь, молчание, деяние и недеяние - это формы, в которых духовный опыт нам дается, и пути, которые к нему ведут. Действительно, а что еще есть в пространстве соприкосновения человека с миром, кроме слова и молчания, поступка и недеяния? Бывают еще "темные двойники", говоря на языке романтизма, а именно: рядом с речью всегда крутится болтовня, деяние склонно деградировать в суетящийся активизм, молчание скатывается в немотствование, а недеяние оборачивается мертвенной расслабленностью безволия. Все вышеперечисленные феномены выпадают из сферы духовного опыта, потому что такие состояния постигают человека как раз тогда, когда он существует вне вдохновения трансцензуса.
В основе ответственного языкового поведения свободного индивидуума лежит опыт. Апологию опыта как предстояния миру в простоте, в свободе от любых обязательностей и традиций, от чужой воли и чужого слова, как верности своей глубине и готовности принять все, а не только то, что соответствует персональным ожиданиям, представляет собою "L expenence interieure" Батая . Эта книга свидетельствует об одном важном свойстве опыта: при всей своей несообщаемости он так и провоцирует разделить его с другими.
С точки зрения экзистенциализма философия и есть экспликация духовного опыта: "Философия есть наука о духе. Однако наука о духе есть прежде всего наука о человеческом существовании. Именно в человеческом существовании раскрывается смысл бытия. Бытие открывается через субъект, а не через объект. Поэтому философия с необходимостью антропологична и антропоцентрична. Экзистенциальная философия является познанием смысла бытия через субъект. Субъект экзистенциален. В объекте, напротив, внутреннее существование закрывается. В этом смысле философия субъективна, а не объективна. Она основана на духовном опы-те"81.
Здесь возникает одна сложность, связанная с природой опыта, который "является единством лишь в силу своего эстетического качества"82: опыт как живая целостность с трудом поддается переводу.
Гарантом сообщаемости опыта является язык. Способы экспликации пережитого опыта различны. Его можно формализовать в пределах научной рациональности, как поступил, согласно легенде, Ньютон с упавшим ему на голову яблоком; из него можно извлечь практическое умение - так хозяйки учатся печь пироги; он может быть эмоционально, интерпретирован - так говорит Флобер об education sentimentale. Рефлексия опыта в принципе возможна в любом дискурсе. При этом опыт перестает быть самим собой, нарушается его целостность и живая убедительность, зато он приобретает сообщаемость, становится возможным поделиться опытом с другим. И все-таки мы можем говорить обо всем, кроме того, что единственно достойно того, чтобы об этом говорить: "Значенье - суета, и слово - только шум, когда фонетика - служанка серафима" (Мандельштам). В любой интерпретации опыта остается непереводимым некоторый таинственный остаток.
Как только эстетически целостный опыт подвергается сообщению, встает проблема языка (языков) и их пригодности для перевода опыта. Несовершенство выразительных возможностей языка становится очевидным уже в обычной практике перевода, tra-ductio. Любому переводчику знакомы ситуации, когда смысл текста понятен, но дать ему эквивалент не удается, потому что, пробуя разные варианты, обнаруживаешь остаток, который невозможно передать, причем возникает ясное чувство, что этот факт указывает не только на богатство и гибкость языков, но и на независимое от языковой ткани бытие смыслов. То, что нормально существует в плане понимания, непереводимо в план выражения. Если эффект остатка неизбежен при переводе текста в текст, тем значительнее и весомей этот нерастворимый остаток при переводе целостного опыта на язык.
С этой точки зрения всякое письмо есть практика перевода , и философия получает свое обоснование как искусство перевода, обратной трансгрессии, выявления трансцендентного средствами языка84, и именно на путях перевода и выявляется несовершенство и ограниченность языковых моделей, их несоответствие с многомерной реальностью. А.Уотс, изучавший восточные созерцательные практики, констатирует: "Общение с помощью конвенциональных знаков представляет нам мир в абстрактном линейном переводе. А ведь это мир, где на самом деле все происходит "сразу", одновременно, и его конкретная реальность никак не поддается адекватному выражению в столь абстрактных символах \...\ Линейный, "поэлементный" характер речи и мысли особенно отчетливо проявляется во всех языках, где есть алфавит и переживание выражается длинной цепочкой букв"85. Опыт неуловим средствами языка: "Слова - это трафареты майи, ячейки ее сетей, а переживание (опыт) - вода, протекающая сквозь них" . Одна из причин этого -бинаризм языковых и логических структур, от которых реальность свободна: "Внесловесный, конкретный мир не содержит ни классов, ни символов, которые всегда означают или указывают на что-то иное" .
Молчание как любовь: этика преодоленной формы
Вторая причина, по которой молчание приобретает свою экзистенциальную значимость, состоит в том, что в граничных ситуациях нет смысла говорить. Дело не только в том, что индивиду неизвестен язык, способный выразить опыт транс-цензуса, но и в том, что такой язык невозможен. Рождение, истина, любовь, смерть - одним словом, все, что ведет за предел возможного, противится знаковому воплощению.
Философия была и остается экзистенциально напряженной ситуацией пред-стояния истине и поиска ее одновременно. Однако если классическая философия полагала язык надежным средством для выражения истины, то сегодня философский интерес смещается в сторону выявления неконцептуального в концепте, репрезентации "полного, нередуцированного опыта в сердцевине концептуального рассуждения"1 . Философский дискурс все более утрачивает свойства, сближавшие его с чистой наукой, и приобретает качество художественно выстроенной речи, к которой неприменима процедура верификации.
С этой точки зрения интересно проследить логику развития философии из антиномичной внутренней позиции философа, который предстоит истине и в то же время находится в поиске ее. Античная философия рождается и растет в лоне мифа, символа, поэзии. Однако представление о неизрекаемости истины уходит, вероятно, уже со времен Аристотеля, уверенно выстраивающего систему знания, т.е. исходящего из убеждения в том, что знание может быть систематизировано, упорядочено, выражено в рационально-логических конструкциях. Постепенно в философия перестает быть поэзисом, зато в ней крепнет техническая сторона, логическая, рациональная. Из свободного искусства она становится наукой, предполагающей свои методы, техники, приемы формализации смысла. Этот процесс вызывает к жизни великие системы с гегелевской на вершине.
У Гегеля философия становится замкнутым и самодостаточным методом. Мыслить означает для человека "творить из самого себя и для себя то, что он есть и что вообще есть"125. Человек ни в чем не видит иного, он находит в мире лишь развертывание собственного познающего духа, порождающего бесконечно повторяющиеся триады. Так, по Гегелю, "всеобщая потребность в искусстве проистекает из разумного стремления человека духовно осознать внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором он узнает свое собственное "я""126.
Современная философия сознает, что предмет философии бесконечен, но претензия на овладение этим предметом, свойственная всякой системе, делает философию конечной, а следовательно, несостоятельной (Т. Ад орно). В конце второго тысячелетия всеохватывающие системы вряд ли возможны, отважиться на их построение значило бы не бояться предстать скучным и смешным.
Напротив, в центре философского интереса оказываются неповторимые и несистематизируемые артефакты. Эстетика оказывается ведущей сферой философского знания именно потому, что владеет методиками работы с уникальными чувственно постигаемыми смыслами. Ясперс говорил, что "мир - это чужая рукопись, недоступная универсальному прочтению, которую расшифровывает только экзистенция" . Философия, имеющая дело с миром-рукописью, жизнью-текстом, становится герменевтикой. Эстетические категории и методы оказываются применимы к философии вообще. Более того, если прочесть мировой манускрипт способна лишь экзистенция, то каждое прочтение уникально, его внутренний закон неприменим к другим прочтениям. Общее - лишь молчание. Если нет универсального языка, нам остается универсальное молчание, в котором укоренены экзистенции.
В философии Хайдеґгера молчание становится одним из ключевых концептов: "Так, упомянув "голос бытия", Хайдеггер напоминает, что он молчалив, нем, беззвучен, бессловесен, изначально а-фоничен (die Gewahr der lautlosen Stimme verborgener Quellen...). Голос истоков неслышен /.../ Следовало бы напомнить, что смысл бытия никогда не является для Хайдеггера просто и строго "означаемым".
Не случайно этот термин не используется: это говорит о том, что бытие уклоняется от движения означивания - положение, в котором можно услышать повторение классической традиции, равно как и недоверие по отношению к метафизической по теории или технике сигнификации" . Смысл бытия лежит принципиально вне языка. Он не может быть выражен и прочитан в знаковых системах. Молчание выступает как голос бытия и незнаковая система общения, приобщения к истокам.
Таким образом, в XX веке изменяется само философское понимание истины, происходит движение от новоевропейского рационализма к легитимизации нера-ционализируемых (во всяком случае, в пределах классической парадигмы) и невер-бализуемых реальностей. Следует отметить, что такое представление об истине всегда было представлено в культуре, но оказалось маргинальным в сознании европейца: "Мы считаем знанием лишь то, что даос назвал бы условным, конвенциональным знанием: мы не чувствуем, что знаем нечто, до тех пор, пока не можем определить это в словах или в какой-нибудь другой традиционной знаковой систе-ме"129.
По Лиотару, философ идентифицирует сферу радикального молчания и находит новые идиомы, новые пути проговаривания этого молчания. Философия стаг новится невозможным и парадоксальным искусством обозначения невыразимого го .
Владение этим искусством описания неописуемого демонстрирует Деррида. Самое интересное для него - реальность, ускользающая от дефиниций языка, например, differance: "Артикулируя живое в основном через неживое, источник всякого повторения, исток идеального, она не более идеальна, чем реальна, не более интеллигибельна, чем чувственна, являет собою не более прозрачное обозначение, чем непроницаемую энергию, и никакой метафизический концепт не может ее описать"