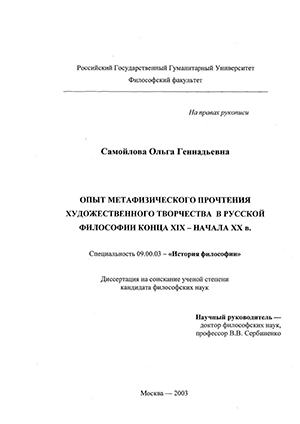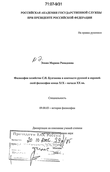Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Опыт прочтения художественного творчества в метафизике всеединства: B.C. Соловьев, С.Н. Булгаков 13
Часть I. Метафизика красоты в эстетике B.C. Соловьева 13
Часть II. Философия искусства С.Н. Булгакова в контексте его религиозной философии 59
ГЛАВА II. Философская эстетика творящей личности у В.В. Розанова и русских экзистенциалистов (н.а. бердяев и лев шестов) 82
Часть I. Эстетика культурного пространства в философских сочинениях В.В. Розанова 82
Часть II. Концептуализация русской литературы в русле религиозно-философского персонализма Н.А. Бердяева 107
Часть III. Концептуализация русской литературы Львом Шестовым как творчества из абсурда 129
Заключение 152
Библиография
- Метафизика красоты в эстетике B.C. Соловьева
- Философия искусства С.Н. Булгакова в контексте его религиозной философии
- Эстетика культурного пространства в философских сочинениях В.В. Розанова
- Концептуализация русской литературы Львом Шестовым как творчества из абсурда
Метафизика красоты в эстетике B.C. Соловьева
B.C. Соловьев - создатель метафизики всеединства, посвятивший свои размышления идеям внутреннего единства бытия как универсума, взаимопроникновения отдельных его компонент и взаимного тождества специфических элементов бытия. Важную роль в его модели познания и осмысления мира играет красота как принцип, обеспечивающий это взаимное тождество и взаимопроникновение. На концептуализации красоты как составляющей триады «истина - добро - красота» зиждется философская эстетика Соловьева.
Обращаясь к рассмотрению принципов концептуализации русской литературы B.C. Соловьевым, хотелось бы обратить внимание на значимое, с нашей точки зрения, высказывание автора о его видении смысла философской критики. "Прямая задача критики, - по крайней мере, философской, понимающей, что красота есть ощутительное воплощение истины, - состоит в том, чтобы разобрать и показать, что именно из полноты всемирного смысла, какие его элементы, какие стороны или проявления истины особенно захватили душу поэта и по преимуществу выражены им в художественных образах и звуках. Критик должен "вскрыть глубочайшие корни" творчества у данного поэта не со стороны его психических мотивов — это более дело биографа и историка литературы, — а главным образом со стороны объективных основ этого творчества, или его идейного содержания.
Что же касается до единой и единственной в своем роде индивидуальности данного поэта, налагающей свою несказанную печать на его творчество, то ее можно только отмечать, указывая на те произведения, в которых эта индивидуальность чувствуется с наибольшей ясностью и полнотою", - пишет B.C. Соловьев в статье "Поэзия Полонского", увидевшей свет в "Ежемесячных литературных приложениях к журналу "Нива" в 1896 году1.
По ряду причин Соловьев редко формулирует свою позицию относительно того, что такое философская критика искусства и каковы ее главные задачи, и еще реже использует словосочетания типа "философия искусства", "философская критика", равно как совсем редко дает определения. Поэтому приведенный отрывок ценен главным образом потому, что выявляет главный принцип эстетики Соловьева.
B.C. Соловьев не ставит цели построения собственно философии искусства и не озабочен методологией: для мыслителя понимание красоты как "ощутительного воплощения истины" (добавим, добра) и является исходной точкой любой методологии и одновременно залогом ее действенности. Философ не ставит себе задачи раскрыть механизмы постижения истины, которую полагает само собой разумеющейся и наличествующей в мире, но предпочитает роль наставника, служащего идее нравственности. Поэтому философско-эстетические работы Соловьева не являются, в строгом смысле исследовательскими - в них отсутствует поиск истины, а точнее, процесс этого поиска. Исходная посылка, содержанием которой является констатация факта единства истины, добра и красоты (за логическим выведением этой посылки неискушенному читателю следует обращаться к другим, уже строго философским работам Владимира Соловьева), со всей неумолимостью задает и финал, заключающийся в констатации того же факта.
Статья "Поэзия Полонского" написана в середине 90-х годов XIX в., а к этому времени взгляды Соловьева на искусство были не только сформулированы, но и не подвергались переосмыслению: смысл искусства для Соловьева очевиден и заключается в его нравственной миссии. Соловьев, как мы увидим, выступает не всегда как философ-критик, но еще и как биограф и историк литературы (иногда сразу в трех ипостасях, например, в знаменитой статье "Судьба Пушкина"). Причем, отсутствие четко выраженных границ между филологическим, историко-литературным, психологическим, публицистическим и философским подходами, иногда как бы намеренное умолчание различий между ними, безусловно, является отличительной чертой стиля прочтения Соловьевым художественного творчества вообще и русской литературы в частности. Добавим, что подобная черта, во многом благодаря B.C. Соловьеву, будет свойственна русскому религиозно-философскому подходу к художественному творчеству.
Показательно также, что в сопоставлении "объективных основ" творчества, его "идейного содержания" с "индивидуальностью" художника для Соловьева безусловным приоритетом обладает "объективное" и "идейное" содержание. Что же касается "индивидуальности данного поэта", то здесь Соловьев использует не вполне прозрачный термин несказанная (курсив Соловьева) печать". По его мнению индивидуальность "запечатывает" творчество художника, делая невозможным для философа-критика прибавить со своей стороны что-либо существенное об индивидуальных отличиях этого самого творчества.
Соловьев указывает на то, что философскую критику интересуют "глубочайшие корни" творчества у данного поэта. Здесь мы находим внутреннее противоречие, так как невозможно вскрыть никаких корней и основ индивидуальности, лишь ""отмечая и указывая (курсив наш - О.С.) на те произведения, в которых эта индивидуальность чувствуется с наибольшей ясностью и полнотою".
Тем не менее, попытка разгадать тайну творчества и творческой личности - одна из отправных точек философского анализа литературы в России и одна из главных тем философской эстетики Соловьева. Свой взгляд на философскую критику Соловьев неслучайно высказывает в статье, посвященной разбору поэтического творчества. Именно поэзию философ считал наиболее чистым воплощением красоты и из всех форм художественного творчества более всего ценил. Отметим, что одной из отличительных черт философской критики Соловьева является антиномичность ее стиля.
Прежде чем переходить к детальному рассмотрению эстетики и литературной критики Соловьева, необходимо оговорить некоторые методологические моменты.
Во-первых, Соловьев, размышляя в направлении, проложенном немецкой классической философией, тем не менее, не создает произведений, которые являлись бы только русифицированным ее вариантом. Близость Соловьева к Канту, Шеллингу и Гегелю бесспорна. Естественно, она проявляется и в его понимании красоты. Но при этом Соловьев является автором, безусловно, оригинальной системы миропонимания в самых существенных своих интуициях.
Концептуализация красоты в эстетике Соловьева ведется с позиции более активной ее роли, чем в философии искусства Канта, которая отличается большей степенью созерцательности; реальное воплощение красоты в мире концептуально важнее для Соловьева, нежели для Гегеля; по сравнению с генетически близкой Соловьеву системой Шеллинга, вопрос о творческой роли человека как со-творца Бога для российского метафизика гораздо актуальнее. При всем этом для понимания эстетики Соловьева важно констатировать его пребывание в проблемном поле, очерченном предшественниками.
Философия искусства С.Н. Булгакова в контексте его религиозной философии
Тем не менее, здесь необходимо отметить мотив написания Соловьевым статьи "Судьба Пушкина", в котором, на наш взгляд, проявляется индивидуально-эмоциональное отношение философа к поэту. Этот мотив - попытка смягчить не затихающую боль утраты. Пушкин не мог не погибнуть, ибо на то был Промысел Божий.
В решении же вопроса о природе судьбы не обнаруживается единства в позиции Соловьева. Во-первых, судьба понимается как то, что человек сам создает, ибо человеку как свободному существу нелепо быть игрушкой слепых стихий; затем Соловьевым предлагаются апофатические определения судьбы и, наконец, мы видим, что "темное слово "судьба" лучше нам будет заменить ясным и определенным выражением Провидение Боэюие"2. Конечно, Провидение Божие окончательно расставляет все точки над і, но в данном случае излюбленный прием Соловьева - рассматривать все в свете окончательного состояния мира - скорее запутывает проблему, и тайна личности художника так и остается тайной для самого философа.
В статье "Лермонтов" Соловьев рассматривает творческую личность поэта через призму противоречия между индивидуальным (частным) и идеальным (всеобщим) началами. Первая особенность лермонтовского гения заключается в сосредоточенности на собственном Я. Вторая — это способность удваивать реальность: Соловьев подчеркивает, что Лермонтову дано видеть и непосредственно осязать потустороннее. Фигура поэта трактуется как "зародыш" такого "определившегося и развитого вида, какой он получил в организме взрослом"3 - а именно Ницше. В самом начале статьи Соловьев дает уничижительную характеристику эгоизму Ницше, предтечей которого явился Лермонтов с его гипертрофией Я. Феномен гениальности Лермонтова рассматривается в контексте ницшеанского миросозерцания, и, анализируя логику Соловьева, читатель, следуя этой логике, мог бы приписать пророческую миссию уже самому Ницше, поскольку гипертрофия личности как одна из фундаментальнейших черт творчества европейского философа вызвана переизбытком культуры в самом себе.
По Соловьеву, Лермонтов являет собой пророка, который так и не смог или не захотел реализовать себя в этом качестве, ибо был слишком сосредоточен на себе, а не на таких областях раскрытия человеческих творческих способностей, как история, культура и т.д. Поэт чувствовал в себе задатки сверхчеловека, свою гениальность, но отнесся к ней как к праву, а не как к обязанности. Интуиция же "сверхчеловеческого" начала собственной личности помогала Лермонтову осознавать и то зло, с которым ему придется бороться. С этим связана столь близкая ему тема демона.
Впрочем, к творчеству Лермонтова Соловьев обращается чаще за подтверждением собственных мыслей об ответственности гения: так же, как в работе "Судьба Пушкина", в "Лермонтове" творчество поэта не рассматривается как целостное явление. Философ очерчивает замкнутый круг, в который попал Лермонтов: "Сильнейшее развитие личного начала есть условие для наибольшей сознательности жизненного содержания, но этим не дается само это содержание жизни, и при его отсутствии сильное "Я" остается пустым. Оставаться совершенно пустым колоссальное "Я" Лермонтова не могло, потому что он был поэт Божией милостью, и, следовательно, все им переживаемое превращалось в создание поэзии, давая новую пишу его "Я"1. Соловьев говорит о творческой личности Лермонтова, но под личностью понимается некий сосуд, пустое "Я", бесконечно требующее наполнения и не слишком разборчивое в пище.
Что касается метода, которым руководствовался Соловьев в работе над статьей, то об этом сам автор пишет на последних страницах. Ведомый "обязанностью сыновней любви и почтения", Соловьев обращается к читателям: "Вы мне поверьте, что прежде, чем говорить публично о Лермонтове, я подумал, чего требует от меня любовь к умершему, какой взгляд должен я высказать на его земную судьбу, - и я знаю, что тут, как и везде, один только взгляд, основанный на вечной правде, в самом деле, нужен и современным, и будущим поколениям, а прежде всего - самому отошедшему"1. Необходим же этот взгляд, дабы облегчить бремя лермонтовской души. "Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает еще их привлекательными для неопытных, и если хоть один из малых сих вовлечен им на ложный путь, то сознание этого, теперь уже невольного и ясного для него, греха должно тяжелым камнем лежать на душе его. Обличая ложь воспетого им демонизма, только останавливающего людей на пути к их истинной сверхчеловеческой цели, мы, во всяком случае, подрываем эту ложь и уменьшаем хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душе"2.
Привлечение отрывков из статьи способствует пониманию пафоса творчества Соловьева: воспринимая литературу, поэзию как реальное дело, наполненное реальным, что называется, жизненным, содержанием, и также реально влияющее на нашу земную жизнь постольку, поскольку она есть залог жизни будущей, Соловьев относился к самим художникам не просто как исследователь, но как христианин, лично братски заинтересованный в спасении мятущейся души поэта. Часто подобное личное отношение было для Соловьева значимее строгости исследования.
Акцентируя предчувствие поэтом собственной смерти, Соловьев осуществляет попытку филологической интерпретации стихотворения "Сон", в котором, по мнению философа, "Лермонтов видел ... не только сон своего сна, но и тот сон, который снился сну его сна, - сновидение в кубе". Однако в тексте картина другая: "Мертвый сон" - это состояние лирического героя, который лежит недвижим в долине Дагестана; ему снится "вечерний пир в родимой стороне" - это второй сон. Третий же сон снится одной из "юных жен". Стихотворение построено так, что лирический герой как бы видит и этот третий не свой сон, о чем Соловьев и пишет. Однако при этом мы имеем дело не с видением некоего живого человека (пусть это будет Лермонтов), а с материалом художественного произведения. Это произведение есть результат творческой деятельности лермонтовской поэтической личности, которой свойственно было разворачивать метафорический ряд, исходя из мотива собственной смерти.
Проблема творческой личности, поэтического гения решается Соловьевым не только через рассмотрение биографических подробностей жизни поэтов и уяснение специфики их судьбы, но также через философское осмысление сущности поэзии. При этом темы поэтической личности и поэзии настолько тесно связаны для Соловьева, что невозможно понять одно без другого: именно в поэзии мы имеем дело с чистой красотой без примеси тенденциозности, и именно поэт являет собой суть творческого гения. За раскрытием этой проблематики философ вновь обращается к Пушкину.
Эстетика культурного пространства в философских сочинениях В.В. Розанова
Тексты Булгакова отличаются тем же отсутствием научной строгости и некоторой художественностью, что и у Соловьева. Можно даже сказать, что Булгаков чаще позволяет себе переложение философской мысли на художественный язык. Стилистические приемы философа можно проиллюстрировать следующим образом: "Идея ощущает себя в красоте. Тем самым она любит самое себя, познает себя как прекрасную, влечется сама к себе эротическим влечением, в некоей космической влюбленности. Не чувствуется ли это влечение в напряженном томлении красы вселенной, в пламенении полдня, застывшего в своей истоме, в млении моря, сверкающего под горячими поцелуями солнца, в подъеме горных высей, простирающих к небу свои белоснежные пики? Не влюблена ли природа в красу свою и не есть ли в красе этой что-то девичье, стыдливое и страстное? Поэты и художники одни лишь видят и знают эту космическую Афродиту, ее самолюбование, влюбленность природы в свою идею, творения в свою форму".
Можно сказать, что философия искусства у Булгакова ближе к кантовской эстетике, чем у Соловьева, в том, какую роль он отводит искусству. Не красота завершает всеединство, а философия искусства завершает метафизическую систему. У Канта сама система требует завершения посредством выявления и анализа априорных оснований способности суждения, в то время, как Соловьев отвечает на насущное, с его точки зрения, требование, исходящее от универсума: быть отраженным теоретически и в завершенном виде, быть воплощенным в одухотворенной и одухотворяющей красоте. С другой стороны, именно религиозно-философское прояснение таких понятий, как софиургия, теургия и т.д., рассмотрение феномена художественного творчества и искусства через
Остается отметить, вместе с тем, что Булгаков читает, анализирует и интерпретирует литературные произведения именно в русле религиозно-философского мышления. Так, темы, поднятые Владимиром Соловьевым, были дополнены, а иногда кардинально переработаны. Однако, поскольку Булгаков все же не выходил за рамки соловьевской методологии, то и принципиально новых тем и их решений в отечественной литературной традиции им обнаружено не было. Правильно будет сказать, что Булгаков развивает философию искусства Соловьева, таким образом проясняя ее. Что же касается самого развития и углубления ранее обозначенных Соловьевым тем, то оно, безусловно, самостоятельно и индивидуально - это касается и темы судьбы, и проблемы медиумичности творца, и вопроса о сущности творческой личности.
Обозначим основные черты метафизического прочтения Булгаковым русской литературы. Во-первых, это концептуализация отечественной литературы, как и художественного творчества вообще, в горизонте реальностей надфизических (ноуменальная сфера, вечная женственность, божественная София, Душа Мира и т.д. - вот истинные источники искусства). Во-вторых, связанный с подобным прочтением поиск скорее универсальных мотивов и характеристик русской литературы, чем национальных, и в этой связи особую актуальность получают названные нами тема судьбы, проблема творческой личности и тема медиумичности в искусстве.
В данной работе мы рассматриваем литературно-критические статьи С.Н. Булгакова, написанные в разные периоды его жизни и посвященные как творчеству отдельных писателей, так и общим проблемам существования искусства в обстановке поиска новой изобразительности. Во-первых, это работы, созданные в десятые годы XX в. и посвященные отдельным фактам культуры. Во-вторых, это произведения, в которых философия искусства рассмотрена в русле софиологической этики1. В-третьих, - собственно религиозно-философские сочинения Булгакова, созданные им еще до эмиграции в Европу. Особняком стоит статья "Жребий Пушкина"2, написанная философом уже вне России и значительно позже по времени.
Статья С.Н. Булгакова "Русская трагедия" посвящена рассмотрению романа Достоевского "Бесы". Булгаков считает, что "Бесы" не реалистический роман, как это принято считать, а трагедия: тем самым жанровое литературное деление оказывается несущественным при сравнении с содержанием данного литературного произведения. Игнорирование Булгаковым специфики литературы как вида искусства, ее морфологии (соотношение содержания и формы) сразу же дает наглядный пример своеобразия подхода философа.
Трагедией может явиться любое произведение, даже формально принадлежащее другому жанру, т.к. истинное содержание любой трагедии -это неотвратимость судьбы героя (а что касается этой темы, то "Бесы" Достоевского - это, наверно, самый "фатальный" роман во всей русской литературе). Что касается реализма, Достоевский реалистичен постольку, поскольку его творчество имеет отношение к реальностям высшего порядка - для Булгакова важно, что именно этот художник говорит в своих произведениях о сущности и силе запредельного.
Так, "Бесы" посвящены событиям социально-политическим, раскрытию особенностей межличностного общения людей, зараженных идеей террора. На самом деле в романе решаются судьбы на метафеноменальном уровне. Булгаков ссылается на самого автора, который . называл себя реалистом, ибо исследовал глубины души человеческой. Трактовка Булгаковым реализма важна потому, что здесь мы сталкиваемся с пониманием художественного стиля не с литературоведческой точки зрения, а с философской, что дает возможность осуществить именно философскую критику. Такая критика позволяет снять противоречие и выявить тождество реализма и символизма. "Роман "Бесы", как и все вообще творчество Достоевского, принадлежит к искусству символическому, причем символика его только внешне прикрыта бытовой оболочкой, он реалистичен лишь в смысле реалистического символизма (по терминологии Вяч.И. Иванова); здесь символизм есть восхождение а realibus ad realiora (от реального к реальнейшему), постижение высших реальностей в символах низшего мира"
Судьба героев романа неотвратима потому, что главный, истинный его герой - ноуменален, и этот скрытый герой - Христос. "Русский Христос -вот настоящий, хотя и незримый, непоявляющийся герой трагедии "Бесы", только Он властен изгнать "бесов", силен исцелить бесноватого"2, и Он изгоняет российских "бесов" из социально-исторической действительности, тем самым, уничтожая их и в мире высших реальностей. Христос "мучит Собою духов зла и ими одержимых. Такое состояние мучения о Христе переживают и главные герои "Бесов"3.
Концептуализация русской литературы Львом Шестовым как творчества из абсурда
Н.А. Бердяев реализует такой тип философского мышления - в частности, мышления о художественном творчестве и, особенно, литературе, - с которым мы до сих пор не сталкивались. Философия Бердяева является, по сути, воплощением, текстовой реализацией его непрекращающегося диалога с самим собой. Поскольку сам тип сознания принципиально диалогичен, постольку диалог служит моделью как выстраивания отношений философа с объектами его философствования, так и взаимодействия всех содержательных мировоззренческих, метафизических, этических и эстетических компонентов его комплекса взглядов как целого. Экзистенциальный поиск предполагает равенство любых типов творчества (художественного, философского и прочих), а само творчество гарантирует и человеческую соприродность Богу, и постоянство взаимодействия человека с Богом, и, наконец, непрерывность приращения даруемого Богом бытия.
Везде, где бы мы ни анализировали у Бердяева суть творчества как непосредственно связывающей человека и Бога вертикали, мы видим и его плодотворные и продуктивные - в смысле метода анализа художественных созданий - размышления. С чем-то подобным мы встречались, говоря о подходе Розанова к самому себе как неделимому субъект-объекту, с одной стороны, и как к чему-то аналогичному художественному тексту, с другой. Отсюда - важное в концептуализации Розановым литературного творчества отождествление "чужого" творчества со "своим". Бердяев, напротив, позволяет нам выявить собственный тип прочтения русской литературы благодаря отсутствию подобного уподобления. Границы личности для философа непреступаемы, Бог говорит с каждым, и каждый, осуществляя свой индивидуальный творческий акт, выстраивает неповторимую лествицу. Розанов, по собственному выражению, наращивает "аппетит" в общении с мировыми культурными ценностями; духовная пища для него, -прежде всего "пища". Бердяев, напротив, полагает истинный модус мироздания в самом процессе соединения разнообразных его начал.
Свое внимание мы направили, прежде всего, на работы Бердяева "Смысл творчества. Опыт оправдания человека" (1916), "Кризис искусства" (1914-1917), "Миросозерцание Достоевского" (1921), "О назначении человека. Опыт парадоксальной этики" (1931), "Истоки и смысл русского коммунизма" (1937), "Самопознание. Опыт философской автобиографии" (1949), "Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого" (1952).
В "Смысле творчества", недаром имеющем подзаголовок "Опыт оправдания человека"1. Бердяев выводит творчество как основную человеческую задачу. Отталкиваясь от христианской концепции спасения, философ утверждает и, критически осмысливает идею самостоятельной деятельности человека как попытки выхода из Божественной воли. Творческая деятельность есть оправдание индивидуальной жизни. Таким образом, христианская диада искупление-спасение трансформирована: и искупление есть творчество, и спасение есть творчество.
Феномен "Смысла творчества" заключается в том, что свою работу философ сам переосмысливает гораздо позже, в книге "Самопознание", где одна из глав и посвящена концептуализации переживание творческого экстаза". Сам философ признавал недостаточность выражения важнейшей своей идеи в этой ранней книге: "Книга эта написана единым, целостным порывом, почти в состоянии экстаза. Книгу эту я считаю не самым совершенным, но самым вдохновенным своим произведением, и в ней впервые нашла себе выражение философом своей ранней работы: "Мир творчества": "Смысл творчества и моя оригинальная философская мысль. В нее вложена моя основная тема, моя первородная интуиция о человеке". И далее: "Глава об искусстве в книге "Смысл творчества" меня менее всего сейчас удовлетворяет".
Таким образом, сам Бердяев побуждает исследователя опираться при анализе "Смысла творчества" на текст "Самопознания". Заметим, что такое переосмысление собственного текста характерно для Бердяева-экзистенциалиста, полагающего категорию авторства значительно менее существенной, в сравнении с категорией выраженности той или иной мысли, "своей" или "чужой".
Антроподицея Бердяева посредством анализа творческого акта общеизвестна: "Творчество для меня не только оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие бесконечного, полет в бесконечность, не объективация, а трансцендирование. Творческий экстаз (творческий акт всегда есть экс-тасис) есть прорыв в бесконечность. Отсюда возникла для меня трагедия творчества в продуктах культуры и общества, несоответствие между творческим замыслом и осуществлением"3. Отсюда естественно вытекает его антропология. Человеческое переживание греха ведет к подавленности, а не к свободе. Подавленность преодолевается опытом творчества, понимаемым, прежде всего как внутреннее потрясение и озарение, а не как создание некоего художественного объекта. "В творческом опыте раскрывается, что "я", субъект, первичнее и выше, чем "не-я", объект"4.
Поскольку для Бердяева Бог и человек рождаются друг в друге, постольку ясно, что единственным условием их взаимодействия является свобода. «Свобода вкоренена не в бытии, а в ничто, свобода безосновна» , а "творчество есть творчество из ничего, то есть из свободы"2. Но если речь идет о человеческом творчестве как о результате, материальном воплощении рождающегося в нем чувства свободы, т.е. Бога, то ясна необходимость материи. Но "творческий акт человека не может целиком определяться материалом, который дает мир, в нем есть новизна, не детерминированная извне миром. Это и есть тот элемент свободы, который привходит во всякий подлинный творческий акт. В этом тайна творчества. В этом смысле творчество есть творчество из ничего"3.
Именно поэтому творческий акт как импульс, а не как предмет, направлен на преображение мира. Для Бердяева есть противоречие между первоначальным импульсом и культурным продуктом. Поэтому важно, что "Результаты творчества носят не реалистический, а символический характер"4. Таким образом, эти символические объекты есть, прежде всего, знаки реального преображения.
Реализм как метод для Бердяева эсхатологичен, поскольку истинный реализм есть способ преображения мира и одновременно - конец той реальности, которая существовала до преображения. Сама реальность, окончательно осуществляясь в "новом мире", побеждает символ: произведение искусства перестает быть знаком истинного бытия, являя собой самое это бытие. Бердяев пишет: "Моя тема была: возможен ли и как возможен переход от символического творчества и продуктов культуры к реалистическому творчеству преображенной жизни, нового неба и новой земли. В этом смысле творчество есть конец мира"5.