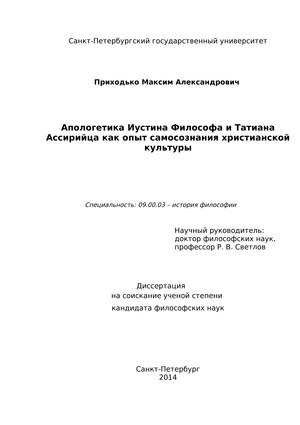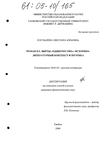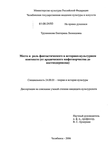Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Учение Иустина Философа о Богочеловеческой коммуникации 22
1) Учение о семени Логоса как естественный аспект Богочеловеческой коммуникации .22
2) Сверхъестественный аспект Богочеловеческой коммуникации44
Глава 2. Язык и культура в учении Татиана Ассирийца.60
1. Философия имени Платона и учение о языке в "Речи к эллинам"64
2. Отношение к слову как критерий истинной и ложной пайдейи у Платона и Татиана Ассирийца73
3. Античный театр и категория "подражания" в оценке Татиана Ассирийца .88
Глава 3. Существо языческой религии в понимании Иустина Философа и Татиана Ассирийца100
1. Демонология Иустина Философа и Татиана Ассирийца: осуждение фаталистической картины мира 100
2. Магия как существенная черта языческой религии в учении Иустина Философа и Татиана Ассирийца114
Заключение 123
Литература 129
- Сверхъестественный аспект Богочеловеческой коммуникации
- Философия имени Платона и учение о языке в "Речи к эллинам"
- Отношение к слову как критерий истинной и ложной пайдейи у Платона и Татиана Ассирийца
- Магия как существенная черта языческой религии в учении Иустина Философа и Татиана Ассирийца
Введение к работе
Актуальность
Из христианских писателей II в., получивших общее наименование «ранних апологетов», особое место в истории развития христианской мысли принадлежит Иустину Философу (или Мученику) и Татиану Ассирийцу. Эти авторы стоят у истоков христианской философии. В их сочинениях начинается процесс рецепции и фундаментального переосмысления эллино-римской культуры и, как мы показываем в нашей работе, осуществляется первый опыт собственно христианского философско-культурного самосознания. До сих пор рассмотрение наследия наших авторов под таким углом если и предпринималось, то – лишь в самом общем виде, без детального анализа и проработки. В нашей работе этот анализ впервые и предпринимается.
Степень разработанности проблемы
В отечественной науке творчество раннехристианских апологетов исследовалось, преимущественно, в сфере патристики и богословия. Единственный отечественный автор, специально исследовавший культурно-философский аспект творчества апологетов это Виктор Васильевич Бычков.
В зарубежной исследовательской литературе значительный интерес вызывала не только общая проблематика раннехристианской апологетики и связанные с ней вопросы генезиса христианской философии и культуры, христианской рецепции античной культуры в общем, но и собственно творчество Иустина и Татиана. Как одному, так и другому апологету был посвящен ряд монографий и большое количество научных статей. Но, несмотря на это, целый ряд существенных вопросов остается до сих пор не проясненным.
Концепция «семени Логоса» Иустина, наиболее отвечающая его фило-софско-культурному видению, на наш взгляд, не исследована во всей полноте. Одни авторы пытались осмыслить ее через соответствующие доктрины античной философии, другие – рассмотреть сквозь призму библейской теологии. До сих пор не было предпринято комплексного анализа учения Истина о «семени Логоса», включающего в себя как античные, так и библейские
источники этой концепции.
Исследования о Татиане также далеко не раскрыли философско-куль-турный потенциал наследия апологета. В течение двадцатого века в работах о Татиане явна тенденция устранения традиционных обвинений в еретичестве и переоценка его наследия: прежние характеристики Татиана как мыслителя второстепенного, темного и малозначащего сменяются признанием его полноценного значения в истории христианской мысли. Однако все еще остается нераскрытой существенная черта Татиана, замеченная еще в начале двадцатого века французским исследователем Эме Пуешем, - софистическая культура Татиана.
Материалом исследования являются апологетические сочинения Иу-стина Философа Первая и Вторая Апологии и Речь к эллинам Татиана Ассирийца, а также сочинения античных авторов, содержание которых так или иначе соприкасается с исследуемой проблематикой.
Объектом исследования является система апологетических учений Иустина Философа и Татиана Ассирийца, взятая в аспекте ее взаимодействия с античной философией и культурой, в ее диалогическом модусе.
Предметом исследования является начальный опыт становления раннехристианского философского самосознания, существенным моментом которого является диалог с культурными традициями античности и иудаизма.
Цель нашей работы: показать, каким образом первичные интуиции веры, посредством критической и конструктивной рецепции античного наследия раннехристианскими апологетами преобразуются в интуиции собственно философские и порождают начальный опыт христианского культурного самосознания.
Задачи работы:
раскрыть структурообразующее значение принципа логосности в мировоззрении и учении Иустина Философа, его античные и библейские источники;
выявить взаимопереход религиозных и философских интуиций в
понимании Иустином истории как пространства богочеловече-ского диалога и трансисторической типологии как его формы;
раскрыть общность Платона и Татиана Ассирийца в понимании природы слова и критериев истинной и ложной пайдейи;
проследить точки соприкосновения между Платоном и Татианом в понимании принципа убедительности речи и категории подражания;
раскрыть теологические и антропологические предпосылки антагонизма античного и христианского сознания в отношении к религиозным проблемам магии и судьбы.
Специфика нашей методологии определяется предметом исследования. Мы исходим из признания примата интуиций веры, задающих структуру, тип и стиль философского мышления изучаемых нами авторов. Эти же интуиции веры задают и тип культурного мышления апологетов, столь отличный от типа культурного мышления античности. Само же представление о сущности культуры и о человеке как деятеле культуры извлекается нами из этих же методологических предпосылок. Под культурной деятельностью мы понимаем деятельность индивида как выразителя интуиций целостности, что и делает его представителем определенной общности - коллектива, социума, человечества, космоса. Если в античности этими уровнями, собственно, и исчерпывается представление о человеке как деятеле культуры, то в христианском сознании к ним добавляется уровень сверхкосмический: человек в своей культурной деятельности предстает как соработник Бога-Творца.
Научная новизна исследования. Из проделанного нами анализа исследований об Иустине и Татиане мы выводим следующие перспективные линии исследования.
Мы попытались объединить разные подходы истолкования концепции Иустина о «семени Логоса», как ориентированные на аналогичные учения античной философии, так и исходящие из иудаистической и раннехристиан-
ской экзегезы дидактических книг Библии – Книги Притч и Книги Премудрости Соломона. Рассматривая доктрину Иустина о «семени Логоса» как основанную на этих двух основных источниках (античной философии и Библии) мы находим элементы уже самостоятельного учения Иустина о богоче-ловеческой коммуникации, его христианское осмысление универсальности личного Слова Бога.
Учение о «семени Логоса» Иустина мы интерпретируем в философско-культурном контексте, показывая как в религиозном переживания универсальности Логоса зарождаются специфически христианские философские интуиции, такие как жизнеутверждающая свобода воли и историзм.
В исследовании о Татиане мы сосредотачиваемся на его риторической образованности, его софистической культуре. Такой ракурс позволяет нам понять и раскрыть философско-культурный потенциал наследия апологета. Несмотря на то, что восприятие Татианом античной культуры окрашено ярко выраженным негативизмом, мы находим путь положительного истолкования его позиции. Критика апологетом античной пайдейи и греческого искусства, при внимательном рассмотрении не основана только на отвержении и отрицании. Мы находим подобные критические мотивы и в античной философии, главным образом, у Платона. За отвержением эллино-римского наследия, мы обнаруживаем у Татиана положительные идеи, имеющие органическую связь с лучшими достижениями античной философии, но переосмысленные в свете христианского опыта.
Еще один аспект новизны нашей работы – попытка преодолеть давно заложенную в истории философии и в патристике традицию противопоставления Иустина Татиану. Иустина принято характеризовать как эллинофила и конструктивного мыслителя, закладывавшего основу преемственной связи в процессе перехода от античности к христианству. Татиана, напротив, как антагониста греко-римской цивилизации, занимавшего несозидательную, не подлинно христианскую, еретическую позицию. Особенность нашего подхода заключается в попытке показать, что в общей картине историко-философ-6
ского процесса позиции и учения Иустина и Татиана могут быть представлены не только в аспекте противостояния, но и в аспекте взаимодополнения, поскольку в апологетических трудах того и другого мы находим первый опыт формирования философского самосознания христианской культуры. Положения, выносимые на защиту:
-
В учении Иустина Философа о «семени Логоса» наличествует синтез античных и библейских источников (стоическая доктрина «ло-госа-сперматикоса», среднеплатоническое учение о врожденных качествах, с одной стороны, и библейское учение о Премудрости Божией, с другой).
-
Формой осуществления богочеловеческого диалога, по Иустину Философу, является трансисторическая типология - раскрытие символов Священного Писания в исторической действительности.
-
Критика греческого языка Татианом становится полем развертывания его философских интуиций, обнаруживающих точки соприкосновения с философией имени Платона.
-
Существенным пунктом близости Татиана и Платона является выработка критериев истинной и ложной пайдейи на едином основании - выявлении ложной установки в отношении к логосу (avxdyiK Платона и уш Татиана).
-
Важным показателем культурносозидающей позиции Татиана является его представление о подлинной убедительности речи, созвучное учению об истинной риторике Платона.
-
В критике Татианом античного театра проявляется его глубинное понимание подражания как категории жизнеустрояющей, экзистенциальной.
-
Радикализм критической позиции Иустина и Татиана по отношению к языческой религии порождается интуициями нового понимания личностной свободы, несовместимой с фатализмом и магизмом язычества.
Научно-практическая значимость
Результаты диссертационной работы позволяют понять генезис раннехристианской философской мысли, раскрывают новые аспекты кризисной, переходной эпохи поздней античности. Широкое использование античных источников в анализе сочинений раннехристианских апологетов создает базис для новых исследований в области философии и культуры переходной эпохи от античности к христианству.
В образовательном процессе материалы и результаты исследования могут быть использованы для создания спецкурсов по философии раннего христианства (или специально раннехристианским апологетам) в рамках таких дисциплин как история философии, культурология, теология.
Научно-методологическая значимость работы состоит в том, что она открывает возможность исследования религиозной мысли в философском и культурологическом контекстах, не разрывая связь между областями религии, философии и культуры.
Апробация исследования
Основные положения исследования были представлены в докладах на историко-философских конференциях «Универсум платоновской мысли» (Санкт-Петербург 2010, 2011 и 2013 гг.), конференции «Иудаизм эпохи Второго Храма, раннее христианство и античность: взаимодействие в истории, литературе и культуре и отражение этого периода в культурной памяти Средних веков и Нового времени» (Санкт-Петербург, 2012). Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в научных публикациях, включая публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры истории философии СПбГУ 19 декабря 2013 г.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы.
2. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ В первой главе «Учение Иустина Философа о Богочеловеческой коммуникации» рассматривается учение Иустина Философа о «семени Логоса», отражающее его понимание культурно-созидательной роли Логоса.
В первом параграфе «Учение о семени Логоса как естественный аспект Богочеловеческой коммуникации» мы беремся исследовать учение о «семени Логоса» Иустина в его связи с подобными концепциями античной философии. Здесь наша задача – определить моменты общности и различия у античных авторов и Иустина в учении о богочеловеческой коммуникации и выявить на этой основе его оригинальное учение. Мы находим близким апологету учение стоиков о мировом разуме, к которому причастна душа каждого человека и вместе с тем выясняем, что для Иустина категорически неприемлем стоический монизм. В среднеплатоническом учении о врожденных «качествах» мы видим наличие важной Иустину потенциальной направленности человека к добродетели, реализуемой через определенные духовно-нравственные усилия при сохранении градации имманентного и трансцендентного. Однако и это учение во многом не отвечает иустинову видению богочеловеческой коммуникации, главным образом, ввиду его ограниченности этико-моральной сферой и опорой на пантеистическую космологию и антропологию.
В силу того, что Логос для Иустина – это личное Существо, воплотившееся в человеке Иисусе Христе, принцип богочеловеческой коммуникации для него не тождествен пониманию связи человеческого с божественным, единичного с целым в аналогичных античных концепциях. Принимая не только терминологию, но и некоторые положения стоицизма и среднего платонизма, Иустин, вместе с тем, отвергает присущее этим учениям представление о природном сродстве человеческой души сфере божественного. Поиск источников, на которые ориентировано понимание Иустином принципа богочеловеческой коммуникации, приводит нас к дидактическим книгам Библии – Книге Притчей и Книге Премудрости Соломона. Мы обращаем внимание на характерный для этих библейских книг мотив призыва, воззва-9
ния к человеческому существу, способного дать адекватный ответ на голос Бога, тем самым сделаться сопричастным божественному. Применяя учение о «Премудрости Божией» для разумения концепции «семени Логоса» Иусти-на, мы находим важное звено доктрины апологета – личностную богочело-веческую коммуникацию, сопричастие Логосу как Личности, открывающую возможность свободного Бого-человеческого диалога.
Во втором параграфе «Сверхъестественный аспект Богочеловече-ской коммуникации» мы исследуем само осуществление принципа Бого-человеческой коммуникации, как это понимает Иустин, – ее развертывание в исторической сфере. История здесь является «средой», или «пространством» Бого-человеческого диалога. Но, кроме того, историей в своем высшем смысле, историей спасения, является само божественное откровение, зафиксированное в Священном Писании. А история спасения – это не только то, что записано на страницах священного текста, это и сама историческая действительность, в которой Бог устраивает спасение человека, ведет его к определенной цели. Жизнь человека таким образом является продолжением истории спасения, написанной в Священном Тексте. Интерпретируя символизм Священного Писания, Иустин мыслит в русле уже сформировавшегося христианского типологического символизма, предполагающего усмотрение связи всякого исторического события или явления с сакральным первообразом (типом, архетипом) и одновременно – видение задаваемой этим первообразом телеологической перспективы: Текст становится Историей, а история – Текстом. У Иустина мы видим двунаправленность раскрытия символа. Вера «голосу Бога» раскрывается в сознании верующего как видение себя и мира в общей устремленности к Логосу, действия Которого зафиксированы в Священном Писании и одновременно осуществляются в событиях истории.
Апологет показывает нам, что Логос включает в Себя не только все вещи, как Первоначало, но и все времена, как «Первый» и «Последний». В Слове Бога время обретает свое основание, направленность и высший смысл. История, по Иустину, с одной стороны, обусловлена сверхисторическими
событиями, Божественным домостроительством. Однако это не только не исключает, но обязательно предполагает участие в истории человека, реализующего свою свободу, что апологет связывает с колоссальным духовным напряжением и предельной ответственностью. Мы видим, что Иустин в своем взгляде на Богочеловеческую коммуникацию, последовательно проводит новый для античного сознания принцип историзма. В сознании Иустина разворачивается диалектическая картина явления Истины в сфере становления (которая для античных мыслителей имела подчиненное и второстепенное значение): с одной стороны, Истина является в истории во всей своей бого-человеческой полноте, вместе с тем она является как завершение и исполнение тех зерен истины, которые были рассеяны в дохристианском человечестве и одновременно же она остается заданием и целью всего последующего процесса становления. Таким образом в своем учении о Богочеловеческой коммуникации Иустин ясно показывает, что в исторической перспективе становится достижимой для человека личностное общение с запредельным Богом: Бог достижим, так как он Сам нисходит к ищущему Его человеку, делая его способным к восхождению.
Во второй главе «Язык и культура в учении Татиана Ассирийца»
мы исследуем основополагающие мотивы критики античной культуры Та-тианом Ассирийцем. Мы показываем, как в полемической позиции апологета формируются первоначальные элементы христианской философии культуры, и что сама критика античности становится феноменом нового, христианского типа культуры. В определении структурообразующих моментов полемической позиции Татиана по отношению к эллинской культуре мы исходим из признания принципиальной значимости его софистической образованности, предоставившей необходимый материал христианским интуициям апологета.
В первом параграфе «Философия имени Платона и учение о языке в „Речи к эллинам”» мы показываем, что в своей критике языка эллинов, Та-тиан руководствуется понятиями «природа» и «соглашение». Этими же по-11
нятиями апологет формулирует свое понимание должного устройства и
функционирования языка. Здесь Татиан обнаруживает определенное сходст
во с учением Платона о двоякой, идеально-эмпирической природе слова, из
ложенном в диалоге «Кратил». За критикой разногласия и беспорядка эллин
ского языка у Татиана ясно просматривается близкое Платону утверждение
должной сущностной близости речи тем предметам, которые она выражает.
Как для Платона, так и для Татиана, слово имеет свой идеальный аспект, а
объективная действительность имеет абсолютное осмысление и предельную
выраженность. Татиан отчетливо проводит связь между речевым актом и
творческим действием: человеческая речь, говорение, в своем высшем, деми-
ургическом смысле оказывается «подражанием» ( ) Логосу. Подобная
параллель просматривается и в «Кратиле», где фигура ономатурга, устанав
ливающего имена, взирая на образец () имени, угадывается в образе де
миурга «Тимея», берущего в качестве первообраза ( ) неизменно
сущее при создании вещей (Тимей 28b). Для Платона важно тем самым пока
зать, что бытийным основанием имени оказывается идеальная структура су
щего. Именно самовыражение этой идеальной сущности в вещах делает воз
можной человеческую речь, подобно действию идеи, которое, структурирует
и организует материю. Татиан же, указывая на демиургическую роль слова,
подчеркивает, что все смыслы объективной действительности концентриру
ются в Личности Слова Бога. Божественный Логос есть Живая Личность, Он
не нуждается в чем-то постороннем для акта творения, Он и не сводится к
идеальной структуре, но включает ее в себя. Поэтому, по Татиану, вещи
имеют свою выраженность не сами из себя, а обретают ее в творческом акте
Слова Бога. Следовательно, путь к постижению и адекватному выражению
действительности обязательно сопряжен с опытом богообщения.
По Платону, идеальная сущность отображается не только в именовании ономатурга, она присутствует в той или иной степени и в звучащем слове, как некая интерпретация идеи. В силу этого момента, критерием «правильности» слова, наряду с «природой» (непосредственной связи слова и
вещи) становится «соглашение» и «договор» – общая договоренность по поводу именования тех, или иных смыслов, раскрывающихся в вещах, с помощью чего тот несовершенный материал, который представляет собой реальная человеческая речь, приспосабливается для выражения разных аспектов вещей (434е-435а). У Татиана мы видим рассмотрение языка в подобном же аспекте. В эмпирической сфере апологет усматривает возможность более, или менее адекватного постижения и выражения объективной действительности. «Согласие» здесь можно понимать как некую устремленность к фиксированию самораскрытия Логоса на уровне объектов окружающего мира, в мышлении и языке человека. Эта устремленность может складываться в отдельные обычаи, законы, традиции. Все вместе они представляют собой разные интерпретации, подражания одной и той же логосообразной сущности. Поэтому, как показывает нам Татиан, в эмпирической сфере определенный язык может функционировать правильно, только сохраняя единство, согласие внутри себя и соблюдая известную дистанцию относительно других языков. Догматизация какой-то одной языковой традиции, равно как и слепое смешение разных языковых норм, непременно ведет к потере живой связи с самораскрывающимся в объективном мире Логосом, к «беспорядку», «смешению» языка, в чем апологет и упрекает эллинов.
Во втором параграфе «Отношение к слову как критерий истинной и ложной пайдейи у Платона и Татиана Ассирийца» мы рассматриваем отношение Татиана к искусству риторики, одному из важнейших искусств античности, а в представлении Татиана – основополагающему искусству эллинской пайдейи. Термин «пайдейа» у Татиана, на наш взгляд, наиболее адекватно выражает культурную суть эллинства и христианства в их противопоставлении. Философский смысл термина «пайдейа» хорошо передает Мартин Хайдеггер: «пайдейа как образование в смысле того, что «образует» (формирует), исходя все время из предвосхищающегося соразмерения с не-
ким определяющим видом, который зовется поэтому про-образом»1. Через анализ ложной установки в отношении к слову, присущей античным риторам, Татиан выявляет отсутствие необходимого созидающего прообраза для всей античной пайдейи, что и делает ее несостоятельной в глазах апологета.
Кризисная черта, выявляемая в ораторском искусстве Татианом - всецело релятивистское и утилитарное отношение к слову как к орудию, с помощью которого можно достигнуть любой цели. Эта кризисная черта распространяется апологетом и на всю эллинскую культуру. Такой подход сближает критику эллинской пайдейи у Татиана с платоновским анализом фигуры софиста и его пайдейи, изложенным в диалоге «Софист».
Платон выделяет некое «одно» - то, к чему направлены все знания и речи софиста. Это - . Софист в своей сути понимается Платоном как - искусник в прекословии, спорщик (232Ь). Это определение включает в себя все прочие приводимые Платоном определения софиста. - показатель некой общей направленности искусства софиста, характеризующий суть его умения, но эта суть раскрывается как сознательное обессмысливающее устремление, как уход от истины в несуществующее. Однако, платоновский софист понимает свою задачу как вполне позитивную и в таком качестве ее и провозглашает: убедить других в своей личной способности научить добродетели ( ), привести их к определенному виду существования в полисе, что составляло существо эллинской пайдейи ( ). Платон называет это притязание софиста « » (223b): софист сообщает мнимую пайдейю, которая только кажется ( ) способностью, дающей правильное образование ( ).
Подобную направленность к , мнимому образованию, которое по сути есть путь к небытию, наблюдает и Татиан в греческом «мно-гознании». Это и есть причина того, что он не видит пользы в разнообразных античных учениях. В античной пайдейе Татиан усматривает дезориентиро-
1 Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. С. 350.
ванность, отсутствие подлинного смысла, конструктивного организующего
начала, того, что является атрибутом истины и непременным атрибутом са
мой пайдейи. Отсутствие подлинного, созидательного объединяющего нача
ла делает, по мысли Татиана, учения греков противоречивыми и несвязан
ными (Oral 3; 19; 25; 26; 27; 30; 32). Античная пайдейа, по Татиану, пребы
вает в кризисе, симптомом которого является то отношение к слову, которое
Татиан определяет понятием ут (Oral22), термином, который соот-
ветствует по форме и по смыслу ашйуі Платона. Таким образом, по мысли апологета, все наблюдаемое им античное образование поражено недугом «риторичности», оно направленно не к истине, а к словопрению, не к сущему, а к мнимому. Следовательно, указываемую Татианом «бесполезность» учений греков, мы вполне можем понимать не как бесполезность знаний самих по себе, но как неспособность совокупности этих зданий воспитать подлинного человека, т.е. выполнять задание пайдейи.
Согласно Татиану, отношение к слову является основополагающим моментом и для пайдейи христиан. Татиан заявляет: «мы говорим не понаслышке и не по догадке, и не от понятий и софистических построений, но пользуясь словами некоего божественного возглашения» (Oral 12), т.е. христиане неким образом способны понимать и выражать истину божественную, что и приводит их к единству. Эта истина есть божественная мудрость, то, чем устроено все сущее, - это божественный замысел, лежащий в основе гармонии и порядка мироздания. Это и есть прообраз христианской пайдейи, восходящей в конечном счете к Первообразу - Логосу-Христу. Основание для ее постижения Татиан находит в связанности ( ) души человека с Божественным Духом, призвании к особенному союзу с Богом, к приобретению Его образа и подобия, что возвышает человека над животной ступенью и наделяет его пониманием истинного бытия. Слово истины актуализирует стремление человека к союзу с Богом, пробуждает память о былом богопо-добии. В этом и сила христианской проповеди, по Татиану. Другими словами, истинность христианского учения понимается Татианом не просто как
совокупность «правильных» догматов, но и как адекватность выражения истины в речах и словах.
Раскрытие положительных потенций слова, проводимого Татианом в «Речи к эллинам», обнаруживает точки соприкосновения с платоновским диалогом «Федр», а именно, с учением об истинной риторике как «душево-дительстве», искусстве составления речей сообразных каждой душе. Истинная риторика, по Платону, это донесение до слушателей существа вещей, раскрытие истинного, занебесного бытия. Это не сообщение чего-то нового, а напоминание («анамнесис») того, что душа созерцала до своего земного воплощения, сопутствуя богу по небесной сфере, напоминание того небесного, к чему подспудно стремится душа, отягченная бременем земного несовершенства (246с).
Некоторую аналогию действию «анамнесиса», как основанию убедительности слова, мы находим и в описании Татианом истории своего обращения в христианство. Апологет сообщает, что он через «углубление в себя» узрел истину в Священном Писании. Татиан дает нам знать, что в своей душе он нашел родственное Слову Бога, или наоборот, на страницах Священного Текста, он увидел то лучшее, Единое, к чему стремилась его душа. Мы считаем, что это прозрение также можно назвать «анамнесисом», но не совсем в платоновском смысле, не воспоминанием виденного до телесного рождения, а актуализацией изначальной причастности души божественному Логосу как своему архетипу. Священное Писание явило душе Татиана видение того истинного прообраза, движение к которому и есть дело пайдейи, как в платоническом, так и в христианском ее понимании.
Таким образом, по Татиану, та божественная сфера, к которой прича-стны христиане и которая является источником их учения и их речей, востребована самой человеческой душой даже в ее падшем состоянии. «Убедительность» истины, по Татиану, составляет ее объективное качество, так как душе человека по своей высшей природе свойственно эту истину желать и искать. Поэтому и основание христианской проповеди на «словах божест-16
венного возглашения» является ее действительной силой.
В третьем параграфе «Античный театр и категория «подража
ния» в оценке Татиана Ассирийца», мы исследуем критику Татианом ан
тичного театра, в которой наиболее наглядно проявляется его отношение к
важной категории античной эстетики – подражанию (мимесису). Мы счита
ем, что острие критики апологета нацелено гораздо глубже аморального об
раза актера и разнузданности современного ему римского театра. Рассматри
вая античную драматургию (а также и античную поэзию, изобразительные
искусства) как подражание дурному, Татиан восстает против реализации гре
ческим искусством своего основного принципа – подражания ( ). Про
водимая Татианом на примере римского театра жесткая критика дурной под
ражательности обнаруживает важную общность с некоторыми взглядами на
искусство в платоновском «Государстве» (III 393с,605b). Но, если Платон
осуждает подражательные искусства за то, что они неверно воспроизводят
действительность, то Татиан видит ущербность античного искусства не
столько в том, что оно неверно изображает сущее вообще, сколько в том, что
оно искаженно интерпретирует существо человека. Этот антропологический
акцент особым образом выделяется у Татиана в критике театрального искус
ства. У апологета вызывает неприятие сам принцип игры античного актера –
перевоплощение в тот или иной образ посредством смены масок. Человек,
изображающий кого угодно – богов, героев, мужчин, женщин, по Татиану,
неминуемо теряет свой собственный облик, т.е. перестает быть самим собой
(Orat.24).
Общность Платона и Татиана не ограничивается только критикой дурной подражательности, но имеет точки соприкосновения и в понимании истинного, должного «подражания», как «уподоблении» высшему, «подражании», которое определяется его предметом, а не формами, в которых оно осуществляется.
Человек, согласно мысли апологета, имеет некий неповторимый образ, несводимый просто к индивидуальной разумной природе, каковым он
мыслился в античной философии (Orat.15). Опираясь на библейскую космологию и антропологию, Татиан обозначает богоподобие человека как призвание восходить от «человечества» к Богу Самому, т.е. устремляться к трансцендентному Творцу, стать выше своей природы. Татиан дает нам понять, что тот образ, которому призван уподобляться человек трансцендентен тварной природе, возможность же уподобления этому образу открывается действием Самого Бога в соответствующем, расположенном к этому действию душевно-телесном устройстве человека, подобном устроению храма. Другими словами, союз чистой души с Божественным Духом описывается Татианом как результат освящающего действия Бога в человеческой душе, свободно открывшейся и устремившейся к этому действию. По мысли апологета, человек способен как удостоиться богоподобия – подлинного бытия, так и низвергнуться до «лже-бытия» – состояния без-образности. Здесь у Та-тиана мы видим динамику подобия-неподобия, осуществляемую свободной волей человека, определяющую его онтологический статус и позволяющую ему выйти за рамки космической причинности. В силу своей свободы, человек, при содействии Божественного Духа, может сам себя творить, актуализируя в себе образ и подобие Бога. Именно это мы и можем назвать подлинным подражанием по Татиану. Это истинное подражание в христианском осмыслении апологета выходит за рамки античных парадигм. Оно не соответствует, во-первых, представлению о мире как совершенном самодостаточном организме, где в конечном счете все обусловлено и предопределено, а, во-вторых, глубоко антагонистично «зрелищному» подходу к действительности, рассматриванию действительности отстраненно, внеситуативно. Против первой парадигмы Татиан провозглашает неповторимость развития мира (начало, историческое развитие и окончательный финал – всеобщее воскресение и Суд Творца); против второй – заявляет о соответствующем историческом мироощущении, где человек является не только наблюдателем, но и участником мирового процесса, всего его драматического хода, несущим определенную ответственность за него. Отсюда – принципиальная
мировоззренческая неприемлемость для Татиана главного античного драматургического жанра – трагедии.
В третьей главе «Существо языческой религии в понимании Иу-стина Философа и Татиана Ассирийца» мы рассматриваем мировоззренческий аспект критики языческой религии апологетами,- соотношение античных верований и ментальных переживаний человека. В центр исследования ставится антагонизм христианского сознания двум существенным составляющим языческой религии – фатализму и магии.
В параграфе первом «Демонология Иустина Философа и Татиана Ассирийца: осуждение фаталистической картины мира» мы рассматриваем связь языческой религии с проблемой самоопределения человека. Для наших авторов (как и для раннехристианской традиции в целом), языческая религия представляется результатом деятельности падших ангелов, нарушителей божественного закона мироздания: призванные осуществлять и поддерживать божественный закон, они отступают от него и вовлекают в свое отступничество людей. Это и есть боги языческой религии. Свою функцию падшие ангелы сохраняют и после падения, но в отрицательном смысле, насаждая в мире закон несправедливости. Этим законом несправедливости как раз и является закон тотальной предопределенности, закон фатума. Иустин утверждает, что демоны, насаждая свои законы, опираются на склонность людей ко злу, т.е. апологет видит «закон демонов» в некотором смысле обусловленным свободой человека. Татиан же акцентирует обратную связь – воздействие демонов на свободу людей, тесно связывая проблему судьбы с критикой языческой религии.
Татиан характеризует «судьбу» ( ) как «несправедливость» ( ) и неразумность ( ), вплетенные в мировидение. Такое фаталистическое миросозерцание, по Татиану, есть порождение богоотступничества, отвержения Безначального Бога-Духа как создателя и промыслителя мироздания, постигаемого, соответственно, через видимые вещи и промышле-ние о мире (Р.4). То, что увлекает к отпадению ангелов (как, впрочем, и лю-19
дей) называется Татианом га (pavrdajuara гд Tupmroyov, фантазмами, призраками, мечтанием первородного ангела-отступника. По всей видимости, так Татиан обозначает некую ложную сферу бытия, мировидения, в которой пребывают отпадшие от Божественного Логоса свободные существа. Это лжебытийственное состояние характеризуется апологетом как подчиненность материальному, оторванность от «небесного», того, что наделяет смыслом «земное». Разрыв «небесного» с «земным» Татиан усматривает в самом принципе языческой религии (Р. 13).
Проводимая Татианом связь между античным учением о богах, творением мира и астрологическим фатализмом отсылает нас к учению Платона о происхождении мира, изложенному в диалоге «Тимей», (философскому базису античных религиозных представлений), и дальнейшей платонической традиции его интерпретации. Из рассмотрения «Тимея» мы выясняем, что человек, по Платону, - носитель несовершенства, и в этом его судьба, удел. Последующая платоническая традиция разворачивает космологию «Тимея» в учение о «трех промыслах», согласно которому по истине благой промысел бога-демиурга простирается только на надлунный мир, что же касается сферы становления, здесь этот промысел присутствует опосредованно, как закон, возвещаемый (олицетворяемый) небесными божественными телами и осуществляемый даймонами. Этот закон, хотя и дает некоторый простор действию свободной воли человека, но, в конечном итоге все обусловливает и заключает в круг бесконечного возникновения-разрушения. Этот закон и есть судьба.
Очерк платонической традиции, представляющей для нас философское обоснование языческой религии, помогает нам выявить основную направленность критики античных верований нашими апологетами. Главным мотивом критики языческой религии у Иустина и Татиана является не просто ниспровержение языческого культа и мифологии, но утверждение новой картины мира, несовместимой с языческим фатализмом. В этой картине мира Божий промысел касается всего, в том числе каждого отдельного существа, но при этом не только не стесняет свободу человека, но является ее под-
линным основанием. Ощущение присутствия Бога в жизни человека становится новым основанием для самосознания последнего как свободного, над-мирного существа, не скованного рамками чувственного космоса. Сам феномен язычества понимается при этом не просто как совокупность ошибочных учений, но как фундаментальная экзистенциальная проблема.
Во втором параграфе «Магия как существенная черта языческой религии в учении Иустина Философа и Татиана Ассирийца» мы рассматриваем еще одну существенную черту языческой религии, выявляемую апологетами – магию. Для наших апологетов феномен магии обуславливается двумя факторами: 1) воздействием на человека сверхчеловеческих существ, не только богов (которые считались некоторыми слишком далекими от мира людей), но, прежде всего промежуточных существ, демонов; 2) видением всех вещей Универсума в единой связи, симпатии, понимаемой как сродство вещей друг другу; связи, которая может обернуться противоположным отношением – антипатией. На таком понимании мироздания основывается действенность магической практики: желаемого эффекта в одной части можно достигнуть посредством определенного воздействия на другую.
В этой связи важно обратить внимание, что Иустин говорит о смысле значении образа креста. Этот образ апологет усматривает в основании «взаимной связи» вещей в мире: в строении механизмов и орудий, в основании формы человеческого тела (1Apol.55) и, наконец, форма креста лежит в основании всего мирозданья, – так Иустин трактует текст платоновского Тимея (который он считает заимствованным из писаний Моисея), где Платон воспользовался буквой греческого алфавита «Х» для объяснения того, как мировая душа всюду разлита и равно действует во всех частях (1Apol.60). Таким образом крест Христа – символ христиан имеет, по Иустину, космическое значение, что означает присутствие божественного начала во всем мире (и духовном, и материальном).
Такую интерпретацию универсальности Логоса мы видим имплицитным противопоставлением магическому принципу мировой симпатии. По-21
следнее предполагает не только укорененность всех вещей в едином начале, но и универсальную заданность мирового процесса домостроительством спасения. Не даром апологет заявляет, что демоны покоряются не только имени Иисуса Христа, но и «домостроительству Его страдания» (D.30). Мир обретает цельность и связанность в лице Логоса и Его деле спасения. Именно личный Логос является для Иустина главным созидательным началом универсума, соответственно и созидательное воздействие можно оказать на какую-либо его часть только в разного рода сопричастии Слову Бога2. Здесь феномен колдовства (сверхъестественного воздействия в корыстных целях посредством материальных манипуляций) уже не имеет под собой онтологического основания.
Говоря о победе Иисуса Христа над магической силой, Иустин демонстрирует новое религиозное сознание, не связанное страхом пред сверхъестественным. Если для язычника сфера религии имела свою «темную» сторону (принцип мировой симпатии мог быть использован во зло, то же касается и взаимодействия с демоническими силами), то для раннехристианского сознания, утверждение всеосвящающего значения Воплощения и Искупления было освобождающим моментом от боязни потустороннего, божественного, так как личный Бог, в Котором обретает смысл и гармонию все мироздание явил Себя миру подлинными Милосердием и Любовью.
Итак, в своей критике языческой религии оба апологета отвергают посредническую роль даймонов в сообщении человека с божественной сферой. Иустин и Татиан высказывают единогласное мнение о единственном исключительном и совершенном посредничестве, соединяющем человека с Богом – личности Иисуса Христа. И это соединение является даром Бога, и воспринимается он человеком в свободном акте веры. Здесь мы видим осознание сути христианства как совершенной, свободной богочеловеческой религии, принципиально отличающейся от язычества.
2 Об этом Иустин свидетельствует в своем учении о «семени Логоса», разобранном нами в первой главе.
В Заключении диссертационного исследования подведены итоги диссертационной работы: изложены выводы в соответствии с основными положениями, выносимыми на защиту, целью и задачами исследования.
Список работ, опубликованных по теме диссертации
Ряд материалов выполненного диссертационного исследования изложен в следующих статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов диссертационных исследований:
-
Приходько М.А. Учение Иустина Философа о «семени Логоса» в его отношении к аналогичным античным концепциям. // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2010. – Т. 11. – Вып. 4. – С. 64-68.
-
Приходько М.А. Элементы христианской философии культуры в критике античного искусства Татианом Ассирийцем. // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2011. – Т. 12. – Вып. 4. – С. 245-249.
-
Приходько М.А. Отношение к слову как критерий истинной и ложной пайдейи у Платона и Татиана Ассирийца. // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2013. – Т. 14. – Вып. 3. – С.102-108.
Сверхъестественный аспект Богочеловеческой коммуникации
Мы убедились, что совершенным откровением внутренней жизни Бога в учении Иустина является Бог Слово. Поскольку Логос не сводится апологетом к отвлеченному принципу разумности мира, то и в составе богочеловеческой коммуникации раскрываются сверхразумные и сверхприродные уровни, которые, тем не менее, включаются в сотерио-историческую перспективу домостроительства спасения человечества, где во Христе – ипостастном Слове Бога Отца, богочеловеческая коммуникация реализуется в полной мере, возводясь на новый, подлинно личностный уровень. В настоящем разделе нашей работы речь пойдет о связи человека с Логосом через Его откровение, которое осуществляется в сфере исторического бытия. Здесь Иустин следует библейской традиции, согласно которой, знание Бога и спасение основаны на действии вечного Слова Бога в истории: «Слово Божье,- пишет апологет,-возвещает все, что должно знать, и посылается для открытия того, что возвещается [от Отца – М.П.]. Он прежде в виде огня и в бестелесном образе являлся Моисею и другим пророкам, а затем, сделался человеком от Девы, по воле Отца, для спасения верующих Ему» (1Apol.63).
Иустин всячески подчеркивает, что откровение Отца совершается, делается доступным только посредничеством Сына; те же, кто принимает Сына за Отца, не знают ни Отца, ни Сына (1Apol.63).1 В сотерио-историческом действовании Слова Бога, Иустин видит откровение всей Святой Троицы: Слово Божие становится достижимым в истории через пророческий Дух (1Apol.6). И наоборот – пророческий Дух входит через Божественное Слово, во временной процесс и направляет его к воплощению Слова (1Apol.44; 2Apol.4). Через тот же Пророческий Дух, Слово делается слышимым в Писаниях, говорящих от лица Отца ( ), от лица Сына ( ), или же, непосредственно, от Пророческого Духа (1Apol.31-39; D.102).
Описывая сотерио-историческое служение Сына, Иустин символически называет Его "ангелом" и "посланником" () (1Apol.63). Здесь мы видим заимствование традиции гипостазирования сил-идей Божества принятой в иудаистическом богословии для четкого разграничения трансцендентного Бога и Его действия в имманентном мире. Однако апологет использует эту терминологию в новом наполнении. Для него наибольшее значение имеет сам символ служения Сына Бога человечеству как нисхождения к миру Самого Бога, ниспосылающего Свое откровение и ведущего мир ко спасению.1 Кроме того, как замечает Жан Даниелу, термин "ангел" является семитическим эквивалентом духовной субстанции, которая в христианском богословии называлась "persona".2 Следовательно, мы можем предположить, что, именуя Сына Бога ангелом, апологет подчеркивает личностный статус Логоса, что Слово Божье посылаемо людям не как безличная сила, но как Личность рожденная из сущности Отца и говорящая нам в Писаниях. Именно в личностном служении Сына Божьего человечеству, становится доступна полнота Божественного Откровения, само же личностное служение Слова Бога реализуется в истории – уникальной последовательности событий, имеющей единую цель и смысл, определяющейся взаимодействием свободной воли человека и божественного промысла, направленного на его спасение. История в христианском понимании, как замечает современный исследователь, М.Е. Буланенко, является "средой" или "пространством" общения между Богом как Истиной и человеком, которому Он открывается, делая его причастным Истине.1 Именно такое видение действования Слова Божьего в событиях земного порядка в полной мере присуще Иустину, оно и составляет то, что следует определить как неотъемлемый опыт веры. В первую очередь, по Иустину, Слово Бога вещает в Божьем Народе, в его пророках. Далее Само Слово воплощается и говорит в Существе Иисуса Христа, и, в конце концов -в Его Церкви - новом Божьем народе. Таким образом, апологет показывает, что восприятие Откровения пролегает в исторической перспективе – через исследование Писаний, Христа и Церкви - видимых свидетельств невидимой реальности. При этом связующим началом между пониманием Слова Божьего как Священного Писания и принятием истории как Его исполнения для Иустина является вера (D.7). Здесь у автора предвосхищается то значение веры, которое делает человека полноправным соучастником истории как дела спасения, а тем самым и соучастником самого божественного бытия. Этим интуициям апологета вполне созвучны выводы современного богослова: "Философское рассудочное познание не может идти далее постулирования факта бытия личного трансцендентного Бога. Напротив, вера позволяет постигать Его свободное откровение… Вера не только дает путь познания альтернативный рассудочному, но и наделяет человека особым бытийственным статусом участника истории спасения".2
Иустин убежден, что постижение откровения Слова Бога человеком обязательно подразумевает открытость его ума действованию Бога, которое является в фактах и событиях истории. Анализируя этот подход Иустина, Томас Торранс пишет, что, согласно мысли апологета, воспринимая нашим разумом факты и события Писаний, мы, вместе с тем, обнаруживаем силу и неоспоримость той истины, которая демонстрируется Писаниями и, таким образом, Священным Текстом мы принуждаемся поверить (we are compelled
to believe) этой истине.1 "Обратите внимание на те места, которые я представлю из Святых Писаний,- говорит апологет,- они не требуют объяснения, их нужно только выслушать" (D.55). В "Диалоге" (D.67 и др.) мы видим, что Иустин постоянно призывает своего собеседника не закрывать глаза на те места Священного Писания, которые он не вполне, или вовсе не понимает, призывая тем самым своего оппонента вникнуть в целокупный, телеологичный смысл Писаний и воспринять осуществление пророческих указаний.
Условиями восприятия Слова Божьего, говорящего в Писаниях, Иустин видит следующее:2 Во первых – это благодать понимания ( ) (D.119). "Если кто не получил от Бога великой благодати разумения того, что говорили пророки, говорит апологет, тому нимало не будет пользы в том, что он пересказывает их слова и деяния, тогда как не может дать в них отчета" (D.92). Иустин считает, что он сам по себе не имеет способности толковать Священное Писание, но Божественная благодать делает это возможным для него (D.58). Исходя из этой позиции, он молится, чтобы ему "открылись двери света", чтобы постигнуть то, что "нельзя ни увидеть, ни понять, если Бог и Христос Его не дадут разумения" (D.7) Здесь апологет вновь свидетельствует об отсутствии в человеке природного сродства Богу и 0 необходимости веры как первоначальном способе постижения божественного откровения. Во вторых – это деятельность разума, проистекающая из веры, наше осмысление тех фактов и событий, на которые указывает Священное Писание. По мысли апологета, этим путем мы включаем себя в сферу этих фактов и событий, понимая и воспринимая силу их убедительности. Другими словами, мы ставим себя в то место, где библейское свидетельство, направляя нас словами и делами, приводит к видению фактов и событий истории в их высшей смысловой взаимосвязи. Об этом апологет говорит в двух пассажах "Диалога". В первом, Иустин пишет о пророках, говорящих Святым Духом и предсказавших события прошедшие и ныне происходящие: "Они в своих речах не пускались в доказательства, ибо они выше всякого доказательства, будучи достоверными свидетелями истины; самые события, которые уже совершились и которые теперь еще совершаются, вынуждают принимать их свидетельство (та 5є anofidvm каі anofiaivovm єауаукаєі ошті0єо0аі)" (D.7). Во втором пассаже, Иустин говорит, что христиане признают Христа за Бога не из-за того, что Он просто творил чудеса, но будучи убеждены в этом предсказанными пророками событиями, которые совершались и совершаются на наших глазах: "...я теперь представлю доказательство, не полагаясь на словесные уверения, но по необходимости убеждаясь теми, которые предсказывали будущее прежде, нежели оно сбылось, так как мы собственными глазами видим, что события совершились и совершаются, как было предсказано (8ш то каі буєі щ лрогщтгъвц opdv Y8VO 8va каі yivd va)." (1Аро1.30;53). Здесь Иустин сознательно отмежевывается от аргументов связанных с чудесами, убедительность же возвещаемой им истины он видит в соответствии событий тексту Священного Писания. Это убеждение Иустин формирует из фактов, возвещенных пророками и тех фактов, которые он видит своими глазами. Апологет демонстрирует нам действие разумной веры (или верующего разума), сознание человека, постигающего Слово Божие не только из Писания, но и из самой жизни, которая мыслится как продолжение истории спасения, написанной в Священном Тексте.
Философия имени Платона и учение о языке в "Речи к эллинам"
Теперь обратимся к тому, что именно Татиан находит достойным осуждения в сфере эллинской речи и какое состояние языка он видит правильным: "Необходимо, чтобы те, которые приписывают себе подобную славу [быть мудрыми-М.Щ ожидали свидетельства от других, и чтобы были согласны (cruvaSeiv) между собой и в произношении слов то-и Хоуо-и тгрофора). Ныне же получается, что только вы не созвучны [сами себе] даже в разговоре (щЪг ev тац оиДшц o iocpcovsw): не одна и та же речь (Аіц) у дорийцев и аттиков, и эолийцы говорят не так, как ионийцы. Какое тогда разногласие (атааєсод) существует между теми, у которых не следовало бы ему быть, то не могу решить, кого я должен называть эллином. Притом, что всего безрассуднее (то TKXVTCDV атотгютатоу), - вы гоняетесь за выражениями несродными вам {\щ отууу єц vyucov єрціуєіад) и, нередко злоупотребляя варварскими речениями (РарРарікац тє фсоуац), сделали язык (Suxteiccog) свой смешанным (стицфиртод)" (Orat.l). В этом пассаже инфинитив "cruvaSeiv" (быть согласными) противопоставляется существительному "отсшєох;" (беспорядок, разногласие), - должное согласие языка автор противопоставляет наличествующему беспорядку речи эллинов. По словам апологета, это разногласие, казалось бы, порождается говорением на разных наречиях одного языка1, однако, в конце пассажа апологет высказывает совершенно иную мысль, что "наибольшая нелепость" (то TTCXVTCQV (XTOTicbTaTOv) эллинов заключается в их погоне за "несродными выражениями" и в злоупотреблении варваризмами, что приводит к "смешению" (стицсриш - доел. "срощенности") языка. Таким образом, по Татиану, тот "беспорядок" (отаоєах;), который противостоит должному единству - "согласию" языка, состоит не столько в разделении языка на различные наречия, сколько проявляется в некоем лжеединстве – " " – срощенности, смешении речи.
Свою мысль о правильности речи Татиан развивает и далее, критикуя эллинских ораторов за их слепую приверженность аттическому диалекту: "Зачем ты, скажи мне, поднимаешь войну из-за букв? Зачем как в кулачном бою, скрадываешь произношение их, заикаясь подобно афинянам, тогда как тебе приличнее говорить ближе к природе? Если ты, не будучи афинянином говоришь по-аттически, то скажи мне, почему не говоришь по-дорически? Почему одно для тебя представляется слишком грубым, а другое более приятным для разговоров?" (Orat.26)1 Отсюда становится совершенно очевидным, что наличие разных диалектов в языке – не объект критики Татиана. Напротив, критерий правильности речи в этом отрывке – "говорение согласно природе" непременно обусловлен говорением на родном диалекте. Из этого следует, что Татиан, в своем понимании должного "согласия" языка не ставит на первый план его какую-либо формальную унификацию.
Из приведенных пассажей, мы видим, что для Татиана, в его критике языка, одинаково важны понятия "природа" и "соглашение", за которыми, несомненно, стоит его понимание должного устройства и функционирования языка. Здесь Татиан обнаруживает определенное сходство с учением Платона о двоякой, идеально-эмпирической природе слова, изложенном в его диалоге "Кратил". В указанном диалоге, его главный персонаж Сократ утверждает "природную" правильность имени (слова), как неразрывную связь имени с объективной сущностью. Соответственно, говорение (именование) рассматривается здесь как объективно обусловленный процесс: 1) Говорение получает возможность реализации из самих вещей, как самораскрывающихся сущностей: действия вещей (), в которых они являются нашему сознанию, совершаются по природе тех же самых вещей, а не по нашему мнению. Следовательно, возможность познания вещи, также как и говорение о ней, заложена в природе самой вещи, подобно тому, как разрезание чего-либо возможно лишь потому, что в природе разрезаемого заключена возможность быть разрезанным. 2) Говорение реализуется в соответствии с природой этого действия, как и резать вещь возможно лишь в соответствии с природой разрезания и никак иначе (386се). 3) Говорение совершается с помощью предназначенного природой орудия ( ), чем и является в языке имя ( ) (387а-c). Согласно Платону, используя имя как орудие, мы чему-нибудь учим друг друга и различаем вещи как они есть, т. е. соответственно природе их действий, иначе говоря, способу их существования и определенному способу их явления, показывания себя. Имя, таким образом, есть некое орудие, подобное сверлу или ткацкому челноку, выполняющее две важные и связанные между собой функции — обучение и распределение (различение) сущностей (388с). Из названных критериев следует, что говорение как чисто субъективное действие ошибочно, подобно любому другому действию, в котором не учитывается природа вещи. Подобную субъективность в языке эллинов и осуждает Татиан, это мы видим в приведенных пассажах. За его критикой разногласия и беспорядка эллинского языка у Татиана ясно просматривается близкое Платону утверждение должной сущностной близости речи тем предметам, которые она выражает. Теперь встает вопрос о той непреложной основе вещей, которая в них выражается и фиксируется в слове. У Платона эта сущность обозначается как "особенная природа" ( , 387d), идеальная структура, которая определяет тот способ, каким вещи «ведут себя» или «действуют» (т. е. являются в качестве феноменов), но не сводится к набору этих "действий". (386се). Эта идеальная структура имеет свою идеальную выраженность, которую Платон обозначает как "образ" () имени (389d). Говорение в его идеальном аспекте понимается Платоном акт первоначальной номинации, непосредственно исходящей из идеальной выраженности сущего. Это действие – установление имен, обозначается в "Кратиле" фигурой имятворца (законодателя, мастера имен), того, кто устанавливает имена неким изначальным образом, исходя из природы вещей (), а не пользуясь уже данными именами. Этот законодатель, по Платону, – самый редкий из мастеров (), так как изначальное, т. е. осуществляемое без помощи уже данных имен различение, позволяющее увидеть природу вещей и в соответствии с ней называть сущее, доступно только искушенному в искусстве называния мастеру (388ае, 389а). В акте именования ономатурга, имя обнаруживает себя, прежде всего, как смысл именуемого сущего, в то время как его (имени) физический аспект, звуковой комплекс не имеет решающего значения для правильности того или иного имени (393d). Как замечает К.В. Лощевский, "идеальный аспект имени, представляющий собой чистую форму, структуру, вполне отвечает тому, что греки называли в значении "определение",— языкового эквивалента определенного фрагмента структуры истинно сущего, умопостигаемого бытия. Именование сущего в его идеальном аспекте – это определение вещи соответственно «месту» ее умопостигаемой природы (сущности) в структуре сущего. Вот почему имя есть орудие диалектика, задачей которого, собственно, и является «распределение сущностей»"1.
Отношение к слову как критерий истинной и ложной пайдейи у Платона и Татиана Ассирийца
Раскрывая несостоятельность эллинской пайдейи, апологет особенно обращает наше внимание на одно из кризисных явлений античной культуры - релятивизм языкового мышления, присущий, согласно апологету, не только ораторам, но и прочим учителям эллинской пайдейи: софистам, риторам, поэтам, философам. Софист (или ритор) пользуется особым вниманием Татиана. Это не только искусник красноречия, но, прежде всего, это существенная фигура эллинской пайдейи, провозгласитель ее ценностей, учитель ее "мудрости". Татиан заявляет, что от этой "мудрости" () он, приняв христианство, отказался, хотя "немало был в ней искушен" (Orat.1). По всей видимости, здесь идет речь не столько об отказе от риторической техники, приемами которой апологет активно пользуется в своей "Речи к эллинам"1, сколько, об отвержении отношения к слову как к орудию, с помощью которого можно достигнуть любой цели.
Об ораторах и их искусстве Татиан пишет следующее: "вот как говорит комик [о ваших мудрецах]: "Это бесплодные виноградные лозы, болтуны, собрание ласточек; исказители искусства". Ревнители этой мудрости кричат во все горло и каркают подобно воронам. И в самом деле, красноречие вы употребляете на неправду (адікіа) и клевету (ovKoyavzia); за деньги продаете свободу вашего слова (rwv loyov v/uwv то ame&vmov) и часто, что ныне признаете справедливым, то в другое время представляете злом (хб vvv dkaiov, avOiq OVK ayaOSv жартшухєд)." (Orat.1) Мы видим, что острие критики апологета направленно не столько на , сколько на некий феномен эллинской "мудрости", на ту
"мудрость", которая высмеивается в приведенном Татианом месте из аристофановской комедии "Лягушки". Татиан не намерен рассматривать и критиковать ораторские приемы, говорить о содержательной стороне искусства красноречия. Вместо этого он делает объектом критики сам культурный феномен риторики как искусства формализованной речи вместе с фигурой представителя этого искусства. Апологета волнует вопрос – что представляет собой ритор (или "мудрец", по выражению Татиана), а также то, с какой целью и как применяется искусство красноречия. В приведенном пассаже мы видим конкретные черты феномена ораторского искусства времени Татиана: 1) воздействие на представителей власти в своих корыстных интересах; 2) обучение этому искусству – средство зарабатывания денег; 3) всецело релятивистское и утилитарное отношение к добродетели и пороку, справедливости и несправедливости как вещам относительным. Нужно заметить, что второе столетие, эпоха Татиана – это время особого увлечения эллинизмом в Римской империи. Знание греческого языка и искушенность в классической литературе составляли тогда культурный стандарт образованного гражданина. Кроме того, в это время во всех уголках Римского государства значительной популярностью пользовалось искусство красноречия, носителями которого выступали странствующие учителя – софисты. Это культурное течение I-I веков носит название Вторая софистика.1 Ораторское искусство Второй софистики отличается от предшествующего именно своим размахом и популярностью. Многие ораторы достигают общеимперской известности, приобретают влиятельных друзей, зарабатывают огромные состояния. Некоторые даже становятся друзьями императоров, получают от них высокое общественное положение и освобождение от налогов.1 В городах открываются кафедры риторики. Ораторское искусство этого периода из школ выходит уже не столько на форумы и в суды, а переносится на сцену. Ритор выступает в театре перед огромной аудиторией. Там произносятся панегрики и хвалебные речи, прославляющие величие императоров, римского народа, имперских ценностей. В своих речах искусники красноречия то и дело обращаются к темам классической древнегреческой литературы, истории и мифологии, а также популяризируют некоторые платонические доктрины.2 Однако весь этот материал служит им большинству из них не для дидактической цели, а для украшения речи, произведения наиболее яркого эффекта на слушателей. Тем не менее, софисты второго столетия представляли себя публике именно знатоками и носителями эллинской культуры и охотно готовы были рассуждать на темы, связанные с древнегреческой литературой и мифологией. Многими риторами практиковались речи и на всякие тривиальные темы, предложенные слушателями, порой доходящие до вульгарного цинизма. Выступление известного софиста в театре само уже становится театральным представлением. Многочисленным поклонникам словесного мастерства больше импонировало не содержание речи, но сама эстетическая обработка темы. При этом большое значение приобретали жесты оратора, его интонация, мимика и даже одежда.3 К подобного рода красноречию с неприязнью относились не только христианские апологеты, но и многие представители поздней античности.1 С повышением популярности искусства красноречия, естественно обостряется его давний идейный конфликт с философией. Поднятые Платоном проблемы о явлении сущности вещей в слове и речи, о воздействии слова на слушателя, этической ответственности оратора становятся предельно актуальными. Татианова критика искусства красноречия, а, вместе с тем, и всей античной образованности, неразрывно связана с современной апологету культурной ситуацией, а вместе с тем, и с учением о слове и речи Платона.
Магия как существенная черта языческой религии в учении Иустина Философа и Татиана Ассирийца
По словам Иустина, что "демоны поработили себе человеческий род частью посредством магических писаний (W u), частью посредством страхов и мучений, которые они наносили, а частью чрез научение жертвоприношениям куреньям и возлияниям в коих сами возымели нужду" (2Apol.5). В другом месте апологет говорит: "демоны через магические путы (ft u u) пытаются удержать всех (U &), кто ни мало не заботится о своем спасении" (1Apol.14). Действие "демонского уловления" описывает Татиан: "демоны нередко приходят к людям: и кто болен и мучится любовию или ненавистию и желанием мести, берет их к себе в помощники". "Помощь" демонов, по Татиану, основана на использовании разного рода материалов: кореньев, трав и проч. Этим самым падшие духи, по Татиану, побуждают людей более надеяться на силу вещества, а не на силу Бога (Orat.18). Именно в этом и заключается "хитрость" падших духов: "Как скоро они увидят, что люди готовы принять их помощь, - тотчас овладевают они и порабощают их себе". "Демоны, -утверждает апологет, - посредством низшего вещества завоевывают вещество подобное себе" (Orat.16). Вера в Бога, по Татиану, противостоит вере в вещество: "Почему не обращаешься к могущественнейшему Господу и предпочитаешь лечить самого себя также, как собака лечится травою, олень ехидною, свинья раками речными, лев обезьянами? Зачем ты боготворишь то, что находится в мире?". Татиан призывает "отринуть вещество" тем, кто хочет победить демонов (Orat.16). Мы видим, что Татиан совершенно отчетливо сознает сущность магии и отвергает одно из ее оснований – принцип мировой симпатии и антипатии и вытекающее из него "обоготворение" материального.
Еще один аспект магического, затрагиваемый апологетами – это обоготворение людьми самих духовных сущностей. Татиан приводит слова Иустина о том что демоны подобны разбойникам: "Как последние обыкновенно берут в плен живыми некоторых людей, а потом за выкуп возвращают их родным, так и те, которых почитают за богов, вселившись в тела каких-либо людей и потом посредством сновидений внушивши мысль о своем присутствии, велят таким людям выйти на народ, и, насытившись мирскими вещами в виду всех, отлетают от больных и возвращают им прежнее здоровье, уничтожив болезнь, которую сами они произвели." (Orat.18). Татиан считает, что демоны являются некоторым людям и непосредственно, для того , чтобы "уверить их в своем существовании, или для того, чтобы повредить им в чем-нибудь, как это делают злоумышленные друзья врагам своим, или, наконец, для того, чтобы склонить подобных себе к их обоготворению" (Orat.16). Таким образом, мы видим, что христианское сознание апологетов глубоко антагонистично феномену магии. Сама магия неразрывно связывается с языческой религией, что, по единогласному свидетельству раннехристианских авторов есть служение демонам. Однако самими античными авторами между магией и религией различие проводилось.
В античной философской традиции мы также видим критику магии. Платон в "Законах" приравнивает ворожеев и прорицателей к худшим типам людей – тиранам и софистам. Но эти люди осуждаются не за причастность к сверхъестественным силам, а, напротив, за лицемерное богопочитание, шарлатанство. Здесь же мы видим и осуждение самих магических практик – вызывания духов, использование молитв, заклинаний, жертвоприношений, чтобы умилостивить божество. В "Законах" и "Государстве" (II,364b-c) Платон рассматривает магию не как воздействие на божественные силы, но лишь как корыстную попытку такого воздействия, как манипуляцию умами суеверных людей. Феномен магии здесь относится к сфере социальных проблем и психологии. Само же существо магии Платон затрагивает иначе. В диалоге "Пир" Платон устами Диотимы определяет магию, как атрибут "демонического", а само это "демоническое" в лице Эрота трактует как нечто промежуточное между прекрасным и безобразным, между добром и злом, между бессмертным и смертным. Роль гениев, или даймонов, по Платону такова: "Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы. Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство гениев — и наяву и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек божественный [или демонический – М.П.], а сведущий во всем прочем, будь то какое-либо искусство или ремесло, просто ремесленник" (Пир. 202е-203а). В "Федре" платоновский Сократ рассуждает о "благом" неистовстве, которое даруется людям богами. К этому он относит прорицания в Дельфах и Додоне, - прорицаниях "сделавших много хорошего для Эллады" (244b), то же он относит и к Сивилле. Искусство мантики, посредством которого можно судить о будущем, Сократ находит прекрасным, когда оно проявляется по божественному определению. Вдохновенное прорицание Сократ считает лучше гадания по знамениям для человеческого ума, проводимого в полном рассудке, однако даже и "рассудительное" гадание оценивается Сократом вполне положительно (244d).
Мы видим, что у Платона выделяются две тенденции в вопросе о магии. Первая определяет магию как дерзкую практику манипуляции сверхъестественными силами, основанную на корыстном расчете одних и грубом суеверии других и склонна рассматривать ее как дурное, но привычное для античного государства явление, вторая же, напротив, совмещает ее с благочестивой религиозностью и божественной мудростью. Эти тенденции так и продолжат свое развитие вплоть до поздней античности, усиливаясь в своем взаимном антагонизме. А.В. Петров, на основании сравнения магических памятников одного жанра (табличек с заклятиями) констатирует, что в позднее эллинистическое время в магии произошла революция, выразившаяся в превращении ее в практику, осуществляющуюся профессионалами, профессионализм которых состоял в знании специфической демонологии, обладании специальной литературой и умении использовать и создавать то и другое.1 В литературе I в. до н.э – I в. н.э. (Цицерона, Плиния Старшего, Тацита, Курция Руфа, Диона Кассия) мы видим критическую реакцию на этот процесс: магия преподносится авторами как суеверие, вместе с чем ставится проблема правильного почитания богов, которая, однако, не находит удовлетворительного решения.