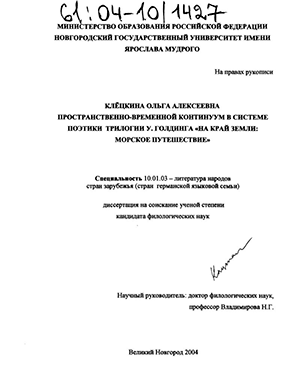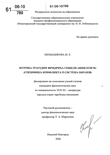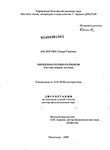Содержание к диссертации
Введение
Глава первая: Структура и особенности функционирования категории хронотоп в системе поэтики художественного произведения
Часть I: Пространство художественное
1. Пространство художественное. История вопроса: генезис и развитие 11
2. Пространство как место романного действия 15
3. Читатель/автор в пространственной картине: условное/реальное 25
4. Пространство и язык 29
5. Пространство текста 35
Часть II: Время художественное 45
1. Время и текст 50
2. Реальное время в условной темпоральности 59
3. Временная позиция персонаж/автор (реальное/виртуальное) 65
4. Грамматическая категория времени в контексте нарративного использования 69
5. Временная интеракция: фикция-нарратив 74
6. Время наррации 78
7. Жанровая хроно-закрепленность 84
Часть III: Взаимосвязь пространства и времени художественно освоенная в литературе как хронотоп
1. Проблема принципа соединения пространства и времени в рамках художественного хронотопа 92
2. Проблема структуры и компонентов хронотопа как художественного явления 99
3. Проблема структуры хронотопа литературного произведения 103
4. Хронотоп морского путешествия 111
5. Хронотоп эпистолярно-дневникового повествования 116
Выводы по первой главе 120
Глава вторая: Принципы организации и функционирования пространственно-временного континуума в трилогии У. Голдинга "На край земли: морское путешествие" 124
Часть I: Корабельный хронотоп 126
Часть II: Внекорабельный хронотоп 162
Часть III: Хронотоп текста 174
1. Особенности и функции маркирования глав в трилогии 175
2. Проблема адресата в трилогии как проблема выбора направления жанрового ориентира 183
3. Текстовое пространство как мозаика голосов «Я» и «Другой» 190
4. Жанровые модификации в трилогии как эволюция манеры становящегося повествования 194
Выводы по второй главе 204
Заключение 208
Библиография 212
- Читатель/автор в пространственной картине: условное/реальное
- Время наррации
- Корабельный хронотоп
- Жанровые модификации в трилогии как эволюция манеры становящегося повествования
Читатель/автор в пространственной картине: условное/реальное
Задаваемая автором субстантивная (обозначенная именем существительным) пространственность как правило статична. Локальные ориентиры типа: дом, город, храм, кабинет, пейзаж, сад, остров и т.д. - нацеливают читателя на топическую устойчивость действия (особенно, если действие драматическое, где константа места - одна из неизбежного набора театрального триединства). Хотя, субстанциональная лексика может так же являть и динамичную пространственность. В этом случае автор либо привлекает набор взаимодействующих локусов (дом -»сад, город -»город), либо выбирает концепт, априори предполагающий движение (дорога, корабль, океан).
Динамика данного порядка условна как относительно автора, так и относительно читателя, пространственная подвижность фиксируется реципиентом, не принимая во внимания его настоящее пространство и не вбирая его в собственное. Однако возможен обратный вариант логики пространства. Эту модель предлагает В.П. Руднев (Руднев, 2000, с. 105), ориентируясь на деонтическую логику Г. фон Вригта (1986), временную логику Прайора, аксиологическую логику А.А. Ивина (1971) и эпистемическую логику Я. Хинтикки.(1980) В качестве модальных операторов Руднев использует понятия: «здесь», «там», «везде» и «нигде». Определение двух первых представляет сложность, поскольку пространственность «здесь» и «там» неуниверсальна (как в случае с «везде» и «нигде»), несамостоятельна и зависима: «здесь» естественно определить «здесь» естественно определить как «в месте, находящемся в непосредственной близости от говорящего», а «там» - как «в месте, удаленном от говорящего». Таким образом, пространственная атрибутика высказывания «приглашает» говорящего/воспринимающего условно идентифицировать настоящее собственное «здесь-там» с виртуальным вариантом. Говоря «здесь» или «там» автор становится в одну пространственную плоскость со своим героем, и читателю ничего не остается, как тоже следовать правилам этой игры.
Детально идея совпадения пространственных позиций повествователя и персонажа разрабатывалась Б.А. Успенским. (Успенский, 2000) Он отмечает, что совпадение может принимать различные варианты. Первый: рассказчик находится там же, то есть в той же точке пространства, где и персонаж, - он как бы «прикрепляется» к нему (на время или на всем протяжении повествования). Второй - вариант более глубокого взаимодействия: автор целиком перевоплощается в это лицо, «принимает» на данный момент его идеологию, фразеологию, психологию и т.д., соответственно, и точка зрения, принимаемая автором при описании, проявляется тогда во всех соответствующих планах.
Степень и качество авторского проникновения в условное пространство «здесь-там» может влиять на узость/широту самого модального оператора. В.П. Руднев предлагает различать понятия «здесь» и «там» с маленькой буквы и «Здесь» и «Там» с большой буквы. Первая пара предполагает виртуальную сенсорную достижимость: локальная близость, достаточная для чувственного восприятия (например, здесь в комнате, здесь на столе, там за окном и т.д.), рассказчик, а через него и слушатель (читатель) «слышит», «видит», «осязает» романное пространство. Если условная топика не поддается виртуальному прочувствованию, а автор и персонаж просто находятся в рамках одного актуального пространства, то данная локальная близость уже не сенсорного, а эпистемического свойства. И сенсорное и эпистемиче-ское пространственное проникновение играют порой важную композиционную, жанроопределяющую роль в структуре произведения. Автор (а с ним и читатель) «незаметно» для персонажей преступает границы художественности, «подглядывает и подслушивает», догадывается, раскрывает интригу, секрет раньше, чем об этом заговорят на страницах книги. Можно предположить некоторую зависимость: читательское нетерпение от сопричастности к тайне - конечно весьма условно, как будто - постепенно нагнетается и переливается в романное пространство, как атмосфера мистерии, напряжения; а сам читатель в такой момент «проживает» условное пространство, игнорируя настоящее. Как правило, такой прием характерен для детективной композиции: неспешная завязка - конфликт-преступление -интрига-подозрение - развязка, где читателю автор предоставляет роль над-композиционного свидетеля/соучастника. Художественное пространство может вовлекать реципиента извне не только в эпистемический или сенсорный диалог, В.П. Руднев выделяет также следующие разновидности: (Руднев, 2000, с. 113)
- Пространственность алетического характера (alfttheia - от греч. - истинность, правда, возможная вероятность), например, роман К.Воннегута «Сирены Титана» имеет фантастическую топику: планеты Марс, Меркурий, Титан и Тральфамадор, а читатель, «проживая» романное пространство добровольно принимает вымышленные топосы как должные, истинные.
- Пространство деонтического характера (от греч. - deon - долг, должное, обязанность, позволительность, допустимость) Романная условность «заставляет» читателя «нелегально» преступить пространственное табу, попасть туда, где его «не желают», и как следствие, - виртуальное отторжение, страдание. Как пример - сказка Ш. Перро «Синяя борода» (вход в запретную маленькую комнату), кафкианский «Замок» - вечноотторгающее пространство.
- Пространственность аксиологического характера - (от греч. - axios -ценность, значимость). Эмблемой здесь является паломничество, но не как средство достижения цели, а как сама цель, ценность в самом пространственном передвижении. Этот тип актуализируется в романах-путешествиях и романах фентези (голдиноговская «Морская трилогия», странствия героев Дж. Свифта, Верна, миссии-паломничества Дж. Р.Р Толкиена). - И последний тип пространственности связывает эту категорию с категорией времени, то есть пространственность темпорального свойства. Читатель вовлекается в пространственно-хронологические скачки «прошлое -» грядущее», это популярный прием научно-фантастической, авантюрной литературы (Г. Уэллс «Машина времени»). Данные выше варианты пространственной логики привлекают участие извне: автор (а с ним и читатель) находит себе место в условном мире. Возможен и противоположный вариант, то есть отсутствие совпадения пространственной позиции автора с позицией персонажа. Б.А. Успенский, рассматривая особенности такого «невмешательства», выделяет следующие типы-ситуации: (Успенский, 2000, с. 104)
«Последовательный обзор» - способ авторской подачи пространства, когда точка зрения повествователя скользит от одного локуса к другому, от одной детали к другой, а читателю предоставляется возможность смонтировать эти отдельные описания в одну общую картину; движение авторской точки зрения в этом случае аналогично движению объектива камеры в киноповествовании, совершающий последовательный обзор какой-то сцены. Иногда высокая интенсивность данного приема (то есть слишком частая смена планов) убыстряет романную темпоральность, вызывая «эффект сгущения времени». Нельзя сказать, что авторская позиция при «последовательном обзоре» совершенно безлична, здесь еще сохранена, в известном смысле, пространственная при-крепленность к персонажу, но эта прикрепленность абсолютно беспристрастна, как кинопленка: фиксирует пространство не проживая его. «Немая сцена» - описательный принцип близкий предыдущему, но авторская прикрепленность к персонажу предельно ослабляется. «Немая сцена» указывает на удаленность позиции наблюдателя; до него как бы не доходят - в силу его удаленности - голоса описываемых лиц, он может их наблюдать, наблюдать как пантомиму. Эта дистантная позиция дает возможность достаточно обобщенного показа.
Но наиболее обобщенный пространственный обзор Б.А. Успенский характеризует как всеохватывающая точка зрения, «птичий полет», поскольку пространственность этой модели претендует на рамочный охват всего топического объема произведения. Исключая более дробные (мелкие) зрительские позиции, панорамная «мозаика» пунктиром обозначает общую романную протяженность. Таким образом, художественное пространство, функционируя на грани реальное/условное, представляется нам наиболее активным по отношению к реальности, где в контексте книжной топики отводится место и автору/читателю, что некоторым образом «персонифицирует» пространство, придает сенсорно-психологический оттенок данной категории поэтики художественного произведения.
Пространственность свойственна языку вообще, этот вариант протяженности представляется малоисследованным, но весьма актуальным.
Время наррации
Существование времени наррации, того, что немецкие теоретики называют «ErzaMzeit» (Muller, 1968), а Ж.Женетт называет псевдовременем, мнимым временем (Женетт, 1998, П, с. 70) подтверждается, во-первых, оговоренными выше нарративными хроно-перевесами, а во-вторых, наличием собственно нарративного темпа как такового (ведь там, где нет времени не может быть и темпа).
Нарративный темп представляет собой время-количественный способ нарративного «пересказывания» событийного хода фикции, другими словами, темп повествования определяет как быстро (конспективно, кратко) либо медленно (детально, подробно) будет изложена суть повествуемого. По Ж.Женетту, «повествовательная традиция, в особенности традиция романа, (...) в ходе эволюции выработала четыре канонические формы романного темпа (четыре нарративных движения); это в некоторой степени аналогично тому, как классическая музыкальная традиция различает в бесконечном разнообразии возможных темпов исполнения несколько канонических движений andante, allegro, presto, и т.д., сменой и чередованием которых в течение уже двух столетий определяются такие структуры как соната, симфония или концерт». (Женетт, 1998, II, с. 124)
Четыре нарративных движения - пауза, сцена, резюме, эллипсис - представляют собой временную шкалу, где есть два крайних члена и два промежуточных, что мы рассмотрим более подробно.
Пауза (описательная пауза) - характеризуется нулевым движением фиктивного времени, то есть время локализованного в ней процесса игнорируется ходом книжной истории. Это «абсолютная медленность, где некий сегмент нарративного дискурса соответствует нулевой диететической длительности». (Женетт, 1998, II, с. 124) Пауза проявляется в описаниях, пейзажах, авторском вмешательстве, внутренних персонажных монологах, эмоциях и т.д. Фикционно-пустые нарративные сегменты не «двигают» книжную историю, но тем не менее являются темпорально наполненными, так как подразумевают некоторое время, затраченное на их продуцирование-обдумывание-переживание. Пауза маркирует полную остановку вре-меннбго хода излагаемого, но «включение» темпоральное изложения; этот процесс может идти параллельно какому-либо фиктивно-фабульному действию и тогда примыкает, вписывается в его время, но также обладает и индивидуальной длительностью, ритмом, точкой начала/конца, что не позволяет напрямую «запараллелить» его времени излагаемого; более того, в некоторых произведениях процент таких «моментов/ситуаций» достаточно велик, что не дает оснований игнорировать их течение вообще, либо «вписать» в фиктивную хронику. Целиком паузное исполнение обнуляет фик-ционную хронику, здесь темпоральность будет реализована только средствами нарративного времени, (что указывает на его широкие функциональные возможности); тогда все произведение получает статус «бессюжетного», «событийно пустого», но этим функция паузы не ограничивается. У Ж. Женетта эпитет «описательная» подразумевает наиболее частый характер подобных нарративных сегментов. Мы видим здесь и поэтико-созидательную нагрузку. Описательная (описывать = изображать, характеризовать, рисовать) пауза останавливает время, но «впускает» пространство: инертность сюжетного течения уступает место виртуальной топике.
Эллипсис - бесконечно высокий темп, «пробел», пропуск во времени повествуемого. Эллипсис предельно сжимает время фикции, оставляя его событийно «незакрашенным», либо события намечаются пунктирно; такая ситуация-пробел имеет несколько функций. Во-первых, дает ощущение «хода времени», ускоряет книжную историю, а вместе с тем предполагает некоторую эволюцию/перемену/пересмотр прежних позиций и установок героев. Также подводит черту предыдущему этапу, намекая на важные события грядущего, поскольку хроно-скачек завершен, и нарратив счел важным далее «притормозить» для более подробного изложения в дальнейшем. Эллипсис может так и остаться событийно немым для читателя, автор не говорит о том, что происходило с героем в указанный промежуток времени, но считает нужным ввести повествовательный «пробел», оставить его пустым, мистифицируя этим героя и интригуя читателя.
Буквально в тексте эллипсис может быть обозначен фразой типа: «прошло пять лет», «двумя днями раньше», «потом еще очень долго», «некоторое время спустя», «всю зиму 1830-1831» и т. д. В некоторых случаях мы не можем утверждать полную фикционную немоту эллиптического фрагмента часто «пробел» так или иначе квалифицирован («пока они жили в столице» «прошло несколько лет блаженства», минул еще один день пустых ожиданий), это уже информация диететического (фикционого) содержания. Нетрудно заметить, что в ряде случаев эллипсисы снабжены точной датировкой - указанием их длительности; другие напротив являют длительность весьма неконкретного характера, что при анализе подобных моментов позволяет подразделять их на эллипсисы определенные и неопределенные. (Женетт, 1998, II, с. 135) Факт определенности/неопределенности при анализе общехрональной картины произведения играет существенную роль. Являясь результатом авторской интенции конкретная/неконкретная долгота предполагает/умалчивает хроно-количественную важность эллипсного фрагмента, его вероятную событийную насыщенность/бедность, а также удельный вес в цельнотемпоральном пласте.
Определенный эллипсис, численно обозначенный, либо впускает в романную условность реальное время-историю (когда точно датирован), что «увязывает» его события с событиями исторической эпохи, периодом; либо, если задан числом, дает возможность его символико-метафорической трактовки. Бели общехрональная картина произведения продатирована, то «определенность» позволит точно вписать в нее эллипсный фрагмент, а также оценить его значимость и временную протяженность.
Неопределенный эллипсис может быть истолкован двояко, с одной стороны, временная неконкретность работает в пользу конкретизации действия/события этого периода: не важно как долго длиться процесс/имеет место факт, важен сам процесс/факт (например, в моделях типа: она все это время жила в Лондоне, он довольно долго работал над этой картиной и т. д.). С другой стороны, хроно-неопределенность отражает ощущение времени самого героя: время-бытие как вязкий неисчислимый поток. Часто персонажное времячувствование имплицируется выбором глагола (лексики), для обозначения временного движения (минуло, прошло, пролетело и т.д.).
Эти аспекты несут поэтическую, эстетико-жанровую информацию концептуального характера, что позволяет более глубоко оценить темпораль-ность художественного произведения.
В тексте эллипсис может проступать явно и скрыто. С формальной точки зрения Ж. Женетт предлагает различать следующие варианты: (Женетт, 1998, II, с. 136) Эллипсисы эксплицитные - подаются посредством прямого текстового указания, автор совершенно точно и сознательно указывает на время-пропуск в фиктивной истории; к этой группе принадлежат структуры, рассмотренные выше (определенные/неопределенные).
Эллипсисы имплицитные, «то есть такие, само наличие которых в тексте никак не манифестировано и может быть лишь выведено читателем из каких-либо хронологических пробелов или разрывов в нарративной непрерывности» (Женетт, 1998, II, с. 136) Выпадение куска жизни/времени героя может быть авторски намеренным («закулисный» период, тайна), либо опущенным в силу его малозначительности; принципиальна его длительность, если таковая поддается количественной оценке.
Эллипсис гипотетический — наиболее имплицитная форма эллипсиса, «которую невозможно локализовать, порою даже поместить в какое-либо место, который обнаруживается задним числом в каком-либо аналепсисе»( Женетт, 1998, П, с. 137)
Таковы крайние точки шкалы нарративных темпов, далее мы приступим к рассмотрению промежуточных:
Сцена (детализированная) - это нарративное движение являет вариант максимально равный фикционному ходу, что уподобляет повествовательную сцену сцене драматической; «здесь главные моменты действия совпадают с наиболее интенсивными моментами повествования». (Женетт, 1998, П, с. 138) «Сценгоации» подвергаются наиболее важные, поворотные эпизоды, часто имеет место «диалогическое» повествование, но в отличие от драматического варианта это не просто линейный подробно воссозданный набор последовательных действий: часто сцена «играет роль «временнбго фокуса» или магнитного полюса, притягивающего возможные сведения и дополнительные обстоятельства: может быть раздута, перегружена разного рода отступлениями, ретроспекциями, антиципапиями, дидактическими вмешательствами повествователя, дополнена детальными пространственными координатами» (Женетт, 1998, П, с. 139)
Корабельный хронотоп
Ситуация «одинокий корабль в безбрежном океане» в мировой литературе представляется как развернутая метафора человеческого бытия, «плавания» в пучинах макрокосма, что подтверждается многочисленными трактовками корабля как символа. Это модель Земли, путешествующей в просторах вселенной; воплощение вечного изменения, развития, поиска и перехода. Перехода из материального мира в духовный, перехода на другие уровни сознания, культуры, существования в макро- и микропросторах, что превосходно сочетается с многообразной семантикой голдинговской протяженности passage.37
Корабль - великий библейский символ - ковчег - «вместилище жизни», атрибут спасения, искупления, приюта и вечного возрождения, где крестообразная мачта - гарант безопасности среди жизненных просторов. Обязательным условием для корабля является движение, понимаемое как диалектика проклятья и блага: судно на приколе - оппозиция покоя и никчемности. Путешествие - свобода и неприкаянность.
Образ корабля - художественный образ метафорически широкий и символически наполненный. Корабль Голдинга включает в себя и традиционно сложившиеся в литературе и оригинальные авторские трактовки. Примечательно, что автор уделяет огромное внимание собственно кораблю: «Сама старая посудина, - как пишет Голдинг в предисловии к роману, - является главным персонажем истории, создавшим ту Неизбежность, что сдерживает героев и обстоятельства в рамках конкретных действий и событий; так, а не иначе» (Golding, 2000, p.viii). Таким образом, автор заранее оговаривает исключительность и необычность корабля, как активного пространства, где разворачивается роман: именно топос ответственен за «конкретные действия и события», становясь не только главным героем (здесь: топоперсонаж
- пространство-деятель), но где-то и «автором-творцом» романа. Необычная активность судового пространства объясняется тем, что корабль выступает здесь в роли живого существа, что дает ему право не только принимать живое участие в романной интриге, но и самому ее создавать. Путешественники воспринимают судно не иначе как одного из членов команды, наделяя его вполне человеческими чертами38. Активность корабля-как локуса не исчерпывается лишь самостоятельностью поведения. Это также пространство, наделенное характером, способностью чувствовать и реагировать39. Сами моряки дают кораблю-пространству бесчисленные «нелепые и подчас неприличные названия», не просто одушевляя его, но и социоэмо ционально окрашивая.40
Судно-топос «ожило», так как «нос его украшала настоящая скульптура - дань моде прошлого века» (Голдинг, 2000, с. 320). «Носовое украшение - вырезанный из дерева бюст на носу судна, берет свое начало еще с тех времен, когда строительство судна посвящали языческой богине в надежде на ее вечное покровительство. Отсюда и одно из немногих исключений местоимение «she» (она) соответствующее английскому «a ship» (корабль)» (Фоли, 1996, с. 418). Судно-топос гендерно сориентировано, что определяет его роль, как топоперсонажа. «Наш ход стал мягким, женским что ли, недаром наши соотечественники избрали для своих судов женский род и в третьем лице неизменно говорят о них «она» (Голдинг, 2000, с. 314). «Она - так, словно сварливую любовницу, мы между собой ее называем» (Голдинг, 2000, с. 307). Более того, судовой лейтенант Саммерс неоднократно в тексте трилогии именуется «корабельным мужем» («I m the ship s husband» (Golding, 2000, p.355) «She (the ship) was his own wife» (Golding, 2000, р.367), и даже их совместная гибель в конце трилогии выглядит весьма закономерной и отвечающей жанровому регистру последних глав.41 «Обобщенная женщина» - знаковость данного образа выступает и как первично-телесное начало: утроба, женское чрево, а значит греховное и темное. В тексте трилогии неоднократны сравнения трюмов с утробой, зловонным гнилым тяжелым чревом, наполненным гравием и песком, что однозначно определяет пространство действия как нестабильное и тревожное.
Женская фигура на носу - душа судна, как всякая дама, она не приемлет соперниц. Это поясняет справедливость дурной приметы о неминуемой опасности, если на борту есть женщина. Не единственная, но наиболее яркая дама-пассажирка - «шикарная штучка» (regular snorter) - Зенобия -«лицемерная и со склонностью к театральности, не первой молодости шлюха». (Владимирова, 2001, с. 52) Она принадлежит к так называемой знати, которая расположилась в кормовой части судна, что усложняет пространственную оппозицию корма-нос (фигура), наполняя эту протяженность атмосферой скорого трагизма. Интересны метаморфозы этого образа - попав на корабль, Зенобия описывается как весьма эффектная дама, по ходу путешествия она превращается в старуху с ввалившимся ртом и желтой кожей, а далее, спустя неделю, по прибытии умирает, не перенеся тягот морского пути (соперничества).
Фигура на носу судна, скорее всего, изображает греческую богиню-воительницу Афину, текст не дает нам на это прямых указаний (хотя имя Минервы, у греков Афина, и проскальзывает как шутливое прозвище мисс Гренхем, пассажирки). Автор неоднократно подчеркивает, что корабль, ныне гражданский, в далеком прошлом участвовал в многочисленных баталиях42, это подтверждает возможность того, что на носу именно фигура боги ни-воительницы. Ее принадлежность к греческой мифологии может быть объяснена следующими фактами. Голдинг долгое время занимался изучением греческого языка и работ античных авторов, в частности, Гомера. Автор вводит в текст аллюзивные намеки-цитаты на греческом языке и прямые упоминания Гомера и его «Одиссеи». Известно, что покровителем странствий Одиссея была именно Афина, как вообще Афина благоволит «отправляющимся на кораблях в море». По преданию, впервые ее скульптурное изображение украсило легендарный «Арго», иногда о нем упоминается как о первом судне, построенном рукой человека (параллель с Ноевым Ковчегом, черты которого мы находим и в корабле Голдинга). На носу корабля установили кусок додонского дуба (дуб - материал судна трилогии) благодаря которому корабль сам давал прорицания (Словарь мифов, 2000, с. 38-39), то есть, являлся персонажем наравне с прочими. В пользу родства гомеровского корабля и корабля трилогии выступает эпизод званого ужина в покоях капитана Андерсена, где главным блюдом меню являлись коровьи мозговые косточки. Одиссей готовит пищу для изголодавшейся команды из священной коровы Гелиоса. В ответ на это святотатство бог солнца проклинает корабль и экипаж (Словарь мифов, 2000, с. 234-235).
Таким образом, диалог хронотопов гомеровских путешествий и «passage» Голдинга роднит корабли-пространства обоих произведений.
Интересно, что эпоха, которой принадлежит судно, не поддается определению, так как аллюзивно хронологические границы его описаний простираются от этапа сотворения мира, событий Всемирного Потопа, времени гомеровских путешествий до наполеоновских войн. Плюс сложная интертекстуальная подкладка атмосферы морских романов XVHI-XIX веков, пей-зажность морской баллады Колриджа, и проблематика уже нашего столетия - все эти моменты указывают на то, что сам корабль существует во внехро-нотопической, а вернее надхронотопической зоне - «passage». талий, начиная со времен его сотворения (чуть ли не сотворения мира), великих побед Лорда Нельсона, и сражений наполеоновских войн. (Golding, 2000, р.. 316).
Голдинг намеренно оставил корабль (а по сути главного героя романа) безымянным («unnamed ship»), зато наделил его широкой аллюзивной атрибутикой. Здесь, при анализе описаний и характеристик судна вступает в силу так называемый хронотоп диалога культур: то есть корабль «принимает на борт» пространственно-временные и качественные данные многих известных морских романов и путешествий, что дает нам право идентифицировать судно трилогии с любым кораблем, принадлежащим как художественной условности, так и реальности. Причем зачастую переносятся также и некоторые идеи аллюзивных произведений, служащие в «Ритуалах» лейтмотивными линиями: мотив жизни, как извечное скитание и мотив проклятья корабля и его команды, что в целом согласуется с голдинговским видением человека и его природы. Иногда корабль в романе предстает как Ноев Ковчег, «ведь первым его командиром был сам капитан Ной» (Голдинг, 2000, с. 297) к тому же судно, как и ковчег, наполнено людьми и животными: «по всей палубе раскатывается доносящееся откуда-то сверху блеяние овец, мычание коров и быков, громкие голоса мужчин и ...верещание женщин» (Голдинг, 2000, с. 296). Корабль здесь действует как организующее ядро, ось мироздания, сакральный вариант вселенской вертикали - дерево.43 Таковы самые общие характеристики ядра пространства действия. Но корабельный хронотоп по своему ценностно и знаково ориентирован в каждом романе трилогии. От книги к книге автор прибегает к смене акцентов и точек зрения, что делает корабельный хронотоп становящимся, в некотором роде эволюционирующим.
Рассмотрим сквозную модификацию корабельного пространства-времени на протяжении всей трилогии.44
Жанровые модификации в трилогии как эволюция манеры становящегося повествования
Главный вопрос при рассмотрении хронотопа текста трилогии - вопрос движения жанра. Как неоднократно отмечалось исследователями творчества Голдинга, трилогия - сложное полижанровое повествование, которое начинается как путевой дневник в традициях эпистолярной прозы кон. 18 нач.
19 столетия, затем проходит несколько промежуточный жанров на пути к финальному - современному философскому роману. Каждая книга имеет свой тип межжанровых отношений, а произведение в целом являет жанровое взаимодействие и в синхронии (идет постоянная смена художественной манеры изложения), и в диахронии: жанровый регистр охватывает литературные традиции разных эпох. Трилогия создана в XX столетии, но стилизована под более ранние модели художественной прозы (морской роман, просветительский роман, исторический роман, эпистолярный роман, сентиментальное путешествие), что вводит игровой элемент в межтекстовые отношения, выстраивая их в технике пастиша.
Вопрос жанрового движения тесно связан с проблемой времени текста, поскольку темпоральность (художественная, грамматическая, нарративная, историческая) позволяет фиксировать сдвиги жанровой модификации. Исходный жанр произведения анонсируется автором уже в названии: Морская трилогия (Sea Trilogy), но несостоятельность заявленного направления открывается почти сразу, поскольку морская атрибутика в романе весьма поверхностна; трилогия лишена типичной для жанра проблематики, интриги, характерных героев и т.д. Уже при первом знакомстве с текстом избранная форма обнаруживает типическую несостоятельность: автор намеренно пренебрегает необходимыми жанрово-эстетическими компонентами, такими как типичный сюжетный ход, классически требуемые эпизоды, мотивы (погоня за сокровищами, встреча с пиратами, морской промысел), типичные описательные паузы, забортная пейзажность и т.д. Если Голдинг и включает элементы морского повествования (так как это все же морской роман) то они весьма трансформированы, начиная с героя-протагониста (Тэлбот -светский аристократ, в меру циничен, подчеркнуто эрудирован); часто просто пародийны: капитан, наделенный всеми чертами морского волка, но вместе с тем с совершенно нехарактерной слабостью - собственная оранжерея -, а вместо славного героического прошлого читатель знакомится с некрасивой историей его семейной тайны. Батальные маринистические сцены если и присутствуют в тексте (например, подготовка к бою с кораблем-незнакомцем), то они также пародийны. Военный бой у Голдинга напоминает абсурдную ситуацию, «антисражение». Центральная сюжетная линия первой книги не имеет ничего общего с морской традицией; вместо подвига, авантюры на воде здесь «история одного грехопадения», которая развивается, затрагивая жанровый регистр в целом: здесь и светский роман, и психологический и эпистолярный и детектив, комедия, драма. Однако полностью исключить «морскую» направленность произведения также оказывается невозможным; это скорее пересозданная «морская» форма, трансформированный жанр.
Трансформация имеет формально-содержательный генезис, поскольку книги трилогии имитируют традицию дневникового повествования начала XIX века, эпистолярный роман в форме трансформированного романа воспитания (Bildungsroman) где «пишущее» сознание героя определяет содержательную сторону излагаемого. Работа сознания служит силой как собственного становления (воспитания), так и жанровой эволюции и модификации. Голдинговское путешествие (passage) в отличие от предшествующих образцов морской литературы совершается не вне, а внутри героя, это путь взросления, познания себя и поиск истины. Специфика жанрового диалога и метаморфозы каждой книги инспирирована сменой точки зрения пишущего сознания-протагониста. С точки зрения поэтики произведения «passage» выступает стратегией жанрового синтеза и модификаций.
Первый роман «Ритуалы плавания» начинается как индивидуальное хронологически четкое дневниковое повествование. Эдмунд аккуратно записывает события каждого дня. Поначалу преобладает грамматическое настоящее (часто длительное английское Continuous). Временной промежуток между событием и его письменной фиксацией минимален, что позволяет говорить о изохронии фабулы и последовательности ее письменной фиксации. Четкая однообразная форма не долго удовлетворяет Тэлбота, с первых страниц идет игра «текст в тексте» Он пробует играть с языком, вводя цитаты на греческом, латинском, переводя «сухопутные» сюжеты на флотский жаргон «tarpaulin».
«Tarpaulin» - профессиональный навигационный сленг, в качестве консультации Тэлбот прибегает к словарю Фальконера168. Навигационный жаргон — язык матросов, он не только профессионально, но и социально окрашен. Новому пространству действия соответствует новая языковая среда. Тэлбот постигает «tarpaulin», словно примеряет новую социальную роль, новую маску. Сначала «tarpaulin» постигается Эдмундом как инструмент к пониманию новой ситуации, попытка и, понять значение корабельной жизни через знаки ее языка169. Он играет языками, играет стилями. В поиске манеры герой обращается к предшествующим образцам, что дополняет поэтику вертикальным контекстом.
Вертикальный контекст первой книги выстроен гомеровским эпосом, аллюзивными аппеляциями к романам Смоллетта, Филдинга, Голдсмита и Ричардсона, Дефо, лирике Колриджа, драматургии Расина, Шекспира. Гомеровское путешествие - архетип всякого художественного плавания. Цитаты оригинала, разбросаны по тексту первой книги, но их присутствие часто совершенно непринципиально. Они не просто указывают на эрудицию главного героя, это еще одно, косвенное, аллюзивно создаваемое подтверждение в пользу идеи Тэлбот - alter ego реального автора. Голдинг долгое время занимался изучением греческого языка, текстов Гомера; введение цитаты - своего рода авторская эстетизация повествования.
Эдмунд пишет дневник, но заданная форма не соблюдается практически с первых таниц; его повествование в первой книге тяготеет то к роману, то уходит в драматургию.
Жанровый поиск обращается к драматургии только в первой книге; его движение во всей трилогии целиком идет по пути выбора-становления романной формы и начинается уже в «Ритуалах». Отказ от дневникового изложения происходит в пользу традиции художественной прозы. В поиске эталонных ориентиров Тэлбот-Голдинг разбрасывает по тексту аллюзии-ссылки на «старых добрых Филдинга и Смоллетта», «сентиментального Голдсмита и Ричардсона», Дефо. Фамильярно-снисходительный тон по отношению к современникам-романистам выдает неудовлетворенность формой ХУШ-ХІХ столетия, которая не совпадает с сознанием героя, сознанием XX столетия (сложного, знакомого с бергсоновской и прустовской концепциями памяти и времени), что сбивает формальные установки, маркировку и заставляет автора вести поиск жанра уже по ходу повествования.
Постепенное наложение современного содержания на приметы романной традиции XVIII-XIX столетия изменяет старую форму. Старая форма становится несостоятельной; на этапе первого сбоя помет происходит ме-тафоризация и семантическое усложнение голдинговской протяженности «passage»: однонаправленный вектор путешествия, расслаиваясь, вторгается в сверхсферы, новаторские для века XIX, судно стремительно прорывается в следующее столетие, что фиксируется героем как сумасшедший бег времени.I7Q Постепенно жалобы на нехватку времени сменяются жалобами на нехватку слов, как «несостоятельность устаревшей техники письма с наивной попыткой прямой передачи произошедшего» (Владимирова, 2001, с. 49). «Как - как описать?» (How to describe?), «Не знаю, как изложить все на бумаге» (Голдинг, 2000, с. 538). Это также объясняет его увлечение «tarpaulin», который становится новым инструментом выражения; Тэлбот использует корабельный сленг, жалуясь на нехватку слов, беспомощность «сухопутного» словаря, вернее принятой эпистолярной повествовательной формы XIX века для выражения переживаний сознания XX.
Голдинг заставляет Талбота посредством старых приемов постигать современную истину, что весьма затруднительно, однако только эта установка способна активизировать сознание героя и заставить его совершить прорыв, скачек вперед, в будущее. Репортаж о «сейчас» меняет статус на романное изложение, и становящийся роман формально имитирует прозу начала XIX века. Можно предположить, что перед нами прием палимпсеста, но вывернутого наизнанку (в свете символики путешествия к Антиподам «с ног на голову»), где основой служит не более старший по времени текст, а современный роман, постепенно проступающий в ключевых моментах надстроенной поверх него старой техники дневникового повествования, и окончательно проявляющийся лишь к концу романа. Автор-Голдинг умело включает в диалог разнообразные жанровые ориентиры: то вводит любовную фабулу салонного образца XVIII века; то мистифицирует читателя, то обнажает персонажную рефлексию, то привносит детективную линию в замкнутое пространство корабельного социума. Параллельно идет игра-диалог «текст в тексте», создающая варианты центрального события в изложении различных персонажей, аллюзивный полилог, палимпсестное взаимодействие текстов разных эпох, стилей и традиций.