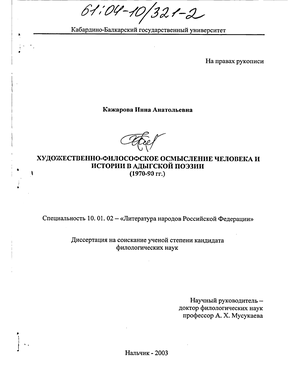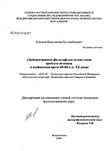Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. История как представление и литературный факт. (К постановке вопроса) 15
Глава 2. Художественная историософия адыгской поэзии 37
2. 1. Метафорические смещения исторического мира (Мухамед Нахушев) 37
2. 2. Образ звука и тишины как способ прочтения исторического (Афлик Оразаев) 52
2. 3. Метафизика высоты и бездны в ценностном составе мотива восхождения (Хабас Бештоков) 65
2. 4. Художественная динамика «внутреннего» и «внешнего» содержания исторического события (Мухаз Кештов) 78
2. 5. Модификация отношения «человек - история» в поэзии Мухадина Бемурзова 85
Глава 3. Мифо-фольклорные традиции и художественная историософия 97
3.1. Мифическая «логика» истории («Каменный век» Хабаса Бештокова) 97
3. 2. Принцип отраженного мира в историософии Нальби Куека 116
3.3. Грани вневременного в исторической реальности Мухаза Кештова...122
Заключение 134
Библиографический список использованной литературы 138
- История как представление и литературный факт. (К постановке вопроса)
- Метафорические смещения исторического мира (Мухамед Нахушев)
- Образ звука и тишины как способ прочтения исторического (Афлик Оразаев)
- Мифическая «логика» истории («Каменный век» Хабаса Бештокова)
Введение к работе
Историческое в литературе так или иначе привлекает внимание исследователей, однако, следует признать, что непосредственный интерес к этому явлению пробуждается лишь в отдельные временные периоды. Актуальность историзма по отношению к литературе XX века, столь насыщенного событиями, подвергать сомнению не приходится, как не приходится подвергать сомнению и то, что он по-особому выкристаллизовался в русской литературе советского периода, влиянием которой отмечен наиболее активный этап формирования северокавказских литератур. Применительно к этому времени в слове «историзм» невольно ощущается обязательное присутствие элемента, связывающего его с марксистско-ленинскими учениями. Активизация в ходе постижения предмета круга связанных с ним ассоциаций вполне естественна, хотя бы потому, что «между словом и предметом, словом и говорящей личностью залегает упругая, часто трудно проницаемая среда других, чужих слов о том же предмете, на ту же тему» [4: 89]. Потому исследователю не стоит открещиваться от того, что имело место, выискивая «правильный» историзм и историзм «неправильный». В данном случае всякую возможность историзма, получившую своё воплощение в художественном творчестве, мы воспринимаем как симптом времени.
Факт преломления истории в художественной литературе выходит за пределы темы, сюжета, образа. Самое популярное обозначение, которое он получил — «историзм» - достаточно подробно разработано как в отечественном, так и в зарубежном литературоведении. Вместе с тем понятие «историзм» не принадлежит к узколитературоведческим терминам, не является обозначением одного из приёмов литературного ремесла. Чаще его характеризуют как принцип, однако, помещённый в ряд с другими известными принципами, такими, например, как психологизм, лиризм, он не достигает ясности, достаточной для подобной характеристики.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Несмотря на большой исследовательский интерес к формам проявления исторической реальности в художественной литературе, в области изучения этого явления в лирических жанрах достигнуто сравнительно мало. Так, осмысляя особенности отношения «человек и история» в лирике, А. И. Чагин заметил: «применительно к лирике понятие «историзм» до сей поры остаётся довольно-таки неясным, так как недостаточно ещё изучено своеобразие проявления этого важнейшего принципа художественного творчества в лирическом роде» [47: 116] — сказанное соотнесено с литературным процессом 60-80-х гг., однако с тех пор ситуация существенно не изменилась. Судя по тематике журнальных публикаций последнего десятилетия, фокус исследований переместился на проблемы концептуальной сферы искусства, более того, такие аспекты научного анализа, как историчность, историзм, стали менее популярными. Не стоит отрицать, что данное обстоятельство во многом явилось результатом негативной инерции той идеологии, которая постулировала фундаментальность этих понятий. Формы присутствия истории в искусстве теперь приобретают внутренне полемический характер сообразно разноплановой реальности, в которой наблюдает их художник. Даже сам период, на протяжении которого создавались произведения, послужившие материалом нашего исследования, внутренне неоднороден. Условно можно разделить его на подпериоды, так как в хронологическом плане часть вошедшей в него литературы получила название «советской». Согласно периодизации, предложенной X. И. Баковым, она соответствует четвёртому этапу развития адыгской литературы (60-80гг.), когда «заканчивается выравнивание жанров, в литературе доминирует исследовательское, аналитическое начало» [48: 383], остальная же часть, согласно той же периодизации (90-е гг.), мыслится современной, её особенность — в «консолидации отечественной литературы и творчества зарубежных авторов» [48: 383]. Вместе с тем - адыгская литература, как составная часть общероссийской действительности, ощутила в полной мере воздействие всех внешних факторов, сказавшихся в качественных преобразованиях культуросферы, потому представляется важным указать на нахождение точки отсчёта новейшей литературы в пределах избранного нами периода. Как пишут Скороспелова и Голубков, «условной границей, от которой можно отсчитывать начало новейшей, или современной литературы, логично считать рубеж 1980 - 1990-х г.г. Это как раз тот момент, когда совпадение внешних социокультурных и собственно культурных обстоятельств привело к совершено новому качеству литературы. Среди них — отказ государства от цензуры и от других форм «опеки» литературы, административных и экономических; утрата Союзом писателей роли литературного министерства и распад его на два оппозиционных союза; появление частных издательств и как следствие экономических факторов, определяющих книжную политику и книжный рынок взамен идеологических и административных; утрата политических и нравственных табу» [95: 8]. Потому обретает актуальность прежде всего сам способ проявления исторической сферы в художественном творчестве именно сейчас, «когда ценностное сознание отмечено знаком антиутопизма, стремлением распрощаться с упрощённо-оптимистическими представлениями о будущем» [18: 17].
Далее, специфика материала, осмысляемого в данной работе -поэтического слова - предполагает актуальность художественно-философского «среза» исследования. Ведь «язык в поэтическом произведении осуществляет себя как несомненный, непререкаемый и всеобъемлющий ... язык поэтического жанра единый и единственный птоломеевский мир, вне которого ничего нет и ничего не нужно. Идея множественности языковых миров, равно осмысленных и выразительных, органически недоступна поэтическому стилю.
Мир поэзии, сколько бы противоречий и безысходных конфликтов ни раскрывалось в нём поэтом, всегда освещен единым и бесспорным словом. Противоречия, конфликты и сомнения остаются в предмете, в мыслях, в переживаниях, одним словом - в материале, но не переходят в язык. В поэзии слово о сомнениях должно быть словом несомненным» [4: 99]. Такая «несомненность», «полновесность» поэтического слова в каждом отдельном случае порождает самодовлеющую смысловую систему, которую более правомерно рассматривать как философию, но философию художественную.
ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ является изучение форм присутствия исторического в конкретных художественных произведениях , адыгских авторов, с той точки зрения, что в исследовании поэтических произведений речь больше идёт не о наличностях, а о возможностях, которые образуют эти наличности.
В соответствии с поставленной целью представляется необходимым решение следующих задач:
Реконструировать общую логику варьирования теоретических представлений о соотношении реальности истории и художественного мышления;
исследовать специфику выражения концепции человека в историософской лирике;
представить некоторые модели и отношения, через которые в каждом отдельном случае выявляется интересующий нас предмет;
уделить особое внимание проблеме индивидуальной мифологизации;
выявить культурные основы художественной историософии адыгов.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследования состоит в том, что в нём впервые предпринимается попытка монографического изучения соотношения «человек и история» в адыгской поэзии. При этом в настоящей диссертационной работе впервые акцент исследования сделан на анализе текста отдельного произведения, осуществляемом по «оперативно-прагматической оси»: «автор - текст - читатель».
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве объекта исследования выбраны произведения отдельных представителей черкесской, кабардинской и адыгейской литератур: М. Нахушева, М. Бемирзова, X. Бештокова, А. Оразаева, М. Кештова, Н. Куека. В плане хронологии нами сознательно не привлекаются к рассмотрению произведения поэтов «так называемого послевоенного поколения, которые утверждаются в поэзии в 60-е годы» [60: 168] и творчество которых в обозначенный временной период вступает с дефиницией «позднее». Целостная концепция, на наш взгляд, достижима в том случае, когда существует возможность для полновесных отсылок ко всему контексту творчества, полноправно входящему в обозначенный период (невзирая на его внутреннюю неоднородность). С этой целью объектом исследования избраны произведения тех авторов, расцвет творчества которых пришёлся на 70-90-е гг. XX столетия.
СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ. Специальных монографических исследований, освещающих обозначенную тему, в современном литературоведении нет. Однако в том или ином контексте выдвинутая нами проблема затрагивается в трудах северокавказских исследователей, среди них: X. И. Баков («Национальное своеобразие и творческая индивидуальность в адыгской поэзии» - Майкоп, 1994), 3. X. Толгуров («В контексте духовной общности» - Нальчик, 1991), К. Шаззо («Художественный конфликт и эволюция жанров в адыгских литературах» - Тбилиси, 1978), У. М. Панеш («Типологические связи и формирование художественно-эстетического единства адыгских литератур» Майкоп, 1990). Наиболее значимые аспекты изучения национальной поэзии, а также логика её становления восприняты через концепции перечисленных трудов. Так, важной теоретической посылкой явилась для нас утверждаемая X. Баковым в статье «Адыгский литературный процесс сегодня» (1995) необходимость осмысления адыгских литератур (кабардинской, черкесской, адыгейской) в русле единого процесса: «в основе данных литератур лежит единый фольклор, национальная психология, богатейший кодекс «адыгэ хабзэ», общие для всех адыгов этические, эстетические, религиозные, философские взгляды, не говоря уже о языке» [48: 371]. Кроме того, существенен критерий объективности, отличающий подход названного учёного к адыгской литературе, в частности, поэзии, как результату ускоренного развития литератур, когда, с одной стороны, «отметается более или менее второстепенное и осуществляется лишь то, что обладает самой глубокой необходимостью» [13: 12], с другой же стороны, имеет место «поверхностное усвоение последних достижений современности, без глубокой их проработки» [13: 427].
Отталкиваясь от контекста северокавказской литературы 3. Толгуров затрагивает особенности осознанного историзма лирических жанров, которые представляют его «специфично, в формах глубинного течения мысли от видимого к философскому обобщению, в умении поэта в единичном находить закономерное, всеобщее» [58: 188]. Более подробно рассматривается специфика историзма в лирике российским исследователем А. Чагиным, в подходе которого привлекает метод раскрытия интересующей нас темы через «сокровенность воплощения чувства истории»: «историческое чувство целиком, без «остатка» переплавляется в переживание, не имеющее, на первый взгляд, никакого отношения к проблеме истории и личности» [47: 148].
Значимая в пределах нашего исследования проблема соотношения исторического и мифологического начал всесторонне рассмотрена как в трудах зарубежных так и в трудах отечественных исследователей, среди которых мы опирались на выводы: Р. Барта, Ф.Лосева, Ю. Лотмана, Б. Успенского, Ю. Барабаша, Ю. Тхагазитова.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ результатов исследования состоит в дальнейшей разработке одной из актуальных проблем современного литературоведения: художественной концепции человека в адыгской поэзии, а также соотношения в ней проблемы «человек и история». Кроме того, результаты исследования могут способствовать сравнительно-типологическому изучению адыгской поэзии и вьывлению общих закономерностей литературного процесса, а также национального своеобразия каждой из литератур, входящих в ту или иную типологическую общность.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ настоящего исследования состоит в том, что собранный и систематизированный материал, а также результаты исследования могут способствовать дальнейшему изучению национальной поэзии. Материалы исследования могут быть использованы при изучении истории адыгской литературы, при чтении специальных курсов на филологических факультетах гуманитарных вузов Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, а также включены в программы факультативных занятий в колледжах гуманитарных направлений.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ диссертационного исследования служит положение современного теоретического контекста о способности «художественного мира» к развертыванию из любой точки, когда все элементы произведения равноценны.
Методологическими принципами работы явились: целостность, структурность, идея взаимных зависимостей и обратных связей.
В освещении теоретического аспекта исследования применён культурно-исторический метод, в рассмотрении конкретных художественных произведений - метод структурного анализа.
В формировании концепции работы важную роль сыграли труды Ю. Лотмана, Б. Успенского, Л. Гинзбург, Т. Сильман, Р. Юсуфова, Г. Гачева; Северо-Кавказских учёных: X. Бакова, К. Шаззо, 3. Толгурова, Ю. Тхагазитова, А. Хакуашева, Ф. Урусбиевой, а также историософские теории Х.-Г. Гадамера, М. Хайдегтера, К. Ясперса и Э. Трёльча.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения и выводы диссертационной работы были изложены и обсуждены на научно-теоретической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения К. Ш. Кулиева (23-24 октября 2002 г.), а также опубликованы в статьях: «Художественная модель истории в поэзии Мухамеда Нахушева («Литературная Кабардино-Балкария», 2001), «Место звука и тишины в поэзии Афлика Оразаева» («Литературная Кабардино-Балкария», 2002), «Мифо-фольклорная ситуация как источник развёртывания лирической коллизии (на материале поэзии Мухаза Кештова») (Материалы региональной научной конференции, посвященной 85-летию К. Ш. Кулиева (23-24 октября 2002г.), «О философской лирике Хабаса Бештокова» («Ошхамахо», 2002), «Национальное как способ миропостижения» («Аспирант и соискатель», 2002).
Кроме того, диссертация обсуждена на заседании научного семинара «Актуальные проблемы литератур Северного Кавказа» (июнь 2003) и на заседании кафедры русской литературы Кабардино-Балкарского государственного университета (сентябрь 2003).
СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Цели и задачи определили структуру диссертационной работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии. Во введении даётся изложение теоретических и методологических принципов исследования, научная новизна работы, обосновывается её актуальность, теоретическая и практическая значимость. В первой главе «История как представление и литературный факт. (К постановке вопроса) предпринята попытка систематизации теоретических положений, отражающих, на наш взгляд, цельность историософского движения мысли, скрывающейся за кажущейся изменчивостью. Отмечаются особенности, являемые историософией в поэзии.
Искусство, главным образом поэзия, стремится к расподоблению массы. Поэзия взывает к субъективному, а значит — к личностному, такому личностному, которое находит доступ ко множественному, оставаясь, все же тем, что оно есть. Здесь верность своим истокам — залог относительной неслиянности с чем-то другим, выраженности, стало быть, подлинности существования. Это область культуры, рефлексивная природа которой, через индивидуальное, отдельное, автономное, пытается вернуть человеку самого себя. В данной главе отмечаются особенности, являемые историософией в поэзии. Лирика в силу своей природы отторгается от попыток обосновать её содержание, руководствуясь методами познания. Тем не менее, предполагаются критерии, позволяющие подвести лирику под определение «историософская». Рассматриваемая в первой главе проблема многосмысленности понятия «история» сталкивается с многосмысленностью поэтического слова.
Вторая глава нашей работы — «Художественная историософия адыгской поэзии» - представляет собой анализ художественных текстов, направленный на выявление конкретных способов семантизации соотношения «человек - история».
Для рассмотрения привлекаются произведения М. Нахушева, А. Оразаева, X. Бештокова, М. Кештова, Н. Куека. В центре внимания оказываются при этом как отдельные аспекты утверждаемой в художественной реальности историософской концепции, так и элементы, активизирующие в произведении линию историософских представлений. Важные пункты анализа — категория лирического субъекта и хронотоп как способ манифестации ценностной точки зрения.
Прослеживается вриативность художественной интерпретации истории М. Нахушевым, наблюдается определенная динамика, характеризующая его историософию.
Богатые возможности осмысления художественной историософии раскрывают принципы, согласно которым семантизируются детали, имеющие высокую частотность в творчестве художника. Так, настойчивость появления звука и тишины в качестве оттенков смысла, деталей, на которые приходится нагрузка поэтического подтекста, интенсифицирует в историософской лирике А. Оразаева такие стороны её восприятия, как время и память.
Основные линии художественной историософии X. Бештокова отчетливо заявляют о себе через традиционный для северокавказской литературы образ горы. Последняя воплощает оппозицию верха и низа, одну из сущностных человеческого сознания. Качественные новации образа стремятся перестроить систему, в которой он зародился. Привносимые исторической действительностью смыслы перераспределяют элементы относительно устойчивых схем, выделяют новые.
В разработке исторической темы М. Кештовым выделяется ряд произведений, где внимание автора направлено большей частью на «внутреннее содержание» великих событий. Причём историческое может извлекаться как частный момент из общей концепции мироустройства, может напрямую являться объектом размышлений. На наш взгляд, более глубокий смысл открывается в обращении к концептуальному строю произведения и так называемым «внефабульным моментам», как мы пытаемся показать на примере отдельного произведения («Конский топот»).
За всеми произведениями М. Бемурзова отчетливо ощутима целостность, которая является духовной предпосылкой его творчества и в то же время представляет величину, искомую автором в так называемой эмпирической действительности. Эта величина - адыгство, суть которой — постоянная обращённость в историю, ощущение её соприсутствия, что становится постоянным для творчества Бемурзова, варьируется же тип представленности истории.
Третья глава — «Мифо-фольклорные традиции и художественная историософия» - освещает на примере произведений X. Бештокова, Н. Куека и М. Кештова возможности мифологизма как сознательного и спонтанного приема творчества, и отдельных мифо-фольклорных ситуаций, выступающих источником развертывания лирической коллизии. При этом объединение понятий «миф» и «фольклор» в одном термине производится лишь на том основании, что кавказский эпос вобрал в себя большую часть мифологических сюжетов.
За заявкой на историчность, сказавшейся уже в названии анализируемого нами произведения X. Бештокова («Каменный век»), таится богатство смысловых ходов. Миф предстаёт здесь в нескольких модификациях. Рассуждая подобным образом, мы исходим из понимания мифа как процесса. Объектом изображения здесь является универсальное прошлое, и метод его изображения полностью ему соответствует.
В поэтической системе Н. Куека фольклор приближается к оборотной стороне действительности, созерцаемой в повседневности. «Извечность бытия», а не вечность, далёкое прошлое или бесконечность предопределяет принципы художественного миропостроения адыгейского автора. При этом законам извечности, которыми выверяется мир, может противостоять обытовленное сознание.
Поиск оснований, к которым подводит воссоздание реалий сегодняшнего дня, связан для М. Кештова с эпохой фольклорных героев. Импульсы пространства, запечатленного в мифо-фольклорных сказаниях, обнаруживают своё присутствие во многих сторонах бытия, составной частью которого выступает история. Кештов постоянно возвращается к одним и тем же фольклорным персонажам, к определенному ряду сюжетов и в этом отношении рискует показаться однообразным, но за повторением одних и тех же ситуаций, как мы пытаемся показать, могут скрываться разные ипостаси действительности.
Заключение подводит итоги научного исследования, формулирует выводы и положения, выносимые на защиту.
В «Библиографии» даётся список научной и критической литературы, сыгравшей свою роль в формировании нашей научной концепции.
История как представление и литературный факт. (К постановке вопроса)
Став объектом теоретической мысли, тот или иной тип присутствия истории в художественном творчестве не обрёл постоянного обозначения. Названия, отнесённые сейчас к этому явлению - «историзм», «новый историзм», «новый «новый историзм»», «историософия» - не только терминологически закрепляют его наличие, но свидетельствуют так же об его изменчивости, по крайней мере, вариативности. Так, например, в отношении одного из таких названий С. И. Кормилов в работе «Теоретические аспекты художественного историзма» замечает: «широта и многозначность понятия «история» неизбежно порождают и многозначность производного от него - «историзм» [47: 67]. Но несмотря на действительное обилие значений бесспорно одно: необходимость такой области, как история, порождена стремлением к обоснованию человека, желанием увидеть более отчётливые очертания его жизни, не важно, какие внешние обстоятельства подвигают его к этому. Потому не случайно, что греческое понятие, к которому возводят слово история (krropia), соединяет в себе способность человеческого мышления и духа: «расследование», «узнавание», «установление» [50: 27]. Бесспорно также, что от момента объективации этого стремления в слове, приобретает место некий смысловой сдвиг, который по сегодняшний день сопровождает понятие истории. В этом отношении знаменателен отмечаемый учёными переход, совершённый в римской историографии от способа узнавания к узнанному, «т. е. центр тяжести был перенесён с исследования былого на повествование о нём ... В эпоху Возрождения возникает третий смысл понятия «история» - род литературы, специальная функция которой заключается в установлении и фиксировании истины» [50: 27]. В этих переходах для нас важно то, что бывшее некогда принципом явления или же всего лишь его признаком, стремится предстать его сутью, отчего в определениях исторического всегда присутствует какой-то неделимый остаток, что же касается литературного творчества, то оно благодарно вбирает в себя все срединные моменты этих переходов.
С философской точки зрения можно найти этому обоснование в размышлениях А. Ф. Лосева о роли выражения, безотносительно к тому, в какой сфере оно осуществляется: «Покамест смысл берётся сам по себе, как таковой, - он - не выражен. Чтобы получилось выражение, необходима возможность для смысла быть в той или иной обстановке, в той или иной среде; необходимо ему быть отождествлённым с самим же собою, но в моментах пребывания своего в сфере инаковости ... Выражение возникает тогда, когда смысл заново конструируется, но уже алогическими средствами, вне-смысловыми методами» [34: 767]. И далее: «Понятая предметность, или её имя, её слово, есть предел инаковостной конструированности её в той или иной или в любой среде и материале» [34: 768]. Проблема выраженности, или инаковостной конструированности, в данном случае важна для нас постольку, поскольку материал, в котором представлен интересующий нас смысл, и материал литературного творчества — один (в отвлечении от специфики восприятия предмета) — слово. И, вероятно, особенности этого материала по большей части навязывают нам принципы, которые мы присваиваем историческому видению. Действительно, так называемый исторический нарратив во многом формирует смысл истории, а уже сложившийся образ этого нарратива, в свою очередь, подготавливает её восприятие, как пишет Ю. М. Лотман, «закономерный процесс, развивающийся во времени, можно представить как повествовательный текст. Глубоко неслучайно, что на наше бытовое представление об истории наложил отпечаток образ исторического повествования. Между цепью реальных событий, организованных причинно-следственной связью, лежащей в основе исторической закономерности, и цепью повествовательных эпизодов, организованных законами языка и логикой рассказа, как бы существуют отношения подобия. Между тем в любом связном тексте, как и в любом закономерном процессе, нарастает избыточность: чем больше пройденный нами отрезок, тем легче предсказать ещё не пройденную часть траектории» [37: 468]. Последняя мысль может послужить вступлением к нашим размышлениям о методе историзма.
Принцип историзма универсален, поскольку связан не с самим фактом обращения к тому или иному жизненному материалу, будь то современность или далёкое прошлое, а с возможностями художественной мысли, во многом предопределяя уровень авторского обращения, обобщения и глубину познания жизни. Необходимо подчеркнуть, что различны формы и интенсивность проявления историзма на разных этапах литературного развития, различно конкретное художественно-философское наполнение этого понятия в историческом движении литературы, но неоспоримо, что в искусстве XX века историзм как кардинальный принцип познания и художественного изображения действительности приобрёл поистине решающее значение.
Соотнеся действенность принципа историзма с качеством художественного прочтения истории, попытаемся проанализировать природу и специфику историзма современной национальной поэзии. Само по себе обращение художника к истории, разумеется, вовсе не гарантирует верности историзму как способу художественного мышления, так как автор может, сознательно или бессознательно, придерживаться и принципа антиисторизма, который нередко предстаёт под знаком «бегства» от современности и её проблем. Нередко антиисторизм сказывается в гипертрофированном восприятии болевых точек исторического процесса в ущерб правде целого, в целенаправленной романтической гиперболизации тех или иных событий национальной истории, в чрезмерной идеализации отдельных исторических деятелей. В целом же художественное переживание истории в лучших своих образцах всегда стремилось к открытию диалектической связи времён, к воссозданию полноты исторического времени в судьбе отдельной личности и народа. Сегодняшняя литература свидетельствует о том, что только в проникновении в глубинную суть истории может проявиться опыт современности, и, в то же время, подлинно современным может быть только взгляд на историю, который отмечен желанием постичь прошлое в его драматических противоречиях как предпосылку и начало настоящего.
Когда в отношении художественной литературы употребляется термин «историзм», за ним встаёт организованная последовательность во многом уже откристаллизовавшихся понятий: последовательность, взаимосвязь, память, взаимообусловленность, развитие. Кристаллизация представлений вообще характерна для диалектики культурного развития, но существует также тенденция к преодолению зависимости от сложившихся представлений, о чём будет сказано ниже, на данном же этапе стоит заметить, что в отношении историзма она приводит к тому, что многие стороны исторического видения оказываются за пределами историзма.
Метафорические смещения исторического мира (Мухамед Нахушев)
Переживание истории в ретроспекции и «совмещении» времен - предмет, коснувшийся многих адыгских авторов. В коротких пределах жизни (1944 -1994) и творчества Мухамеда Нахушева он обрёл достойную интереса вариативность художественной интерпретации и сложился в своеобразную систему.
Каждая эпоха порождает идеи, претендующие на всеобщность. Возникновение же современных идей преследует характерное явление, преобразующее глобальный пафос всеобщего в «общее место». Образцом этому могут послужить популярные во все времена призывы к всечеловеческому единению, чья необходимость особенно заострилась в наши дни. Необходимость остается, однако, не препятствуя при этом ни нереализуемости идеи, ни переходу ее в слишком привычное созвучие. То ли смысл желаемого громоздок и неконкретен, то ли нет достаточных способов его воплощения в жизнь, но, даже объективируясь, идеи чаще всего предстают в самых примитивных формах. Так, межчеловеческое объединение, всеобщая коммуникация нуждаются в упразднении границ, отчуждающих людей друг от друга, и, в частности, стирания межнациональных различий, что, в свою очередь, нередко оборачивается уничтожением национальных черт, пренебрежением национальными традициями, а, стало быть, и культурой как таковой. На этой почве буйно распространяются мечты о выработке синтезированной культуры и единого языка общения. Недостаточно озаренные сознанием, эти мечты таят известную долю оргийности, которая, в конечном счете, наделяет жизнь лишь свободой безответственности. Может ли человечество, изживающее свои истоки, достигнуть реального единства? Если может, то на чем будет основываться последнее? И не исказятся ли цели, движущие им? Эти вопросы требуют нового видения истории, раскрывающего то, что не дано науке.
Не только достижение, но и главный недостаток научного знания - это диктат объективности, на пути к которой теряется «человек», (что, кстати, достаточно четко фиксируется лаконизмом языковых обозначений: история периода, страны, отечества и проч. — обобщения, тяготеющие к абстракциям), зато появляются массы, пресловутые двигатели истории, из ведущего, «двигающего» начала превратившиеся в составную часть некоего механизма, «движок».
Искусство, а главным образом поэзия, во многом опираясь на свою полисемичность, стремится к расподоблению массы. Поэзия взывает к субъективному, а значит — к личностному, такому личностному, которое находит доступ ко множественному, оставаясь, все же тем, что оно есть. Здесь верность своим истокам — залог относительной неслиянности с чем-то другим, выраженности, следовательно, подлинности существования. Это область культуры, рефлексивная природа которой, через индивидуальное, отдельное, автономное, пытается вернуть человеку самого себя. Хотя не исключаются и крайности, что непосредственно касается национальных литератур: нередко углубленность в единичное, вызванная опасностью забвения, провоцирует отрыв от того смыслового общего, вне которого сама категория единичности вообще перестает быть таковой. Но, с другой стороны, необходимо учитывать самозначимость единичного (в нашем случае - историю отдельно взятого народа), поскольку оно, в том или ином виде, конструирует общее. Напряжение, существующее между этими тенденциями, пронизывает рассматриваемые в предлагаемой работе произведения Мухамеда Нахушева, черкесского поэта, перу которого принадлежит сборник под названием «Адыгэ нэпсхэр» («Адыгские слезы»), изданный в 1995 году (посмертно). Основываясь на материале ряда стихотворений этого сборника, попытаемся выявить элементы, моделирующие историческую реальность в поэзии Нахушева.
Чаще всего основу сюжетной схемы стихотворений М. Нахушева составляет со-противопоставление двух начал: прошлого, как идеи, и момента настоящего, степень организации которого зависит от степени осмысленности прошлого. Идея былого может скрываться в подтексте произведения, либо эксплицироваться в цепочке образов. Среди них ведущее место отводится образам Русско-Кавказской войны, генетическая связь с которой во многом определяет характер видения адыгскими авторами исторического процесса как такового
Нередко воссоздание кровавых событий и их последствий сопровождается «высвечиванием» природного пространства: отношения между двумя мирами, человеческим и природным, приближаются к метонимическим («Лъэпкъым» - «Народу»; «Маржэ, адыгэхэ» - «Маржа, адыги»), метафорическим, либо строятся по принципу параллелизма («Адэжь лъахэ» -«Родина отцов»). Атрибутика природы, являющейся «основанием истории» (К. Ясперс), объединена здесь в стремлении стать «знаком» человеческого бытия и в этом смысле принимает вторичную, опосредованную, почти иллюстративную функцию: Черное море вздрагивает, когда течет кровь народа, небо горит от страшного зрелища, горы привстают, оплакивая изгнанников, океан скорбит о погибших, он же подает пример мужества потомкам. Чем вызвана эта вторичность? Видимо тем, что сфера человеческой истории, в отличие от «истории» окружающего мира, преимущественно зиждется на качественном преобразовании ритмов, заданных Вселенной (цикличность, повторяемость и т. д.), отчего природа, строго следующая последним, даже в одухотворенном виде (плачущий океан; небо, роняющее слезы) оказывается замкнутой в своих пределах и остается в такой позиции лишь иллюстрацией или образцом. В этом отношении опыт человечества целиком и полностью личностей, ряд произведений в качестве меры, систематизирующей этот опыт, выдвигает мораль. Однако вневременные ценности, привычно мыслимые как вечные, становятся и впрямь вытесненными за пределы реального времени. Отсюда — переосмысление подвигов нартских героев в стихотворении «...Нартхэм гъуэгуанэу кьакіуам» («...На пути, пройденном нартами») и скрытая ирония, интонирующая стихотворение «Ди шДыхуэ къатенакъым» («Они перед нами не в долгу»), где показательно уже то, что перечисленные приоритеты адыгской культуры переплавлены в форму сладостных видений.
Постепенно пополняясь новыми смыслами, упомянутая схема со-противопоставления расширяет пределы узконационального, внедряясь в общеисторическое, более того, преобразуясь в средство его выражения. Так происходит в «Адыгских слезах».
Образ звука и тишины как способ прочтения исторического (Афлик Оразаев)
Человек имеет возможность осмысления чего-либо постольку, поскольку осмысляемое всегда присутствует в той или иной форме, то есть по-своему выражено. С этой позиции любые вещественные и невещественные составляющие нашего мира оказываются его признаками, "выраженностями". К таковым относятся тишина и звук, явившиеся в данном случае объектами наших наблюдений.
Нельзя сказать, что тишина и звук достигают в своем развертывании статуса темы или хотя бы ведущего мотива творчества Афлика Оразаева. Ряд стихотворений, в которых они выступают центром, организующим семантическую структуру, относительно невелик, из опубликованного по сегодняшний день, его могли бы составить: "Дакъикъэ" ("Минута"), Щ1ыбым уэшхыр зэшыгъуэу щошхыр" ("На улице идет тоскливо дождь"), "Адыгэ уэрэдыжь" ("Старинная адыгская песня"), "Уэрэд къызэрыгуэкГ ("Простая песня"). Однако настойчивость появления звука и тишины в качестве оттенков смысла, деталей, на которые, кстати, чаще всего приходится нагрузка поэтического подтекста, не может быть незначимой. Тем более что поэзия, ставшая фактом, случайного и несущественного не знает.
Детали, как правило, выполняют вспомогательную функцию, подчиняются чему-то большему, отчего их рассмотрение нуждается в движении от уже обозначенного смыслового целого, в процессе чего значения вспомогательных элементов "вылепливаются" контекстом. В произведениях, фрагменты которых мы здесь приводим, они интересны тем, что активизируют в историософской лирике Оразаева такие стороны её восприятия, как время и память.
В оразаевских стихотворениях звук принимает разные модификации, особо широко представлены здесь "нерукотворные", природные звуки: стук, вой, скрип, стон, лошадиное ржание, воронье карканье и т.д., наряду с этим специфические свойства концентрирует в себе связанная с ними отношениями взаимной причастности тишина. Элементарное в тишине - отсутствие звука: Никакого звука не нахожу на земле. Раскрыто моё окно, Беззвучно во дворе, Уснувшая улица Будто покинута всеми людьми ("Дуб")
В произведении, откуда взяты эти строки, тишина - фильтр, через который проходит мысль, прежде чем получить звуковое оформление. Мысль следует за жизненными этапами дуба, воплотившего в себе историческое время, (И дубу этому, говорят/Мир ровесник./Поэтому этот дуб/ не смогла сломить жизнь) и память этого времени (Дуб все прекрасно помнит./ Ругаясь на чужом языке,/ Угрожая кривым кинжалом,/ Один эпизод, окаменевший в его памяти/ Проступает на его стволе). Но "окаменелая" память молчит, и молчание-тишина здесь - не просто пауза в разговоре, ожидание слова, но, что страшнее, - отнятое слово. С тех пор как научился я читать, Ищу и не нахожу, мой народ, Правду твоей истории, Хотя бы одну книгу, чтобы вычитать из нее минувшее, Не знал жалости, Не вспомнил ни о какой жалости твой враг Когда вместе с твоей историей Проливал кровь и твоей письменности. Попутно заметим, что история народа в стихах адыгских авторов чаще всего имеет один "письменный" источник - горы.
В стихотворении "Дуб" тишина обретает визуальный аналог - это туман, лишающий все видимое отчетливости и замутняющий мысль (та же комбинация встречается в венке сонетов "История") : "Туман стоит, / Туман дымкой стоит над мыслью, /О, если бы заговорил, / Если бы заговорил, слушал бы его весь мир, /И твоей истории, моя родина,/ Этот дуб послужил бы свидетелем". Ожидаемое слово никогда не будет произнесено (озвучено), но звук, тем не менее, всегда будет нарушать тишину:
Из вершины дерева одна ворона, Лелея сладостные надежды, выбирается. Молчит земной шар, Отодвигается мало-помалу туман. Дуб, как и прежде, безмолвствует. Проголодавшись, ворона кричит
Издать голодный крик - самое показательное и, вероятно, лучшее из всего, что могла сделать эта ворона: время биологическое, "растительное", нуждающееся в пище, со свойственной ему бесцеремонностью сплетается с историческим временем. Но у этой бесцеремонности свое право и своя глубина, поскольку историческое базируется на биологическом, недаром произведение завершается ростом дуба, но ростом - в тишине. Недоверчиво сквозь туман Проглядывает бледное солнце. Дуб все так же тих. Мне кажется, что он продолжает расти.
В состоянии поиска отнятого слова самозначимость обретает стремление к контакту и способность слышать, даже тогда, когда она вынуждена принимать "компенсацию" наподобие вороньего крика. Дуб не заговорит, так же, как и горы ("Ди бгыжьхэр щымщ" - «Наши вершины безмолвны..."), а в тишину вторгается другое: стук дождевых капель о стекло, вой ветра и т. д. — всё, что вовлекаясь в сферу поиска, оказывается причастным искомому и, подчас, инициирует сам поиск. Такая альтернатива предоставляется деталями. Но, несколько отклоняясь от исследуемого предмета, обратим внимание на то, что невозможность озвучивания слова нельзя путать с отрицанием последнего как такового. Вообще, в языке адыгов "история" ("тхыдэ") не случайно родственна таким словам, как тхыгъэ и тхыбзэ ("письменность"; "письменное произведение"), т.е. историческое осмысляется через фиксирование словом и в слове. Это фиксирование, лишая нас подступов к истории на одном уровне (отсутствие письменности), открывает другую возможность, хотя менее явную: мы говорим о самом языке, ведь в нем, как писал Г-Г.Гадамер,"заключена хранящая и оберегающая сила". Но эта возможность тоже остается скрытой, пока не будет задействована способность вслушивания. К ней апеллирует и поэзия.
Мифическая «логика» истории («Каменный век» Хабаса Бештокова)
За заявкой на историчность, сказавшейся уже в названии поэмы Бештокова, таится богатство смысловых ходов. Отличительной чертой этого произведения является то, что миф предстаёт здесь в нескольких модификациях. Говоря так, мы исходим из понимания мифа как процесса. Объектом изображения здесь является универсальное прошлое, и метод его изображения полностью ему соответствует.
Когда в отношении современных произведений возникает необходимость обращения к мифическому, негласно мы оказываемся готовыми принять его как самый верный способ приближения к Сверхзначимому, или, в крайнем случае, как более или менее удачную заявку на такое приближение. И сегодня для нас обретает ценность не столько факт самоочевидной связи авторского сознания с архетипическими прообразами (что равно проявляется как в привлечении элементов мифологизма, так и в их отталкивании), сколько факт раскрытия мифа как интегрирующего начала человеческого бытия. Но что такое миф? Большинство критических работ уже давно оперирует им как чем-то само собой разумеющимся, как полноправной литературной категорией, но категорией, в отличие от остальных, без чёткого определения. И небезосновательно: во-первых, существует опасность лишить его того магического ореола, которым он окружён; во-вторых, наблюдение за мифом в одном качестве чревато, как выясняется, вторжением других его качеств и даже превращением самого наблюдения в одно из них. Ведь, как писал Р. Барт, «реализм и миф не испытывают друг к другу никакой антипатии. Известно, до какой степени мифологична наша так называемая «реалистическая» литература (включая аляповатые мифы о реализме) и как часто наша «нереалистическая» литература имеет, по крайней мере, то достоинство, что она минимально мифологична»[3: 55]. Но словом «миф» связываются понятия подчас далеко отстоящие друг от друга как в эпохальном, так и в смысловом плане. На наш взгляд эта связь вовсе не случайна. Скорее всего, перед нами лишь разные формы единого подвижного процесса, имеющего путь ко многим проявлениям человека. В связи с чем, коль скоро объектом нашего внимания оказалось произведение поэтическое, считаем необходимым сразу отбросить версию о поэтичности мифа. Возможность независимого существования поэзии от мифа и мифа от поэзии убедительно доказана А.Ф. Лосевым. В формах своего обнаружения миф совершено свободен, и такая свобода, непредсказуемость наводят на мысль о его самозначимости, а следовательно, некой отделённости. Но, как ни парадоксально, миф, при всей- своей независимости, в свершившихся проявлениях никак не отделим от избранной им формы. Дело в том, что с обретением возможности осознавать миф, оценивать его, мы утратили другую: перестали быть Его частью, теперь он — Наша часть. Ключом этой формулы является одно слово - дискретность. Дискретность определяется как прерывность, раздельность, но это и начало измельчания. Измельчавшее трудно увидеть, его можно лишь угадать. Потому нам приходится угадывать миф, странным образом защищая доводами рассудка интуитивные прозрения. Миф берёт начало в древности. В идеале (то есть как древняя форма сознания) он целостен, целостен хотя бы потому, что не осознаёт себя.
Этим он дорог литературе. Он ничего не объясняет, не оправдывает. «Миф не отрицает одно, чтобы понять другое, - он пытается понять единство всего сущего». Он и есть единство сущего, но явленное как «...какая-то общая точка схождения... вещей, какой-то общий и единый взгляд на них, в котором моментально потухает их естественная непримиримость и они вдруг оказываются сразу объединёнными и примирёнными»[36:70]. (Чтобы постичь такое, вовсе не обязательно придерживаться схемы «мир -стало быть, дружба»). Но сознание нередко подменяет ценность обсуждаемого феномена идеализацией чего-то иного. Порой мы стремимся приблизиться не столько к великим реальностям духа, сколько к периоду или к тому состоянию, в котором они якобы открывались сами собой. Однако для древнего человека миф — жизнь единственно возможная, для нас же — избираемый путь. И мы используем его, используем для соединения, примирения того самого прерывного, раздельного. Даже тогда, когда миф возникает в творческом сознании спонтанно, сама возможность осмысления и переосмысления этого свидетельствует о превращении его в средство выражения.
Миф древнего человека изначально нераздельный и примирённый, для нас же истиной становятся нераздельность и примирённость как таковые. Самоценность обретает форма Формы. Но и в таком виде миф являет неистребимую силу. В литературе мы находим множество тому подтверждений. Можно долго рассуждать о формах мифического в творчестве писателей: иногда миф применяется как приём, обладающий наиболее концентрированной иллюстративной способностью для передачи авторской идеи, особо отчётливо это наблюдается в произведениях писателей-классицистов. Миф может возникать в творческом сознании и спонтанно, в этом случае он обнаруживается в виде некоей прасхемы (произведения писателей романтиков, современная литература). Но о каких бы формах ни шла речь, необходимо иметь в виду, что границы между ними не могут быть взаимонепроницаемыми. Разве застрахован писатель, сознательно прибегающий к мифу как к явлению застывшему, от его спонтанного вторжения в ткань произведения?